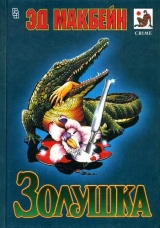
Текст книги "Золушка (сборник)"
Автор книги: Эд Макбейн
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Глава 8
В Калузе нет «золотого» пляжа.
Вы не найдете здесь территории, где особняки или поместья не располагались бы бок о бок. Ближайшим, оберегаемым для самых зажиточных семей участком считается, должно быть, остров Фламинго – искусственная насыпь в бухте, южнее дамбы Каотеса. Но даже это место, несмотря на то что многие дома обходятся их владельцам в пятьсот тысяч долларов, – скорее тщательно ухоженный и возделанный клочок побережья, нежели растянувшийся на многие мили роскошный «золотой» пляж. Богатые обычно покупают именно пространство, не участки. Однако при тамошней скученности это просто невозможно для всех желающих.
Лишенные обширных территорий богатые особняки частенько возникают как из-под земли, приводя в изумление жителей Калузы. Вы проезжаете мимо целой кучи лачуг, сбитых из толя и дерева, сворачиваете за угол – и внезапно попадаете на ухоженную лужайку с изумрудной травой. Лужайка окружена кованой решеткой, за ней работает поливочная машина, а в глубине высится дом, ослепительно белый в солнечном свете. Или вы вдруг утыкаетесь в высокую стену, огораживающую кусок берега, и уже знаете, что за ней – миллионный особняк, и плавательный бассейн, и теннисный корт. Подобно Топси из «Хижины дяди Тома», Калуза развивается, прогрессирует, преуспевает.
Мой коллега Фрэнк, однако, пророчествует, что когда-нибудь все это богатство превратится в элегантный, залитый солнцем хлам. Он, правда, не совсем уверен в той части прогноза, где речь идет о солнце. Фрэнк утверждает (и он прав), что январь и февраль в Калузе могут быть хуже, чем в любом другом месте в США, потому что вы-то настроены на тепло, а когда температура ночью вдруг падает до сорока по Фаренгейту – вы не готовы к таким выкрутасам. Фрэнк надеется, что, когда программа так называемого «Зеленого дома» в Нью-Йорке будет полностью реализована, там установится такой же теплый и мягкий климат, какой иногда бывает в Калузе. «Иногда» – любимое словечко Фрэнка. Когда я спрашиваю своего коллегу, почему бы ему не вернуться в Нью-Йорк, раз уж он не может привыкнуть к местным условиям, Фрэнк возмущается:
– Что – и отморозить себе кишки?
Фрэнк не еврей, но любит украшать свою речь еврейскими словечками, якобы они выдают в нем жителя Нью-Йорка. Это не единственная странность Фрэнка; у него их много.
Особняк Уиттейкеров на Бельведер-роуд был достопримечательностью Калузы. Выходивший фасадом на залив, он отхватывал шесть акров у прибрежной зоны и был окружен еще шестью акрами невозделанной земли. Купил эту землю Гораций Уиттейкер еще в те дни, когда побережье было усеяно рыбачьими деревушками. Эти дополнительные шесть акров не обрабатывались намеренно, их оставили в первозданном виде. Миновав кварталы с тысячедолларовыми особняками, вы переходили как бы в другую эпоху и получали возможность увидеть город таким, каким он был до того, как подвергся перестройке по разным схемам и планам.
И сейчас еще можно приобрести двенадцать (или даже двенадцать сотен) акров необработанной земли в животноводческом округе, в двадцати минутах езды от Калузы. Но ее не купишь в городе. Жутко даже представить, сколько могут стоить сегодня двенадцать акров земли на побережье.
Особняк на Бельведер-роуд не имел опознавательных знаков. Дорога пролегала через кварталы новых, современных зданий. И вдруг все они оставались позади – дорога обрывалась. Впереди высился лес, где рос дуб и кубинский лавр. Природа здесь сохранялась в диком, первозданном виде. Единственный признак цивилизации – подъездная дорожка, мощенная щебнем и достаточно широкая, чтобы по ней мог проехать автомобиль. Дорожка лениво вилась между эвкалиптами и поросшими сосной холмами. В тени деревьев сверкали пруды.
Постепенно дорожка становилась шире, на ней уже свободно могли разъехаться две машины. Обрамленная кустами бугенвиллей и гибискуса, она пролегала вдоль бухты, замыкаясь в кольцо перед великолепным зданием, расположенным на берегу.
Дом был построен в испанском стиле, которому отдавали предпочтение представители первой волны богатых поселенцев в Калузе. Массивные оштукатуренные стены, крытая оранжевой черепицей крыша, трубы, стоявшие как часовые, куда ни глянь – арки и ниши, и вся эта роскошь в окружении ошеломляющего разнообразия пальм и цветущих растений.
Я поставил машину недалеко от ворот, подошел к дому, поднял тяжелый, отлитый из железа дверной молоток и ударил им раз, другой…
Женщина, открывшая дверь, походила на тюремную надзирательницу или санитарку в психиатрической лечебнице. У меня мгновенно возникла ассоциация с сиделкой, которую Сара окрестила Брунгильдой. Женщина, представшая передо мной, была невысокой, коренастой, с волосами серо-стального цвета и глазами под стать волосам, в белой одежде, белых, на резиновой подошве туфлях. От нее веяло ледяным холодом.
– Да? – вопросила она.
Я даже опасался услышать немецкий акцент.
– Я Мэтью Хоуп, – сообщил я. – Миссис Уиттейкер ждет меня.
– Да, пожалуйста, входите, – ответила она. – Я – Патриция, экономка.
Я последовал за ней во внутренний дворик. Полукруглые, с зелеными козырьками окна выходили на фонтан и выложенный голубой плиткой бассейн в центре. В бассейне плавали золотые рыбки. Бил фонтан. Патриция открыла застекленные двери, и мы внезапно очутились на широкой ярко-зеленой лужайке, которая отлого спускалась к плавательному бассейну, сверкающему в солнечном свете на фоне залива, протянувшегося до самого горизонта.
– Миссис Уиттейкер? – произнесла Патриция, и женщина, сидевшая у бассейна, повернулась к нам.
Сара говорила мне, что ее матери шестьдесят три года, но она выглядела лет на десять моложе. На ней была белая элегантная пижама, перехваченная в талии вязаным золотистым поясом, который гармонировал с золотистыми сандалиями и светлыми, отливающими золотом волосами. Глаза зеленые, как у Сары, и почти такое же телосложение – узкой кости, – производившее впечатление хрупкости. Увидев меня, она сразу же поднялась.
– Мистер Хоуп, – она протянула мне руку, – вы очень добры, что пришли.
Я звонил ей утром, спрашивал разрешения посетить ее сегодня. Она отвечала неохотно, а теперь обставила дело так, словно послала мне специальное приглашение.
– Очень любезно с вашей стороны – встретиться со мной.
Я пожал ей руку, ощутив крепкое, сильное пожатие в ответ.
– Вздор, – сказала она. – Я понимаю, что вы пытаетесь вытащить Сару из этого ужасного места. Это устроило бы и меня как нельзя более.
Я уставился на нее.
И не увидел ни хитрости, ни коварства в ее открытом взгляде.
– Посидим здесь? – предложила она. – Такой великолепный день. Я попрошу Патрицию принести нам чай и печенье.
Действительно, день был изумительный. Кругом царила безмятежность. Пеликаны грациозно парили в небе. У края воды белая цапля чистила клювом перья, затем с достоинством удалилась. Мы устроились за стеклянным столиком, я – на солнечной стороне, миссис Уиттейкер, заняв место напротив меня, укрылась в тени зонта.
– Вы беседовали с Сарой, не так ли? – спросила она.
– Да, беседовал.
– Она, кажется, в прекрасном состоянии. Я не могу себе представить, почему они настаивают на том, чтобы удержать ее.
– Вы давно навещали ее, миссис Уиттейкер?
– Где-то в прошлом месяце, я полагаю. Я бы навещала ее чаще, но доктора утверждают, что это не приносит ей пользы. Можете представить себе что-нибудь более противоестественное? Посещения родной матери не приносят ей пользы! На самом деле мы прекрасно провели время, когда я виделась с Сарой в последний раз. Я принесла книги, которые ей хотелось прочесть. Она жадно поглощает книги. Несколько шпионских романов, последний Одлам – названия невозможно запомнить. Сара любит шпионские романы, всякие хитросплетения, она просто обожает их. Ле Карре, например. Я принесла ей один роман Ле Карре в мягкой обложке. Сара, как мне показалось, была тронута. Ей, должно быть, надоело там… Проводить целый день с людьми, которые… вы же знаете… – Она стиснула ладони между колен. – Где же Патриция? Я ведь просила ее принести горячего чаю, считается, что он охлаждает лучше, чем чай со льдом. Это как-то связано с потоотделением и испарениями… Не уверена, что я разбираюсь во всем этом, но китайцы именно в жару пьют чай. Правда, сегодня, кажется, не слишком печет. Сейчас очень приятно, вы не находите?
– Да. И здесь такое чудесное место.
– О да. У Горация был хороший вкус. Он, знаете ли, купил много земли, когда приехал в Калузу, но всегда имел в виду именно это место, мечтая о своем будущем доме. О доме, который он построит, когда женится. Я встретилась с ним позже. Гораций был значительно старше меня – и гораздо богаче. – Она улыбнулась и снова напомнила мне Сару. – Мы с ним вращались в разных кругах. Помнится, когда мы познакомились, я сказала матери, что он слишком стар для меня. И безобразен, добавила я. Хотя он вовсе не был безобразен, напротив, довольно привлекателен. Но мне исполнилось девятнадцать, когда мы встретились, а он был на десять лет старше. И казался мне древним старцем. Я долго ему отказывала и… О! Вот и Патриция, она, наверное, проделала путь до Бостона.
Экономка, впустившая меня в дом, торжественно ступала с подносом, загруженным чашками, блюдцами, ложечками, салфетками. Имелась также небольшая ваза с фруктами и тарелочка с закусками.
– А, Патриция, так вы принесли и фрукты? Как это мило! – сказала миссис Уиттейкер. – И не забыли ложечки? Ах, вот они. Мистер Хоуп, вам с молоком или с лимоном?
– Пожалуйста, с молоком.
– Сахар? Один кусок? Два?
– Один, пожалуйста.
– Угощайтесь, – сказала она, наливая чай. – Спасибо, Патриция, все чудесно.
Патриция кивнула и направилась к дому. У застекленной двери она задержалась и оглядела залив. Я проследил за ее пристальным взглядом. Примерно в ста ярдах от берега я увидел стоявшее там судно. Я снова взглянул на Патрицию. Она все еще смотрела на море, не обращая внимания на то, что я наблюдаю за ней.
Патриция приоткрыла одну из створок дверей, ведущих в дом. Ее рука покоилась на дверной ручке. Патриция колебалась. Солнечный луч упал на стекла и отразился в воде.
Патриция постояла еще немного и вошла в дом.
– Ну, так на чем мы остановились? – Миссис Уиттейкер отодвинула серебряный чайничек. – Или, вернее, на чем остановилась я? Я, кажется, полностью монополизировала беседу. Но вы ведь для того и пришли, не так ли? Послушать, что я скажу.
– Вы рассказывали, что сначала отказали мистеру Уиттейкеру.
– Подумать только! – Она засмеялась. – Я довела беднягу до помешательства. Можно подумать, он предлагал мне жизнь в рабстве, в арабском серале, а не замужество. Но, как я уже говорила, мне было всего девятнадцать, а ему – около тридцати, и разница в возрасте для меня в то время много значила. Он добивался своего – о, он был очень настойчив, мой Гораций.
Я взглянул на корабль в открытом море и увидел вспышки солнечного света на линзах бинокля. Явный знак того, что за домом кто-то наблюдал. В этом как будто не было ничего странного. Люди, катающиеся на лодках, постоянно разглядывали дома на берегу. Но чтобы так открыто и нагло изучать в бинокль дом и его обитателей, как это делали те, на корабле… Я слушал вполуха, что говорила миссис Уиттейкер. Она рассказывала, как ухаживал за ней Гораций, как она не раз отклоняла его предложение и наконец уступила жизненной силе и энергии, как она выразилась – «неистовой витальности», напрочь отсутствовавшей у многих гораздо более молодых мужчин. Я не отводил глаз от судна, где по-прежнему вспыхивали яркие солнечные блики.
И я размышлял, о Господи, я размышлял…
Патриция подавала им сигналы – людям на корабле.
Она сообщила им, что я приеду. Меня ждали. А теперь она хотела дать им знать, что я здесь.
Она манипулировала с застекленными дверьми. Точно так же можно подавать сигналы с помощью зеркальца.
И вот кто-то на корабле следит за нами.
Доктор Склокмайстер, несомненно, находился на корабле. А возможно, и Премьер-министр, оправдавший помещение Сары в психлечебницу, Марк Риттер. Оба они наблюдали за нами. За миссис Уиттейкер и мной. Может быть, кто-то на корабле умел читать по губам? И, значит, знал, о чем мы говорим? Впрочем, им уже известно, что я хочу вытащить Сару из «Убежища», где они держали ее по неясным для меня причинам. Кто-то, кто умел читать по губам, пытался подслушать наш разговор, направив на нас бинокль. Миссис Уиттейкер сказала, что стремится забрать Сару оттуда, но это ложь, и теперь они проверяют, хотят убедиться, что она справилась с ролью, которую ей поручили, – ролью Любящей Матери. Любящая Мать ждет не дождется, когда к ее Бедной Маленькой Дочурке вернется рассудок, чтобы она могла возвратиться домой. Ложь, все ложь. Сторонники Распутной Ведьмы шпионят за Белым Рыцарем. Белоснежка под замком. Бинокль направлен на нас. Жужжание миссис Уиттейкер… вышла за него замуж, когда ей было двадцать три года, ему – тридцать три, почти тридцать четыре. Не было детей до тридцати восьми – опасный возраст для родов, – но каким чудесным ребенком была Сара, каким ласковым! Кто бы мог предположить, что произойдет такое! Никто! Никогда! О моя бедная дорогая дочурка… А бинокль неотрывно глядел на нас, и корабль стоял неподвижно.
– Любопытные, – сказала она внезапно, прервав свой монолог. – Они не всегда так наглы, но – ох, я устала от них до смерти. Мы здесь защищены от посторонних взглядов, а открыты только со стороны залива. И, конечно, все подплывают как можно ближе, разглядывая нас. Ведь мы – местная достопримечательность. Как это раздражает, вы не представляете. Иногда мне хотелось бы поплавать нагишом в бассейне – мое право, не так ли? Естественно, я бы выбрала момент, когда отсутствуют слуги. Но куда деваться от проклятых соглядатаев на заливе! Простите за резкость, но они так досаждают мне!
Бинокль внезапно исчез, как будто слова миссис Уиттейкер магическим образом покончили со вспышками на линзах. Не подала ли она сама им какой-нибудь сигнал? Как Патриция? Не предупредила ли их, что я догадался о слежке?
И вдруг я осознал, что оказался в плену всех тех идей, которые отстаивала Сара, что и я глубоко погрузился… но во что?
В систему иллюзорных представлений.
О Господи! Но можно ли разделять иллюзорные представления?
Судно внезапно тронулось с места.
– Счастливое избавление, – заметила миссис Уиттейкер. – Они так настырны. Я иногда сдерживаю свои эмоции и называю их Береговой Охраной.
– Миссис Уиттейкер, – сказал я. – Я знаю, вы не хотите обсуждать болезнь Сары, но меня-то интересует только это. Все, что вы могли бы сообщить мне…
– Но ведь ей сейчас гораздо лучше, – возразила миссис Уиттейкер. – Разве нет? Но, конечно, вы не в состоянии судить об этом. Вы же не видели ее тогда.
– В сентябре прошлого года?
– Да, – ответила миссис Уиттейкер. – Когда она пыталась убить себя.
– Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
– Так мучительно – вспоминать…
– Я знаю, но…
– Так мучительно, – повторила она и отвернулась, глядя на море. Корабль, откуда наблюдали за домом, стремительно уходил в южном направлении. Еще мгновение – и от него останется только пятнышко на горизонте. Словно его и не было здесь.
– Где вы находились, когда это произошло? – спросил я. – В какой части дома?
– Меня вообще не было дома, – сказала миссис Уиттейкер. – Мы собрались в музее – я вхожу в его художественный совет – и обсуждали планы открытия выставки скульпторов в Калузе, сильно запаздывающей, – а ведь у нас здесь так много талантливых людей. Я вернулась домой, должно быть, около четырех или немного позже.
– Кто-нибудь находился в доме? – спросил я. – Кроме Сары?
– Двадцать седьмое – это четверг. У всех слуг был выходной.
– У всех слуг…
– У горничной, кухарки и садовника. Их всего трое. – Миссис Уиттейкер повернулась ко мне. – Это вас удивляет, мистер Хоуп? У нас нет ни горничных на верхних и нижних этажах, ни шофера, ни личной горничной, помогающей одеться и раздеться… Да, пожалуй, и не было никогда. Трое слуг – наша обычная обслуга.
– И все трое отсутствовали в тот день?
– Да.
– Сара была одна?
– Да. Я заметила ее машину на подъездной дорожке, когда подъехала к дому, и окликнула ее, как только вошла в дом. Никто не ответил. Я снова позвала ее. В доме было очень тихо. Я тотчас заподозрила несчастье… вы знаете это чувство, когда входишь в дом и уже знаешь, что все не так… У меня возникло предчувствие: случилось нечто ужасное. Я, кажется, снова и снова звала ее, никто не отвечал, и тогда я поднялась на первый этаж.
Дверь в комнату Сары была прикрыта. Я постучала. У нас заведено никогда и никому не входить без стука. Сару приучили с детства: прежде чем войти, нужно постучать. И Гораций и я соблюдали это правило. По-прежнему – тишина. Я постучала, снова окликнула ее и, охваченная тревогой, нарушила традицию, мистер Хоуп: я открыла дверь в ее комнату, не получив приглашения войти.
Она поднесла руку к губам и зажмурилась, как бы приближаясь в воспоминаниях к тем страшным сентябрьским дням. Я ждал, опасаясь, что она разрыдается. Но она нашла в себе мужество продолжить рассказ. Открыв наконец глаза, миссис Уиттейкер повернулась к заливу и, глядя на море, заговорила очень тихо, так, словно меня и не было здесь.
– Она… стояла обнаженная в ванной комнате. Платье валялось на полу, в ванной, вместе с нижним бельем и обувью. Желтое платье, насколько я помню. В правой руке она держала бритвенное лезвие, на левом запястье ее выступила кровь – три небольших пятна. Позже доктор Хелсингер охарактеризовал эти порезы как «нерешительные». Я, должно быть, подоспела домой как раз вовремя. Задержись я на пять минут, даже на одну – Сара могла бы перерезать себе вены. Ее колебания, нерешительность… и мое появление… спасли ей жизнь.
– Доктор Хелсингер говорил мне, что порезы были неглубокие.
– Да, но тем не менее они ужасали. Вы входите в комнату вашей дочери и видите кровь на ее запястье и бритву у нее в руке. – Миссис Уиттейкер покачала головой. Все еще глядя на воду, она продолжала: – Сара смотрела на меня широко раскрытыми глазами, бритва дрожала в ее руке, и я… я сказала – очень мягко: «Сара, с тобой все в порядке?» А она ответила: «Я искала ее». Я тогда понятия не имела, что у нее на уме, поэтому просто сказала: «Сара, ты не хочешь отдать мне лезвие?» – «Я должна наказать себя», – ответила она. «За что? – спросила я. – Пожалуйста, отдай мне бритву, Сара». Не знаю, сколько мы стояли так, глядя друг на друга. Расстояние – не более трех шагов. Лезвие все еще было у нее в руке. Кровь капала на белый кафельный пол. Она удивленно смотрела на него: «Как много крови». А я все твердила: «Пожалуйста, отдай мне бритву, дорогая», – и она наконец отдала.
– А что дальше с этим лезвием, миссис Уиттейкер?
Она перестала смотреть на воду.
– Что? – спросила она.
– Лезвие… Что вы с ним сделали?
– Какой странный вопрос. – Она пожала плечами.
– Вы помните, что сделали с лезвием после того, как Сара отдала его вам?
– Не имею понятия. Мистер Хоуп, моя дочь истекала кровью…
– Но ведь не очень серьезно…
– Мне казалось – очень… Тогда я думала лишь о том, как помочь своей дочери, позаботиться о Саре. Я уверена: как только бритва очутилась у меня, я позабыла о ней вовсе.
– Что было дальше?
– Первое, что я сделала, – осмотрела ее кисть. Я работала в Красном Кресте во время второй мировой войны, умела наложить жгут в случае необходимости. Но я сразу увидела, что ранки – было три параллельных надреза на левом запястье – неглубокие, почти царапины, за исключением одной, из которой сочилась кровь. Жгута не требовалось. Я просто вытерла тампоном запястье и наложила повязку.
– А потом что вы сделали?
– Я отвела ее к себе в спальню – мне не хотелось оставлять Сару без присмотра, – хотя она казалась очень спокойной, даже слишком спокойной. Я не могу описать… не знаю, как это назвать. Холодность. Отстраненность. Ощущение, как будто она полностью изолировалась от меня… и даже от себя самой. Жаль, но я не могу объяснить это более вразумительно. Никогда ничего подобного не видела и надеюсь, никогда не увижу. Она стала… зомби, оборотнем, мистер Хоуп. Я держала ее за руку, мы спустились вниз, в мою спальню, но ее рука в моей казалась неживой, а в глазах затаилась такая мука и боль… Это не было связано с порезами на запястье. Я никогда не видела выражения такой мучительной боли. Меня это потрясло, разбило мне сердце. – Она помолчала и глубоко вздохнула. – В моей ванной, в аптечке, – продолжала миссис Уиттейкер, – стояла бутылочка со снотворным. Я достала две таблетки, наполнила стакан водой из-под крана и протянула Саре. «Выпей это». Сара сказала: «Я – Белоснежка». Я ответила: «Да, дорогая, пожалуйста, выпей это».
– Она согласилась?
– Да. Она проглотила обе таблетки и затем сказала: «Помилуй меня, Господи, я согрешила». Для меня это не имело значения. Мы не католики, мистер Хоуп, – такие слова говорят обычно католики своему священнику, когда приходят на исповедь. Позже я поняла – когда побеседовала с доктором Хелсингером, – что это была часть ее галлюцинаций, ее… ее… убеждения, что она предлагала себя Горацию, своему отцу. Предлагала себя для сексуального удовлетворения. И просила прощения за это. «Прости меня, отец, я согрешила».
– Что происходило после того, как она приняла снотворное?
– Она уснула. Через двадцать минут.
– Где?
– В собственной спальне. Я отвела ее туда, устроила поудобнее.
– Когда вы уложили ее?
– В пять – в пять тридцать… Точно не помню.
– Что вы предприняли после этого?
– Позвонила Натану. Доктору Хелсингеру.
– Психиатру?
– Да.
– И другу вашей семьи?
– Да.
– Но не практикующему врачу.
– Поймите. Моя дочь только что пыталась покончить с собой. Я чувствовала – необходим психиатр.
– И он приехал? Он осмотрел ее?
– Да.
– Сара спала, когда он появился?
– Да.
– Он разбудил ее?
– Да. И она тотчас разразилась тирадой. Говорила о Распутной Ведьме и… о Боже, это было чудовищно. Обвиняла своего отца в самых мерзких вещах, доказывала, что она сама… просила своего отца… я не могу повторить ее слова, мистер Хоуп, все это было ужасно. Мы сразу же поняли – доктор Хелсингер и я, – что Сара… что она потеряла рассудок, что она очень больна, мистер Хоуп, психически больна. Тогда доктор Хелсингер посоветовал мне прибегнуть к экстренным мерам, согласно акту Бейкера.
– Он приезжал еще раз, в тот же вечер, не так ли? С подписанным медицинским свидетельством и полицейским офицером?
– Да.
– Миссис Уиттейкер, я не сомневаюсь в вашей памяти. Но полицейский офицер сказал мне, что не видел лезвия бритвы.
– Я, наверное, выбросила его.
– Но тогда вы должны помнить, что вы с ним сделали.
– Я уверена, что выбросила его.
– Офицер Рудерман не заметил также никакой крови.
– Ее почти не было. Я вам уже говорила, это были царапины.
– Вы упоминали о каплях крови, сочившихся…
– Да.
– Имеется в виду только одна капля?
– Ну, может быть, несколько. Но только из одной ранки. Третий порез на запястье. Самый глубокий. Но даже он был не более чем царапиной. И повязка…
– Доктор Хелсингер осматривал эти порезы, царапины на ее запястье?
– Да, конечно.
– И согласился с тем, что они неглубоки?
– Да. Он так и выразился: «нерешительные порезы». Обычные при подобных попытках самоубийства.
– Но на полу в ванной была кровь?
– Я уверена, что вытерла ее перед тем, как прибыл полицейский офицер.
– Ее платье было в крови, миссис Уиттейкер?
– Ее платье?..
– Вы сказали, ее платье валялось на полу…
– Ах, да. На полу. Нет, оно не было испачкано.
– Но, наверное, она сняла с себя платье перед тем, как перерезать себе вены, правильно?
– Да. Вероятно. Но крови на платье не было.
– Куда вы дели платье?
– Положила в грязное белье, я полагаю.
– В грязное белье…
– В корзину с грязным бельем. Впрочем, я не уверена. Все было так запутано, так…
– Я уверен – все так и было… И вашу дочь увезли из дома прежде, чем возвратился кто-либо из слуг?
– Да, конечно. Полицейский офицер прибыл еще до полуночи. Никто из слуг не возвращался до утра следующего дня.
– Это было уже двадцать восьмое?
– Да.
– К этому времени Сара находилась уже у Добрых Самаритян?
– Да. В филиале Дингли.
Я колебался, но все-таки сказал:
– Миссис Уиттейкер, Сара настаивает на том, что ничего этого не было. Она не пыталась покончить с собой, ее не осматривал доктор Хелсингер, он просто приехал с подписанным медицинским свидетельством и…
– Вы попали в ловушку, – перебила меня миссис Уиттейкер.
– В какую ловушку, мэм?
– Вы не должны думать, что она знает о случившемся. Она этого не знает, вы понимаете?
– Но она, кажется, помнит обо всем, что произошло.
– Все, что она хочет вспомнить. Я хорошо знаю эту ловушку, мистер Хоуп, едва не попала в нее сама. В тот вечер, когда Сара, проглотив снотворное, вроде бы задремала, вдруг она принялась сыпать словами. Ее бессвязная речь была обращена не ко мне, скорее – к самой себе. И, слушая Сару, я начала склоняться к мысли, что она действительно выходила из дому, искала кого-то утром и днем – ту, которая, как она полагала, была любовницей отца. Я почти поверила ей и угодила в ту же ловушку, в которую теперь попались и вы. Видите ли, мистер Хоуп, Сара была сумасшедшей в тот вечер. Ей сейчас гораздо лучше, я вижу значительные изменения и надеюсь всем сердцем, что она скоро покинет это ужасное место и вернется домой. Но только тогда, когда она полностью выздоровеет. А я не уверена, что сейчас она уже может вернуться. Вам следует проявить осторожность, мистер Хоуп. Сара умеет убеждать. И мне бы не хотелось, чтобы, способствуя ее освобождению, вы подтолкнули ее к еще одной попытке самоубийства.
– Уверяю вас, я не стану делать никаких поспешных шагов.
– Была бы вам чрезвычайно признательна.
Мы сидели молча. У меня вертелся на языке вопрос, который необходимо было задать, но я колебался. Боль миссис Уиттейкер казалась мне неподдельной, так же как и боль, отразившаяся на лице Сары в тот вечер, о котором она поведала. У меня не было желания ее мучить. Но вопрос оставался. И я на миг позавидовал детективу Морису Блуму, для которого подобное – часть полицейской рутины, только и всего.
– Миссис Уиттейкер, – решился я наконец, – вы только что сказали, будто почти убеждены в том, в чем Сара тогда призналась вам? Когда засыпала. Когда начало действовать снотворное.
– В чем именно?
– Что она разыскивала предполагаемую любовницу вашего мужа?
– Да, так она сказала.
– Миссис Уиттейкер, а были у вас какие-либо основания полагать – или сейчас они есть у вас, – что заявление Сары могло оказаться правдой?
– Имел ли Гораций любовницу – это?
– Да. Простите меня. Я должен знать.
– Гораций был преданным, добрым и любящим мужем.
– У вас никогда не возникало повода подозревать…
– Никогда. Я полностью доверяла ему.
– Тогда… Хотя Сара и сказала вам, что выходила, чтобы отыскать эту женщину…
– Ну, ну?.. Слушаю вас!
– Вы полагаете, что это часть ее галлюцинаций? В действительности она не брала машину?..
– Она брала машину. Я полагаю, она села в свою машину…
– Вы так считаете?
– Да. И отправилась на поиски той женщины.
Я смотрел на нее, ошеломленный.
– И нашла эту женщину, – подтвердила миссис Уиттейкер. – Нашла любовницу своего отца.
– Виноват, не понимаю… Вы только что сказали…
– Нашла себя, мистер Хоуп. Осознала себя как фантом любовницы, который она создала. И не могла вынести этого ужаса. И пыталась убить себя.
Я кивнул.
– Машина, на которой она ездила… Где…
– Я продала ее, – объявила миссис Уиттейкер.
– Когда?
– Немедленно.
– Почему?
– Я не могла ее видеть. Она постоянно напоминала мне, какой была Сара и какой она стала. Гораций подарил Саре эту машину в год ее совершеннолетия. Счастливейшее время для всех нас.
– Какого типа машина?
– «Феррари-боксер 512». Стоила восемьдесят пять тысяч долларов. – Она помолчала. – Щедрый человек – мой Гораций. Машина, которую он водил, – потрепанный «шевроле», 1978 года. Я просила его купить себе машину поприличнее. Но нет, он ездил на этой. И водил ее сам. До самой кончины, хотя уже знал, что у него больное сердце. Вообще ему следовало бы нанять шофера. Он считал, что чувствовал бы себя глупо, если бы кто-то возил его по городу.
– А вы не припоминаете, кто купил у вас машину? Ту, что принадлежала Саре. «Феррари».
– К сожалению, нет. Хотя, уверена, счет где-то лежит. Но, откровенно говоря, я не вижу, какое отношение имеет машина Сары к вашим попыткам вызволить ее из «Убежища». Мистер Хоуп, я вновь предостерегаю вас. Действуйте осторожно. Если вы преуспеете и Сара покинет «Убежище», а затем причинит себе вред, – вы получите врага на всю жизнь. Я могу быть грозным противником.
Она взяла свою чашку.
– Чай, кажется, остыл, – заметила она.
Я воспринял эти слова как сигнал к окончанию нашего разговора.
– Благодарю вас, что уделили мне время, – сказал я. – Весьма признателен за ваш рассказ.
– Это доставило мне удовольствий. – Она вздохнула. – Патриция проводит вас.
Я оставил ее сидящей у берега. Она смотрела на воду. Я прошел через застекленную дверь. Патриция спускалась вниз по лестнице.
– Вы уходите, мистер Хоуп? – спросила она.
– Да.
– Сегодня чудесный день, не правда ли?
– Великолепный.
Мы вместе пересекли комнату и подошли к выходу. Она открыла мне дверь и отступила в сторону. Прежде чем снова выйти на солнечный свет, я спросил ее:
– Патриция, что-то случилось с дверью?
– Что, простите? – откликнулась она.
– С теми застекленными дверьми… Что-то, кажется, встревожило вас.
– С застеклен… О! Нет, сэр, ничего особенного. Мне показалось, я заметила пятно на одном из стекол, хотела получше разглядеть его. Стекло… иногда солнечный свет помогает обнаружить пятно, а если повернуть под нужным углом…
– Ясно, – сказал я. – А было там пятно? Стекло было испачкано, Патриция?
– На нем не было ни единого пятнышка, сэр, – ответила она.
Мой друг Фрэнк – эксперт по части женщин. Он также эксперт по бракам и разводам. Фрэнк сказал мне, что многие женатые мужчины – себя он, естественно, исключает – фантазируют, занимаясь любовью со своими женами, – наделяют их чертами других женщин. Фрэнк утверждает, что знал нескольких мужчин, которые воображали, что занимались любовью с тремя, четырьмя и даже с пятью женщинами в течение десяти минут любви со своими женами. Фрэнк затеял этот разговор, потому что я просил его прочесть соглашение, подписанное Сьюзен и мной. Я просил его сделать это к тому времени, когда я вернусь из дома Уиттейкеров.
Мотивация моих поступков в действительности очень проста. Я прочел соглашение и хотел, чтобы Фрэнк оспорил мои доводы. Я не сказал, что мне нужны его возражения. Я сказал лишь, что Сьюзен грозится отправить Джоанну в школу штата Массачусетс и мне хотелось бы знать, дает ли соглашение ей такое право. Именно тогда Фрэнк пустился в рассуждения о браках и разводах, о мужчинах, склонных к фантазиям.








