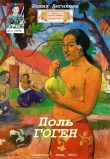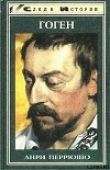Текст книги "Постимпрессионизм (От Ван Гога до Гогена)"
Автор книги: Джон Ревалд
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 39 страниц)
Подобно тому как Бернар подчеркивал в своем интервью, что он ничем не обязан Гогену, последний в одном и том же письме к Монфрейду дважды утверждал теперь, что полотно это "не имеет ничего общего с Бернаром". 25 На самом же деле эта картина, написанная в 1891 г., была далеко не такой поразительной, как последующие таитянские картины. Она не отличалась еще специфическим ароматом и тем особым стилем, которого художник достиг в "Мужчине с топором" и в "Ia Orana Maria". Это был портрет туземной женщины, одетой в яркое платье, с цветком в руке и явно старше Техуры. Как на многих таитянских картинах художника, на ней сделана надпись на туземном языке: "Vahine no te Tiare", которую сам Гоген перевел Монфрейду: "Женщина с цветком".
Возможно, это была одна из тех "спокойных" картин, посредством которых Гоген рассчитывал добиться заказов на портреты. Если бы не экзотичность модели, этот портрет можно было бы счесть работой Гогена, сделанной еще во Франции до его отъезда. Нет ничего удивительного поэтому, что она практически прошла незамеченной, хотя вполне могла бы встретить более теплый прием, не будь парижский художественный сезон так богат значительными событиями.
Неизвестно, держали ли Гогена его немногочисленные корреспонденты в курсе всего происходящего в Париже. Его длинные ответы на их письма посвящены лишь его личным делам и не содержат намеков на какие-либо события в художественном мире. А между тем в течение всего 1892 г. выставки и другие предприятия следовали друг за другом в ускоренном темпе.
В январе Дюран-Рюэль открыл полную ретроспективную выставку работ Писсарро, экспонировав семьдесят две картины и гуаши, сделанные художником между 1870 и 1892 г. Предисловие к каталогу было написано Жоржем Леконтом, а восторженная статья Октава Мирбо увеличила количество посетителей. Эта выставка ознаменовала "реванш" Писсарро после немилости, в которой он находился у публики во время своего дивизионистского периода. Когда выставка закрылась, Дюран-Рюэль сам купил все оставшиеся непроданными картины.
В следующем месяце в той же галерее Моне выставил свои последние серии "Тополей", успех которых еще раз подтвердил растущую популярность художника ("Моне теперь зарабатывает около 100000 франков в год", – писал Гоген жене).
За выставкой Моне в мае последовала большая ретроспективная выставка Ренуара, – как и у Писсарро, первая такого рода, – на которой Дюран-Рюэль экспонировал ни больше, ни меньше как сто десять картин, выполненных художником за последние двадцать лет. Выставка имела огромный успех, и Ренуар был наконец признан великим художником. Правительство впервые приобрело его картину, а его будущий покровитель Ганья сделал первые покупки.
Между выставками Моне и Ренуара Дюран-Рюэль в марте отдал свои галереи под широко разрекламированный "Салон Розенкрейцеров". Граф Антуан де Ларошфуко, субсидировавший это предприятие, впоследствии с радостью вспоминал, что открытие было "истинным триумфом: несколько послов, в том числе его превосходительство посол Соединенных Штатов, почтили открытие нашей выставки своим присутствием... На улице Лепелетье стояли такие толпы народа, что пришлось изменить маршрут курсировавшего по ней омнибуса". 20
В соответствии со своей программой Сар Пеладан, "великий магистр ордена", исключил из этой выставки не только исторические, батальные и патриотические сюжеты, "даже хорошо написанные", все юмористические, ориенталистские и иллюстративные работы, но также "всякое изображение современной жизни как личной, так и общественной; портреты, если только позирующие модели не одеты в костюмы прошлых веков; все сельские сцены, все пейзажи, за исключением тех, что выполнены в манере Пуссена; морские пейзажи и моряков; домашних животных, цветы, фрукты и прочее". Вместо этого он высказался в пользу "католической догмы и итальянских сюжетов, начиная от Маргаритоне до Андреа Сакки; интерпретации восточной теологии, за исключением теологии желтых рас; декоративных аллегорий; обнаженных моделей, выполненных в стиле Приматиччо, Корреджо или выразительных голов в духе Леонардо и Микельанджело". 27
Среди разнородных художников, которых пригласил Сар, было много людей, сравнительно мало связанных с новым мистико-католическим направлением и принявших приглашение главным образом для того, чтобы не упустить возможность показаться на хорошо разрекламированной выставке. В самом деле, набожность, как указывали некоторые наблюдатели, не является синонимом веры, а на выставке у последователей Пеладана можно было увидеть много тартюфов и мало по-настоящему убежденных людей.
С другой стороны, некоторые, такие поистине ревностные католики, как Пюви де Шаванн и Морис Дени, и подлинные мистики, как Редон и Моро, предпочли не присоединяться к толпе "Розенкрейцеров". Понт-авенская группа была представлена Филлигером и Бернаром. Граф де Ларошфуко проявил живой интерес к обоим художникам и вскоре начал поддерживать их.
В общем выставка выглядела безжизненно и бледно и ей был присущ сильный академически-религиозный оттенок. Хотя Валлотона забавляли помпезные анонсы Сара, он нашел выставку значительно более интересной и достойной, чем предполагал, и даже заявил об этом в пространной статье. 28 Но он был единственным, кто поддержал эту затею. В числе критиков, яростно порицавших ошибочность тенденций "Розенкрейцеров", был Феликс Фенеон. Вот его отзыв: "Участникам выставки, очевидно, никогда не понять, что картина должна прежде всего привлекать своим ритмом, что художник проявляет слишком большую податливость, выбирая сюжет, уже имеющий богатое литературное прошлое, что три груши на скатерти Поля Сезанна – волнующи, а иногда таинственны, тогда как вся вагнеровская Валгалла, написанная ими, столь же не интересна, как и Палата депутатов". 29
Несмотря на большой шум, поднятый вокруг выставки "Розенкрейцеров", она была лишь второстепенным симптомом возрождения общего интереса к религии, который проявился, например, в том, что Гюисманс, автор романа "Наоборот", пропагандировавший декадентско-символистское движение, удалился в траппистский монастырь и принял там католичество.
Еще до того как закрылся "Салон Розенкрейцеров", "Независимые" открыли свой, включавший довольно обширную посмертную выставку Сёра. На ней было показано двадцать семь картин, девять небольших деревянных дощечек и десять рисунков; большинство работ предоставила мать художника. В числе участников Салона (всего было выставлено 1232 работы) были Бернар (с девятью работами), Боннар, Кросс, Даниель де Монфрейд, Дени, доктор Гаше, Госсон, Леммен, Люс, Птижан, Люсьен Писсарро, "таможенник" Руссо (с шестью полотнами), Синьяк, Лотрек (с семью работами, включая одну афишу и несколько портретов Ла Гулю), ван Риссельберг, Веркаде и Виллюмсен.
Дени опубликовал в "La Revue blanche" статью о "Салоне независимых", где говорил о художниках, "отправной точкой которых стали теории г-на Эмиля Бернара, популяризированные редким талантом г-на Гогена". В частности, он назвал Анкетена "жертвой г-на Эмиля Бернара, этого нетерпимого интеллектуалиста". 30 В связи с участием Бернара в выставке "Розенкрейцеров" критик Роже Маркс уже назвал его "основателем так называемой символистской школы", отмечая, что он был "даже раньше Гогена создателем того эстетического стиля, который с тех пор называется символистским". 31
В апреле Бернару наконец удалось устроить у Лебарка де Бутвиля небольшую выставку работ Ван Гога, включавшую шестнадцать полотен, которые, видимо, привлекли к себе мало внимания. Бернар был огорчен, что ни Орье, ни Мирбо, ни другие, на чью помощь он рассчитывал, не поддержали его в прессе. 32 (В феврале Веркаде и Серюзье посетили вдову Тео Ван Гога в Буссуме в Голландии, и картины Винсента глубоко их взволновали; на следующий год госпожа Тео Ван Гог-Бонгер организовала выставку Ван Гога в амстердамской "Панораме".)
Тем временем в Брюсселе "Группа двадцати" устроила еще одну посмертную выставку Сёра, состоявшую из семнадцати картин ("Натурщицы", принадлежавшие Гюставу Кану, "Парад", "Цирк", "Пудрящаяся женщина" и ряд пейзажей), дюжины небольших дощечек и девяти рисунков. 33 В числе приглашенных на их выставку 1892 г. были Мери Кассат, Морис Дени, Леон Госсон, Максимилиан Люс, Люсьен Писсарро и Тулуз-Лотрек. Синьяк принимал участие в выставке уже не как гость, а как член группы. Он показал "Портрет Феликса Фенеона" и ряд морских пейзажей, озаглавленных "Адажио", "Ларгетто" "Скерцо" и т. п. На свою десятую выставку, в 1893 г., "Группа двадцати" снова пригласила Тулуз-Лотрека вместе с Эмилем Бернаром, Анри-Эдмоном Кроссом и Птижаном. Это была их последняя выставка, так как Октав Маус, считая, что десять лет – достаточный срок жизни для авангардистского направления, предложил членам группы проголосовать за ее роспуск. Большинство поддержало его, чувствуя, что лучше оставить добрую память о смелом начинании, чем видеть, как созданное ими направление изживает себя. Впоследствии Маус на совершенно иной основе учредил новое общество – "Свободная эстетика". 34
В числе художественных событий 1892 г. были также выставка Берты Моризо в галерее Гупиля и назначение Гюстава Моро профессором Школы изящных искусств. Одиночество его кончилось, он вступил в контакт с новым поколением и начал отныне принимать активное участие в его воспитании.
Ренуар провел лето в Бретани, главным образом в Понт-Авене. Осенью Дега выставил у Дюран-Рюэля серию пастельных пейзажей; это была его последняя персональная выставка, так как он больше никогда не соглашался выставлять собрание своих работ перед публикой.
В ноябре Лебарк де Бутвиль устроил еще одну групповую выставку молодых художников, вывесив бок о бок друг с другом полотна нескольких неоимпрессионистов, картины Лотрека и работы таких "Набидов", как Боннар, Вюйар и Дени, а также одну картину Гогена. Бернар в этой выставке не участвовал.
Хотя новое поколение художников все больше концентрировалось вокруг Лебарка де Бутвиля, оно не забывало и. папашу Танги, несмотря на то, что последний не мог устраивать выставок в своем маленьком магазинчике. После смерти Ван Гога и отъезда Гогена завсегдатаями у Танги стали неоимпрессионисты, сумевшие перетянуть старика на свою сторону. Один молодой датский художник, посетивший Париж в 1892 г., записал в дневнике:
"Папаша Танги является сейчас одним из основных поставщиков красок для импрессионистов и синтетистов. Его лавчонка завалена грудами полотен (часть из них – просто хлам), которыми художники, вероятно, расплачиваются за краски. Поговорив с его Ксантипой и приручив ее покупкой красок, которые папаша Танги собственноручно трет на кухне, вы получаете разрешение порыться в картинах и выбрать для себя великолепные вещи по весьма умеренным ценам.
Ван Гог был, видимо, своим человеком в этом доме, где хранится множество его картин – прекрасные провансальские пейзажи, очень красивый по цвету натюрморт с фруктами и портрет старика Танги, выполненный грубовато, но на редкость характерный. Есть тут и портрет Гогена на фоне пейзажа, с моей точки зрения малоинтересный. Здесь же лежат отличные полотна Писсарро, Гийомена, Сезанна и Сислея, который, как и Анкетен, кажется, добился наконец известности, поскольку работы этих двух последних художников вывешены в Салоне на Марсовом поле.
Можно увидеть там и картины некоего молодого человека, который, я убежден, вскоре добьется известности, потому что, помимо несомненного таланта, он обладает еще умением следовать приятной или, вернее, избегать неприятной тенденции, столь часто проявляющейся у его товарищей. Зовут его Дени... Из молодых надо упомянуть еще о Даниеле [де Монфрейде], чьи пейзажи хороши по цвету, хотя как колорист он слабее остальных... Лео Госсона, чьи устрашающие краски, деревья и дома напоминают вам олеографии Синьяка с его несносной пуантилистской техникой, и т. д.
От большинства находящихся у папаши Танги картин волосы буквально встают дыбом. Дело тут не в том, что у авторов нет таланта, а в том, что они сознательно и последовательно добиваются уродливости в комбинации цветов и выполнении.
При всем многообразии их псевдонаучных теорий живописи эти мальчишки сущие доктринеры. Они цитируют Шеврейля и целую кучу химиков и оптиков, с сожалением посматривая на каждого, кто не разбирается в спектральном анализе.
Словом, покупать краски у Танги – нескучное занятие. Когда я выбрал один из моих любимых пигментов, который не входит в меню хромолюминаристов, торговец подскочил, словно ужаленный скорпионом, и отечески порекомендовал мне не брать эту краску – не потому что она хуже остальных, а потому что употребление ее противоречит катехизису новой школы". 35
В декабре неоимпрессионисты устроили выставку, участие в которой приняли почти все члены группы.
В том же месяце в Берлине разразился "скандал", о котором сообщалось в "Mercure de France": выставка молодого норвежского "импрессиониста" Эдварда Мунка (действительно, многим обязанного Гогену) до такой степени возмутила публику, что картины его через несколько дней пришлось снять.
Тем временем на политической арене также царило оживление. Активность анархистов возрастала. Одна за другой рвались бомбы. Один из вожаков анархистов, Равашоль, в конце концов был арестован, сознался в своих преступлениях и предан казни. Но анархистские выступления продолжались. 36 Террор принял такие размеры, что, согласно одному хроникеру, Париж в течение нескольких недель "казался осажденным городом: улицы пусты, магазины заперты, омнибусы без пассажиров, музеи и театры закрыты, полиции не видно, хотя она незримо присутствует всюду, войска в предместьях готовы выступить по первому сигналу. Семьи богатых иностранцев покидают город, отели пустуют, доходы лавочников падают..." 37
Положение дел отнюдь не улучшили угроза холерной эпидемии и разоблачение вопиющих махинаций администрации Панамской компании, в которых были замешаны ведущие политические деятели, что вынудило правительство лавочников подать в отставку.
Конечно, все эти события не имели прямого отношения к жизни Гогена на Таити, хотя его постоянные затруднения могли бы уменьшиться, не будь общее положение таким тревожным. Однако одно из событий непосредственно касалось его, хотя узнал он о нем с некоторым опозданием, поскольку Морис, вопреки своему обещанию, не информировал его своевременно. В апреле 1892 г. появилась длинная статья Орье "Символисты" с многочисленными иллюстрациями, включавшими работы Редона, Боннара, Гогена, Серюзье, Дени, Вюйара, Анкетена и пр. По-видимому, жена Гогена первая сообщила мужу об этой статье, и он немедленно ответил: "Я знаю Орье и полагаю, что он уделяет мне в статье достаточно внимания. Направление это в живописи создал я, и многие молодые художники извлекли из него пользу; они, конечно, не бесталанны, но воспитал их все-таки я. Все, что они делают, исходит не от них, а от меня". 21
Орье, не заходя так далеко в своей статье, все же признавал ведущую роль Гогена. Статья его начиналась теоретическим рассуждением об искусстве вообще и символизме в частности, охватывая примерно те же вопросы, которые он рассматривал в своем очерке о Гогене. Он определял в ней произведение искусства "как перевод на специальный и естественный язык некой духовной данности, имеющей различную ценность, которая как минимум является фрагментом духовного мира художника, а в своем оптимальном воплощении представляет весь его духовный мир, соединенный с духовной сущностью изображаемого предмета. Завершенное произведение искусства есть, таким образом, новое творение; его можно было бы назвать абсолютно живым, поскольку оно обладает душой, которая оживляет его, а в действительности является синтезом двух душ: души художника и души природы". 38 По существу, это представляло собой тщательно разработанное и несколько усложненное знаменитое определение Золя, навеянное работами Курбе и ранних импрессионистов: "Произведение искусства есть кусок жизни, пропущенный сквозь призму темперамента". Орье не принял во внимание концепцию, которую сформулировал Морис Дени в статье, опубликованной в 1890 г.: "Следует помнить, что любая картина не столько изображает коня, обнаженную женщину или анекдотический сюжет, сколько прежде всего является плоской поверхностью, покрытой расположенными в определенном порядке красками". 38
Определив свои теоретические предпосылки, Орье переходил к анализу творчества и роли различных приверженцев символизма. "Бесспорным основоположником этого направления, – в один прекрасный день мы, может быть, назовем его новым Возрождением, – был Поль Гоген. Художник, резчик по дереву, декоратор, он был одним из первых, кто ясно заявил о необходимости упростить формы выражения, о законности поисков иных эффектов, отличных от рабского подражания натуралистов, о праве художника углубляться в духовное и непостижимое. Его широко известная художественная продукция уже значительна. Она отмечена печатью глубокой и возвышенной идеалистической философии, выраженной с помощью элементарных средств, что в особенности возмутило публику и критиков. Можно сказать, что творчество его – это Платон, пластически интерпретированный гениальным дикарем. Действительно, в Гогене есть нечто от дикаря, первобытного человека, индийца, который, руководствуясь одним лишь инстинктом, вырезает на слоновой кости, воплощая странные и чудесные мечты, более волнующие, чем банальные грезы наших патентованных академических мэтров... И он сам смутно сознает это, раз он решил покинуть нашу уродливую цивилизацию, удалясь в изгнание на дальние волшебные острова, еще не испорченные европейскими фабриками, на лоно девственной природы варварского и роскошного Таити, откуда он привезет, мы предсказываем это с полной уверенностью, – новые превосходные оригинальные работы, каких уже не воспринимает анемичный и одряхлевший мозг современного арийца.
Рядом с Гогеном следует назвать его друга и, если уж не ученика, то по крайней мере пылкого почитателя Винсента Ван Гога, необыкновенного и божественно неуравновешенного художника, увы, умершего слишком молодым, чтобы оставить работы, на которые позволяли нам надеяться его гений, его могучая самобытность, безумная жажда творчества, лихорадочные поиски, возвышенные и многообразные интересы. И все-таки он прожил достаточно долго для того, чтобы завещать музею нашего восхищения множество полотен ослепляющей интенсивности и незабываемой своеобразности, тысячи сверкающих символов самой истерзанной в мире души.
Среди несущих новое радостное слово, так привлекающее молодежь, следует упомянуть еще одного художника, столь же оригинального, столь же глубоко идеалистичного, но еще более своеобразного и грозного, чье гордое презрение к натуралистическому подражанию, чья любовь к мечтам и духовному началу если и не сделали его непосредственным предтечей новых современных художников, то по крайней мере косвенно повлияли на формирование их творческого духа. Речь идет об Одилоне Редоне, чьи литографии подобны кошмарам. Пальцы этого художника как будто раздирают пелену окружающих нас тайн... а уста его как будто кричат, что результат всей человеческой науки, всей мысли – не что иное, как дрожь ужаса в бесконечной ночи.
Быть может, – полноты и справедливости ради, – следует упомянуть также импрессионистов и неоимпрессионистов, чье увлечение индивидуальным стилем -субъективным, спонтанным, построенным на ощущениях, и чьи технические изыскания, конечно, повлияли на художественную эволюцию, которую мы здесь рассматриваем. Быть может, здесь следовало бы поговорить о Дега, Сезанне, Моне, Сислее, Писсарро, Ренуаре и об их попытках достичь выразительного синтеза; о несчастном Сёра и его – самой по себе такой бесплодной – научной теории разложения света и линейных ритмов; об Анкетене и его экспериментах в японском стиле, "клуазонизме", об упрощении цвета и рисунка...
Ограничимся тем, что после крупных уже названных нами имен упомянем молодых людей, еще не вышедших из периода попыток и поисков, еще не создавших совершенных и законченных работ, но тем не менее в высшей степени интересных своим энтузиазмом, интеллектом и рвением, с каким они подготавливают долгожданное возрождение спиритуализма в искусстве.
Во-первых, это Поль Серюзье. Одно время скованный чуть ли не рабским подражанием Гогену, он вскоре обрел собственную индивидуальность, и последние его полотна, исполненные поэтического символизма, красивого и искусного синтеза линий и цвета, обещают нам первоклассного художника.
Затем идет Эмиль Бернар. [Орье впервые упомянул здесь своего бывшего друга, но то, что он сказал о нем, не могло полностью удовлетворить художника.] Несмотря на свою крайнюю молодость, он одним из первых восстал вместе с Гогеном против сложной техники импрессионистов. [Читай: неоимпрессионистов.] У него, видимо, очень любознательный творческий ум, очень живой, но чересчур гибкий: ему недостает уравновешенности, упорства и последовательности в исканиях. Когда он найдет свой собственный путь, когда осознает, что красота формы составляет такой элемент искусства, каким не следует пренебрегать, когда откажется от слишком откровенной неуклюжести, искусственной наивности, которыми упивается, он начнет писать поистине великолепные картины, потому что обладает душой поэта и пальцами настоящего художника". 38
Затем Орье переходил к таким "мистико-католическим" художникам нового поколения, как Филлигер и Дени, а также говорил о Русселе, все еще находившемся под влиянием Пюви де Шаванна, о Рансоне и Боннаре, "восхитительном декораторе, таком же искусном и изобретательном, как японцы, и умеющем украсить уродливые стороны нашей жизни остроумными и радужными узорами своего воображения". Орье не забыл и Вюйара, "редкого колориста, очаровательного импровизатора, поэта, умеющего не без некоторой иронии передавать сладостные эмоции жизни, нежность интимных интерьеров". 39
Однако, несмотря на старания Орье превознести гений Гогена, дела художника в Париже шли из рук вон плохо. В декабре 1892 г. торговец картинами Портье вернул Даниелю де Монфрейду семь картин Гогена, весь свой "запас" его работ: "Картины Гогена, которые я посылаю вам обратно, уже неоднократно просматривались всеми моими клиентами. Таким образом, держать их у себя и дальше я считаю совершенно бесполезным. Если за время моего [двух-трехмесячного] отсутствия вы получите другие вещи Гогена, я посмотрю по приезде, не найдется ли среди них картин более подходящих для продажи, чем те, что я возвращаю... У меня было десять полотен Гогена, из них я уже вернул три г-же Гоген, которая увезла их в Копенгаген". 40
В марте следующего года Морис Жуаян из галереи Гупиля, которому де Монфрейд в январе 1892 г. передал десять картин Гогена и пять керамик, написал ему аналогичное письмо: "Посылаю, как условлено, все имеющиеся у меня картины и керамики Гогена, которые переданы мне вами и самим Гогеном и которые г-жа Гоген не увезла в Копенгаген". 41
Но Гоген не стал ждать сведений об этих новых возвратах. Летом 1892 г. дела его обстояли совсем плохо. Деньги из Франции не поступали, от Мориса не было даже письма, и он решил обратиться с просьбой о репатриации (что можно было сделать лишь после того, как человек прожил за границей свыше года). Итак, 12 июня 1892 г. Гоген написал в Париж министру изящных искусств: "Вы были так любезны, что, согласно моей просьбе, поручили мне изучить обычаи и природу на острове Таити. Надеюсь, что когда я вернусь, вы благосклонно отнесетесь к моей работе. Но как ни соблюдай экономию, жизнь на Таити очень дорога и проезд тоже стоит недешево. Поэтому имею честь просить репатриировать меня на казенный счет и надеюсь, что ваша благосклонность сделает возможным мое возвращение во Францию". 42
Правительству понадобилось очень длительное время, чтобы рассмотреть просьбу Гогена; тем временем он снова был предоставлен самому себе. Из месяца в месяц он надеялся услышать от губернатора, что ему разрешается ехать, и жил в постоянной неуверенности, готовый каждую минуту собрать свои скромные пожитки и отправиться во Францию, но тем не менее продолжал работать. Да и что ему еще оставалось делать? В июле у него кончился запас холстов, и ему пришлось перестать писать. Тогда он занялся скульптурой, и в августе ему посчастливилось продать в Папеэте две деревянные статуэтки (или барельефа) за 300 франков. Эта сделка была тем более неожиданна, что Гогена весьма недолюбливали французские колонисты, многие из которых сказочно разбогатели, выменивая у туземцев на дешевые европейские товары жемчуг и другие ценности. В их глазах художник, предпочитавший жить с таитянами, а не вести общепринятый у колонистов образ жизни, был незваным гостем. Они и позже не могли забыть, что он был "грубый, хвастливый, самоуверенный и неприятный сумасброд" и как непристойно он обошелся с ними, старожилами, пытавшимися помочь ему. 43
Действительно, Гоген с явным презрением относился к своим соотечественникам в Папеэте, что не мешало ему делать попытки продавать им свои работы.
Осенью, когда Гоген все еще ждал либо перевода из Франции, либо решения губернатора, он писал Монфрейду: "Скоро здесь, в Океании, я снова стану отцом. Видит бог, ничего не поделаешь: всюду сею я семя свое. Правда, здесь, где детей с радостью ждут все родственники, заранее готовые взять их к себе, это не представляет неудобств. Тут каждый жаждет быть приемным отцом и приемной матерью: самый лучший подарок, какой ты можешь сделать на Таити, – это ребенок. Так что о судьбе этого мне не надо беспокоиться". 44
Если Гогену не надо было беспокоиться о своем отпрыске, то оснований беспокоиться о самом себе у него было более чем достаточно. В ноябре он писал жене: "Я старею и очень быстро [в то время ему шел сорок пятый год]. В результате недостаточного питания желудок мой в ужасном состоянии, и я худею с каждым днем. И все же я должен, должен продолжать борьбу. Во всем виновато общество. У тебя нет веры в будущее, но у меня она есть, потому что я хочу верить, иначе я уже давно прострелил бы себе голову. Надеяться значит жить. А я должен жить, чтоб выполнить свой долг до конца, и сделать это я могу только напрягая воображение, создавая надежды в мечтах. Когда я здесь каждый день ем кусок черствого хлеба, запивая его водой, я усилием воли умудряюсь убедить себя, что это бифштекс". 45
По-видимому, Гоген и работал с той же горькой решимостью, с какой "выполнял свой долг". Вдохновленный книгой Меренхута, он написал несколько пейзажей с фигурами туземцев, собравшихся вокруг огромного неуклюжего идола – Хины, богини Луны. Один из этих пейзажей он назвал "Mata Mua" – "В минувшие времена". Пейзаж этот сильно отдает экзотикой, и его идиллическая обстановка в какой-то мере родственна райским сценам Пюви де Шаванна и живописным фантазиям Редона. Картина ни в какой мере не выдает тревог и беспокойства автора. "Я должен объяснить мои таитянские работы, – писал впоследствии Гоген, – поскольку они считаются непонятными: так как я хочу дать в них представление о пышной дикой природе и тропическом солнце, зажигающем все вокруг, я должен поместить мои фигуры в соответствующее окружение. Обстановка – природа, хотя и поданная интимно; женщины шепчутся в чаще и у тенистых ручейков, словно в необъятном дворце, убранном самой природой со всем великолепием, присущим Таити. Отсюда эти невероятные краски и этот огненный и в то же время мягкий тихий воздух.
Но ведь всего этого не существует!
Нет, это существует как эквивалент величавой и глубокой таинственности Таити, когда ее приходится выражать на полотне размером в один квадратный метр". 46
В некоторых случаях попытки Гогена найти пластический эквивалент для тайн Таити вдохновляли его на тщательно разработанные композиции, в которых каждая деталь имеет точное, хотя и не всегда явное значение. Однажды, вернувшись поздно ночью из Папеэте, он застал Техуру ожидающей его на постели; она лежала на животе, вытянувшись, и глаза ее были расширены от страха перед темнотой. Он усмотрел в этой сцене сюжет для одной из своих наиболее значительных картин, сделанных на Таити, для картины, символический характер которой он неоднократно подробно описывал: "Я написал обнаженную девушку, – писал он жене. – Какой-нибудь пустяк и такая поза может стать непристойной. И все-таки я хотел написать именно так, потому что меня интересовали линии и движение. Европейская девушка смутилась бы, застань я ее в такой позе, а здешняя нисколько. Я придал ее лицу несколько испуганное выражение. Нужно показать причину этого испуга или объяснить его характером самой таитянки. Народ здесь по традиции очень боится призраков умерших. Я должен был объяснить ее страх, минимально обращаясь к литературным средствам, которыми обычно пользовались в прошлом. Чтобы достичь этого, я сделал общую гармонию темной, печальной, тревожной, звучащей для глаза как похоронный звон: фиолетовое, темно-синее и оранжево-желтое. Простыню я сделал зеленовато-желтой, во-первых, потому что полотно этих дикарей отличается от нашего (оно делается из трепаной коры), во-вторых, потому что оно создает, предполагает искусственный свет (таитянки никогда не ложатся спать в темноте), к тому же я хотел избежать впечатления света лампы (очень уж обычно), в-третьих, потому что желтый, соединяющий оранжево-желтый и синий, завершает музыкальную гармонию. На заднем плане разбросаны цветы, но так как они воображаемые, то не должны казаться реальными; я сделал их похожими на искры. Полинезийцы верят, что ночное свечение исходит от призраков мертвых. Они верят в них и боятся их. И, наконец, я сделал очень простой призрак – маленькую безобидную старушку, потому что девушка может представить себе призрак, только... связав его с умершим человеком, иными словами, с таким же существом, как она сама". 47
Наверху, с левой стороны картины, Гоген, как всегда, написал таитянское название: "Manao Tupapau". Слова эти, согласно его заметкам, имеют два значения: "Она думает о призраке мертвеца" или "Призрак мертвеца думает о ней".
И он следующим образом подытожил то, чего стремился достичь в этой композиции: "Музыкальная часть: волнообразные горизонтальные линии, гармонии оранжевого и синего, объединенные желтыми и лиловыми, их производными, освещенные зеленоватыми вспышками. Литературная часть: призрак живой души, соединенный с призраком души мертвой. День и ночь". 48