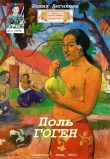Текст книги "Постимпрессионизм (От Ван Гога до Гогена)"
Автор книги: Джон Ревалд
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
Тео не преминул заметить сходство между новыми тенденциями брата и тенденциями Гогена. Когда в октябре он получил партию последних картин Винсента и несколько картин Гогена из Бретани, он написал в Сен-Реми: "В последних картинах, присланных мне Гогеном, я усматриваю те же попытки, что и в твоих..." Но он тут же дал понять, что новый подход к природе, обнаруженный им в картинах как брата, так и Гогена, ему не нравится. Говоря о картине "Ирисы", только что вернувшейся с выставки "Независимых", он объяснял: "Я думаю, что ты сильнее всего тогда, когда делаешь правдивые вещи, как эта или "Тарасконский дилижанс"... или "Стволы деревьев с плющом". Форма в них так отчетлива, и все полотно так красочно! Я понимаю, что интересует тебя в новых картинах, таких, как, например, деревня в лунном свете или горы, но мне кажется, что поиски стиля в чем-то умаляют верное ощущение вещей". 53 "Вопреки твоему мнению, что поиски стиля часто вредят другим качествам, – ответил Винсент, – я действительно испытываю сильное желание искать стиль, если тебе нравится так выражаться, но я подразумеваю под этим более мужественный и волевой рисунок. Пусть я из-за этого становлюсь похож на Бернара и Гогена, – ничего не могу поделать. Но я склонен верить, что стечением времени ты к этому привыкнешь". И художник уточнял свои размышления: "Я знаю, что этюды из моей последней посылки, написанные широкими узловатыми линиями, еще не такие, какими они должны быть, однако, прошу тебя, верь, в пейзажной живописи будут продолжаться попытки выделить большие массы посредством рисунка, стремящегося выразить переплетение этих масс... В этом направлении Бернар действительно сделал замечательные открытия. Не держись поэтому предвзятого мнения на этот счет". 54
Ван Гог отстаивал свою духовную связь с Гогеном и Бернаром, хотя не видел их последних картин и даже почти не переписывался с ними, будучи поглощен своей собственной работой. Но на самом деле в конце 1889 г. он был очарован художниками, отнюдь не похожими на понт-авенских. С литографий, репродукций и гравюр на дереве он копировал работы других мастеров. Его влекли к себе Делакруа, Рембрандт и даже такое сентиментальное произведение, как одна из картин Виржини Демон-Бретон, но особенно охотно копировал он работы Милле; в начале 1890 г. он писал также с Домье. Тео послал ему серию гравюр Лавьеля с Милле и репродукции рисунков Милле. С тех самых пор, как он начал рисовать крестьян своего родного Брабанта, Винсент находился под впечатлением монументальной простоты фигур Милле с их типичными позами и жестами. Возможно, он помнил, что Писсарро считал рисунки Милле "в сто раз лучшими, чем его картины", хотя и находил, что его работы "заражены сентиментальностью". 55 Но в гравюрах на дереве и рисунках, которые Ван Гог сейчас изучал, эта сентиментальность сказывалась меньше, свет и тень использовались более подчеркнуто, чем в картинах, фигуры выделялись более мощно.
Делая копии с этих вещей или с более романтических и вдохновенных работ Делакруа, Ван Гог еще раз мог заняться тем, чего хотел добиться на юге, – более произвольным использованием цвета. "Мне кажется, – писал он брату, – что делать картины по рисункам Милле означает скорее переводить последние на другой язык, нежели копировать". 54
Действительно, работая с черно-белых репродукций, Ван Гог не только придумывал цвет, но также подчеркивал формы, стремясь к тем "широким и узловатым линиям", которые он искал и в работе с натуры. С осени 1889 г. по весну 1890 г. он сделал с рисунков Милле ни много ни мало двадцать три картины, большей частью небольшого размера.
"Уверяю тебя, – сообщал Винсент Тео, – что мне страшно интересно делать копии, и, поскольку сейчас у меня нет моделей, я при помощи этих копий не заброшу работу над фигурой. Я использую черно-белые репродукции Делакруа и Милле, как если бы это были реальные жизненные сюжеты. А затем я импровизирую цвет, хотя конечно не совсем так, как если бы делал это сам, а стараясь припоминать их картины. Однако это "припоминание", неясная гармония их красок, которая хотя и не точна, но все-таки ощущается, и есть моя интерпретация". 56
К концу рокового 1889 г. воодушевление Ван Гога как будто бы немного ослабло. Он хотел писать заходы солнца, но работать на воздухе в сумерки ему не разрешали. Его страшно тяготили вечера в убежище, хотя он много читал, в частности исторические хроники Шекспира. Теперь, лишенный возможности писать на воздухе, он ни разу не взялся за натюрморты, которые так часто делал в Париже и Арле. Вместо этого он, если только не был занят копированием, писал реплики своих собственных картин – некоторые из них по просьбе матери и сестры, как, например, свою "Спальню в Арле", которую Тео переслал ему из Парижа в Сен-Реми. Ван Гог даже собирался написать второй вариант своего "Тарасконского дилижанса" и "Красного виноградника". В других случаях он делал реплики картин, написанных тут же, в Сен-Реми. Написал он также палату для душевнобольных в арльской больнице по этюду, сделанному там. В конце концов он начал просить брата и мать прислать ему некоторые ранние рисунки и небольшие наброски крестьян, чтобы поработать с них. Таким именно образом он использовал рисунок, сделанный им в Гааге между 1882 и 1885 гг. для картины "У врат вечности", изображающей рыдающего старика. Он почерпнул вдохновение даже из рисунка "Арлезианка", который Гоген сделал для своей версии ночного кафе.
"Я искренне старался уважительно отнестись к твоему рисунку, впоследствии объяснял другу Винсент, – и все же разрешил себе вольно интерпретировать цвет в соответствии со строгим характером и стилем оригинала. Это можно назвать синтезом арлезианки; так как синтезы арлезианок встречаются редко, считай его твоим и моим произведением, итогом долгих месяцев нашей совместной работы". 57
Ван Гог действительно написал несколько картин маслом по рисунку Гогена. Вполне возможно, "что этюд Гогена помог Винсенту делать портреты: Винсент всегда сожалел, что не может найти в Сен-Реми модели для портретов. Во всяком случае, с наступлением зимнего сезона количество его пейзажей уменьшилось.
Но копирование не помешало Ван Гогу по временам работать на пленере, невзирая на холодную погоду. Хотя не так часто, как прежде, он все же предпринимал прогулки по окрестностям, что в результате давало ему возможность писать некоторые пейзажи по памяти. В то же время он занимался поисками новых сюжетов и писал брату: "Картины уже созрели у меня в голове; я знаю заранее места, которые еще захочу написать в ближайшие месяцы". 58
В некоторых случаях, когда сюжеты не могли "дожидаться" его, он "схватывал" их немедленно, как было, например, когда он увидел в Сен-Реми группу рабочих, чинивших мостовую на широком бульваре среди гигантских стволов узловатых платанов с желтеющими листьями. (В течение нескольких дней Ван Гог написал второй вариант этой картины.)
Вопрос о "новизне" сюжета часто вставал в мыслях и письмах Винсента, так как он всегда интересовался, писали уже другие художники тот или иной мотив или нет. Он чувствовал, что в Провансе есть множество еще недостаточно использованных сюжетов, как, например, виноградники, кипарисы, оливы. Им он уделял особое внимание, так как не хотел покинуть юг, не увезя с собой серий подлинно "новых" картин.
Так, в последние месяцы 1889 г. сюжетами, больше всего привлекавшими его внимание, были суровые горы неподалеку от лечебницы, изящные темные кипарисы (их суживающаяся форма казалась исполненной тайны), а главное, нежные серебристо-зеленые оливы, которых он раньше не писал. Ван Гог занялся целой серией картин, изображающих сбор оливок, хотя чувствовал, что Пюви де Шаванн, вероятно, лучше, чем он, знал, как "объяснить" эти живописные деревья. Но он вспоминал также Гогена и Бернара, когда писал Тео: "Я работал этот месяц в оливковых рощах, потому что меня бесят все эти изображения "Христа в Гефсиманском саду", в которых ничего не наблюдено. Само собой разумеется, я не собираюсь писать никаких библейских историй. Я сообщил Гогену и Бернару, что наш долг размышлять, а не грезить, и что поэтому я удивлен, усмотрев подобное направление в их работах..." 59
Прошел ровно год с тех пор как Ван Гог в последний раз написал Бернару; теперь, осенью 1889 г., он жаждал возобновить переписку.
"Брат сообщил мне, что ты приходил смотреть мои картины, – писал он. Таким образом, я знаю, что ты вернулся в Париж, и очень рад, что тебе вздумалось пойти посмотреть, что я сделал. Со своей стороны, я жажду узнать, что ты привез с собой из Понт-Авена. Голова моя теперь не слишком приспособлена для переписки, но я чувствую вокруг себя пустоту, когда не нахожусь в курсе того, что делает Гоген, ты и другие...
У меня здесь есть еще дюжина этюдов, которые, наверно, придутся тебе по вкусу больше, чем мои летние работы, показанные тебе моим братом. В числе этих этюдов имеется "Вход в каменоломню": бледно-лиловые скалы на красноватой почве, как в некоторых японских рисунках. По использованию больших цветовых планов и рисунку в этом есть много общего с тем, что вы делаете в Понт-Авене. В этих последних этюдах я чувствовал себя увереннее, потому что здоровье мое значительно улучшилось... Надеюсь, они докажут тебе, что я еще на что-то годен.
Бог мог, что здесь за сложное местечко! Все трудно, если хочешь проникнуть во внутреннюю сущность вещей, так, чтобы это не было чем-то неопределенным, а раскрывало истинный характер Прованса. Чтобы справиться с этим, надо очень основательно трудиться, и в результате, естественно, получается немного абстрактно: ведь дело здесь в том, чтобы дать солнцу и небу их полную силу и яркость, уловить тонкий аромат тмина, который пропитывает выжженную и унылую землю. Здешние оливковые деревья, старина, специально созданы для тебя. Мне лично они не слишком дались в этом году, но я еще вернусь к ним, во всяком случае, намерен вернуться. Они похожи на серебро на оранжевой или лиловой земле под огромным белым солнцем... Так что, видишь, у меня здесь еще есть с чем повозиться... Я работаю над большим холстом "Овраг"; мотив очень похож на ваш этюд с желтым деревом, который я храню: две громады массивных скал и между ними тоненький ручеек, а в конце оврага – третья скала, замыкающая его. В таких сюжетах есть какая-то тихая грусть; к тому же забавно работать в диких местах, где мольберт приходится приваливать камнями, чтобы ветер не повалил все на землю". 60
Восстановив контакт с Бернаром и сообщив ему, над чем он работает, Винсент несколько недель спустя был уже готов резко выступить против новой тенденции, которую Тео обнаружил в работах Гогена и Бернара, – религиозного мистицизма. Художник отнесся к ней не менее неодобрительно, чем его брат. Конечно, странно, что Винсент Ван Гог, бывший проповедник и фанатик, так яростно восстал против возрождения библейских сюжетов. Но его связь в Париже с такими атеистами и анархистами, как Писсарро, Синьяк, Сёра и папаша Танги, книги, которые он прочел (Вольтер, Ренан, Флобер, Золя, Доде, Тургенев, Мопассан, Гюисманс, Гонкуры – авторы, в большинстве своем, по меньшей мере, вольнодумные), и личный опыт художника пошатнули его веру.
Все еще оставаясь верующим, он был, как художник, страстно привязан к реальному миру. Теперь он попытался объяснить свою точку зрения в длинном письме к Бернару, посвященном религиозным картинам своего друга, фотографии которых тот ему прислал. После нескольких лестных слов он прямо заявил, что считает позицию Бернара нездоровой. Проанализировав "Поклонение волхвов" Бернара, Ван Гог утверждает, что, по его мнению, "невозможно себе представить такие неправдоподобные роды прямо посреди дороги", и сравнивает это рождение Христа с рождением теленка, написанным Милле. "Лично я люблю все настоящее, все подлинно возможное, – пишет он. – Если я вообще способен на душевный подъем, то я преклоняюсь перед этюдом Милле, настолько сильным, что он вызывает в нас трепет: крестьяне, несущие на ферму теленка, только что родившегося в поле. Вот это, друг мой, чувствовали все люди, начиная от Франции и кончая Америкой. И после этого вы хотите возродить средневековые шпалеры? Действительно ли таковы ваши искренние убеждения? Конечно, нет! Вы умеете делать вещи получше и знаете, что должны стремиться к возможному, логичному, правдивому, даже если вам придется отказаться от парижских штучек бодлеровского толка. Насколько я предпочитаю Домье этому господину!
...Но, довольно! Надеюсь, ты понял: я жажду услышать, что ты делаешь такие вещи, как твоя картина "Бретонки на лугу", находящаяся у Гогена, так дивно скомпонованная, отличающаяся таким наивно изысканным колоритом. А ты хочешь променять это, – скажу прямо, – на искусственность и притворство!.. Когда я сравниваю такие вещи с твоим кошмарным "Христом в Гефсиманском саду", мне, право же, становится грустно. Так вот, в этом письме я еще раз умоляю тебя, кричу тебе во всю мощь моих легких, – стань снова самим собой. "Крестный путь" – ужасен. Разве гармоничны в нем красочные пятна? Я не прощу тебе банальности – именно банальности композиции. Когда Гоген жил в Арле, я, как тебе известно, раз или два позволил себе увлечься абстракцией... Не спорю, после жизни, полной смелых исканий и единоборства с природой, можно рискнуть и на это; но что касается меня, я не желаю ломать себе голову над подобными вещами. Весь год я работал с натуры, не думая ни об импрессионизме, ни о чем другом. Тем не менее я еще раз дал себе волю и потянулся за звездами, которые оказались слишком велики, и вот снова неудача. Теперь с меня довольно! Итак, в настоящий момент я работаю над оливковыми деревьями, ищу различных эффектов серого неба, противопоставленного желтой почве и зелено-черным пятнам листвы... Что ж, меня, это интересует больше, чем все вышеназванные абстракции.
...Если я не писал тебе так долго, то лишь потому, что, борясь со своей болезнью и стараясь успокоиться, я не имел желания спорить и считал все эти абстракции опасными для себя. Когда спокойно продолжаешь работать, хорошие сюжеты приходят сами собой; необходимо прежде всего вновь погрузиться в действительность, без заранее обдуманного плана, без всех этих парижских предубеждений... Я, как мог, проникся атмосферой невысоких гор и оливковых рощ; посмотрим, что из этого выйдет. Мне не нужно ничего, кроме нескольких клочков земли, колосящейся пшеницы, оливковой рощи, кипариса – его, кстати, не так-то просто сделать..." 61
Далее Ван Гог описывает некоторые свои пейзажи, рассказывая, что в одних он пытался передать ощущение страдания посредством определенных комбинаций красок и тяжелых черных контуров, в то время как в других картинах стремился передать мир и покой. Подытоживая свои мысли, он объявляет: "Для того, чтобы создать нечто мирное, успокаивающее, нет необходимости изображать персонажи нагорной проповеди". 61
В письме к Тео, написанном в это же время, Винсент сравнивал свои последние работы с работами Гогена и Бернара: "То, что делаю я, несколько сурово и кажется грубым реализмом по сравнению с их абстракциями, и все же в моих работах звучит подлинно сельская нота и они пахнут землей". 59
Несмотря на свой "грубый реализм", Ван Гог чувствовал, что покой, которым он наслаждался в этот период, отразился даже на его красках и манере исполнения. Художник, видимо, отказался от столкновения дополнительных цветов, зачастую драматически звучавших в его картинах. Недаром он объяснял матери: "Все краски стали мягче, чем обычно". 62
А Тео он писал: "Похоже, что я больше не буду писать пастозно; это результат моей спокойной, отшельнической жизни, от которой мое самочувствие улучшилось. В конце концов, не такой уж у меня неистовый характер: я становлюсь самим собой, когда спокоен". 63
Лихорадочные попытки зафиксировать все мимолетные впечатления и писать так же быстро, как видишь, тоже отошли в прошлое. "Я стараюсь жить изо дня в день, кончать одну вещь, затем начинать другую", – писал он матери". 63
Эта хорошо организованная повседневная работа, видимо, так благотворно повлияла на Ван Гога, что в ноябре он без каких бы то ни было заметных дурных последствий смог провести два дня в Арле, где повидался с пастором Саллем. Художник был поражен, убедившись, что эта рискованная затея не повлекла за. собой нового приступа. Приступ все же случился перед рождеством, как и предвидел Ван Гог; однако на этот раз он длился всего неделю, что в значительной мере утешило больного. Несколько недель спустя, в последних числах января 1890 г., после дня, проведенного в Арле, у него снова был приступ, но он опять-таки прошел очень быстро и, видимо, не слишком расстроил художника.
Хотя ранее он заявлял, что безусловно покинет лечебницу, если приступы будут повторяться, решимость его поколебалась ввиду слабости двух последних припадков. Однако, несмотря на желание побыть еще некоторое время в Сен-Реми, где он собирался написать ряд новых картин, Винсент начал понемногу готовиться к возможному отъезду.
После первого легкого приступа он сообщил Тео: "Я напишу несколько слов Гогену и де Хаану и выясню, рассчитывают ли они оставаться в Бретани, можно ли мне прислать туда свою мебель [из Арля], а также хотят ли они, чтобы я приехал. Я не буду связывать себя никакими обещаниями, а только предупрежу, что, по всей вероятности, здесь не останусь". 64
Письмо Ван Гога застало Гогена в тот момент, когда он находился в страшно подавленном состоянии. "Бывают моменты, – писал Гоген своему другу Шуффенекеру в январе 1890 г., – когда я задаю себе вопрос, не лучше ли мне отступить. Вы должны признать, что у меня достаточно оснований махнуть на все рукой. Никогда я не был так обескуражен, как сейчас; в результате, я очень мало работаю и вечно задаю себе вопрос: "Что из всего этого выйдет и зачем все это?.." [Мейер де Хаан] попросил меня переехать из Понт-Авена в Ле Пульдю, чтобы я обучал его импрессионизму. Поскольку у меня нет кредита, а он им пользуется, он платит за мою комнату и стол в ожидании, пока Гупиль [Тео Ван Гог] что-нибудь продаст. Я бросил курить, а это для меня тяжкая жертва; потихоньку я сам стираю свое белье; по существу, я лишен всего, за исключением самой скромной пищи. Что можно сделать? Ничего. Остается сидеть, как крыса на бочке, брошенной в воду, и ждать..." 65
Когда Гоген получил письмо Ван Гога с сообщением о его возможном приезде в Бретань, настроение у него было совсем неподходящее для новых осложнений. Ответ его поэтому был достаточно краток: "Спасибо за письмо и за сообщение о твоих планах; я много размышлял о них и считаю, что мы с тобой можем, вполне можем жить вместе, но только приняв ряд предосторожностей. Твоя болезнь, от которой ты еще не совсем излечился, требует покоя и тщательного ухода. Ты сам говоришь, что когда ездишь в Арль, тебя начинают волновать воспоминания. Не боишься ли ты, что и я могу явиться аналогичным возбудителем? Во всяком случае, мне кажется, тебе не следует поселяться в городке, где ты будешь одинок и, следовательно, не сможешь получить немедленную помощь в случае рецидива. В связи с этим я стал подыскивать подходящее место. Я обсудил этот вопрос с Мейером де Хааном (он очень разумный человек) и думаю, что Антверпен будет как раз таким местом, потому что жизнь там не дороже, чем в какой-нибудь провинциальной дыре, потому что там есть музеи, которыми художникам не следует пренебрегать, и, наконец, потому что там можно работать на продажу. Почему бы нам не устроить там мастерскую под моим руководством? При наличии некоторых связей и при том, что имена наши уже известны [в Бельгии] через "Группу двадцати", такая штука вполне возможна. Как бы мало мы там ни сделали, мы всегда сможем предпринять какие-нибудь выгодные шаги. По-моему, импрессионизм не добьется устойчивого положения во Франции, пока не вернется в нее из-за границы. Наилучший прием он встречает за пределами Франции, там о нем говорят, таким образом, там и следует работать." 66
Хотя некоторое время Винсент, по-видимому, тешил себя этой идеей, он не считал ее практически выполнимой и скоро отказался от нее. Во всяком случае, он не обсуждал ее с Тео.
В свою очередь Тео, – возможно, потому, что не хотел волновать брата, – ни в одном из писем не упоминал о том, что Бернар привел к нему домой молодого критика, который был в восторге от работ Винсента. Действительно, Орье, по совету Бернара, решил написать статью о Винсенте Ван Гоге, и маловероятно, чтобы Тео ничего об этом не знал. Но поскольку Винсент уже просил своего соотечественника художника Исааксона не обсуждать его картины в статьях об импрессионистах, которые тот писал для голландской газеты (и в которых он упомянул Ван Гога в примечании), вполне возможно, что Тео предпочел не информировать брата о намерении Орье.
При всей неприязни, с какой Тео относился к символистскому направлению, многообещающим представителем которого был двадцатипятилетний Орье, Тео понимал, как важно, чтобы работы его брата, наконец, начали обсуждаться в печати, и, вероятно, считал, что будет лучше, если это начинание не сорвется вторично из-за возражений Винсента.
Орье поддерживал связь с Бернаром с начала лета 1888 г., когда он встретился с ним в Сен-Бриаке. Когда осенью того же года Бернар вернулся из Понт-Авена, Орье сообщил матери из Парижа: "Я снова видел Эмиля Бернара, художника-импрессиониста из Сен-Бриака. Он заставил меня посетить ряд выставок и познакомил с Гийоменом..." 67
Бернар, несомненно, познакомил своего нового друга со всеми последними тенденциями в искусстве (Орье вскоре начал разделять отвращение Бернара к пуантилизму Сёра), подробно рассказывал ему о поисках Гогена и своих собственных, а также детально описал жизнь и творчество Ван Гога, показав Орье наброски и письма, полученные из Арля. Орье был очарован ими и отправился с Бернаром к папаше Танги, а затем на квартиру Тео, чтобы посмотреть картины Винсента. (Когда в январе 1889 г. Бернар узнал от Гогена о трагических событиях в Арле, Орье был первым, с кем он поделился своим горем.) 68
В течение лета 1889 г. Орье помог Бернару, бесплатно анонсируя в некоторых символистских журналах выставку у Вольпини, и напечатал в "Le Moderniste", главным редактором которого состоял, несколько статей Бернара и Гогена, посвященных Всемирной выставке.
Во время выставки у Вольпини Орье впервые встретился с Гогеном. Но хотя к тому времени он был хорошо знаком с импрессионистско-символистскосинтетическим искусством, он еще не написал ничего значительного об этом направлении, несмотря на его явное родство с символизмом в литературе. Бернар, должно быть, почувствовал, что настало время использовать талант и славу Орье для поддержки усилий своих друзей.
Во второй половине 1889 г. Бернар послал Орье заметки о Винсенте Ван Гоге со следующим письмом: "Прилагаю к письму краткую статью о моем друге Винсенте. Если вы сочтете возможным напечатать ее в "Le Moderniste", пожалуйста, сделайте это. Я жажду, чтобы о моем добром друге хоть как-нибудь упомянули в печати: он подлинный художник и о нем следует написать еще при жизни, не потому что работа его абсолютно совершенна, а потому что у него бывают поразительные озарения. Если вы не возражаете, будет лучше всего, если вы сами дополните эту статью критической оценкой его произведений, находящихся у Танги, и выразите надежду, что брат его не станет колебаться и в один прекрасный день покажет его картины, либо устроив выставку, что не так уж трудно, либо экспонировав их у Гупиля... Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Во всяком случае, поступайте как хотите, но, по-моему, все-таки небезынтересно сделать обзор работ определенного числа старых и молодых импрессионистов в ряде статей, которые они напишут друг о друге". 69
Идея эта, видимо, заинтересовала Орье, хотя он и сам решил написать ряд статей о художниках-"одиночках".
Перспектива изучения работ Винсента Ван Гога несомненно должна была импонировать любому автору символисту. Было соблазнительно открыть публике искусство человека совершенно неизвестного, который пытался красками и формами выражать состояния души, то есть делал нечто родственное тому, что символисты пытались сделать словами-образами и звуками (равно как Сёра пытался добиться того же через направление линий). Разве Теодор Визева не заявил, что "произведение искусства может нравиться лишь тогда, когда оно действительно ново, иными словами, гармонирует с новейшими открытиями; ему следует быть также немножко болезненным". 70
Здесь перед ними были произведения совершенно новые, творения человека больного, страстного, вдохновенного, человека, который работал в лечебнице для душевнобольных, писал хватающие за душу письма странным, неуклюжим и в то же время проникновенным стилем человека, чья жизнь и поведение всегда были необычными, не потому что он хотел быть оригинальным, как многие символисты, друзья Орье, а потому что действительно был оригинален. Орье несомненно помнил, что рассказывал ему Бернар о юности Ван Гога:
"Движимый глубочайшим мистицизмом, читая библию и произнося проповеди во всевозможных непотребных местах перед самыми презренными людьми, мой дорогой друг почувствовал себя Христом, богом. Полная страданий и подвижничества жизнь должна была создать из этого существа с поразительно сильным интеллектом человека не от мира сего. Так и случилось. В возрасте двадцати пяти лет, будучи священником, он попытался реформировать протестантизм... Раздавленный, отвергнутый миром, он начал жить как святой. Немного позже он отправился в район угольных шахт и в Сорсьере выходил полусгоревшего при взрыве рудничного газа рабочего, на лбу которого виднелись "следы тернового венца". Затем – долгие путешествия пешком по полям Голландии и душераздирающие изображения крестьян. Вот некоторые этапы его жизни до переселения в Париж. А в Париже – удивительно человечное отношение к проституткам: я сам был свидетелем его возвышенной самоотверженности. Наконец, отъезд в Арль, торопливое возвращение оттуда Гогена... и весть о том, что Винсент находится в больнице..." 71
Однако Орье предпочел не распространяться о таких биографических подробностях и вместо этого изобразил Ван Гога художником-символистом. Его статья, первая из задуманной им серии и вообще первая, посвященная художнику, должна была появиться в январе 1890 г. в первом выпуске "Mercure de France", символистском двухнедельнике, в создании которого Орье принимал активное участие. Статья Орье была озаглавлена "Одинокие. Винсент Ван Гог". В ней он описывал полотна Ван Гога манерно-изысканным, многословным и непонятным языком, свойственным всем представителям символистского направления. Однако, помимо слишком обильных литературных определений и поэтических толкований, статья Орье содержала еще и ряд мест, дававших проницательную оценку работ художника.
"Что касается Винсента Ван Гога, – писал Орье, – то, невзирая на ошеломляющую иногда необычность его работ, трудно... не заметить в его искусстве наивную правдивость, искренность видения. В самом деле, не говоря уже об умении видеть реальные вещи в неуловимом аромате правдивости, которым дышат все его картины, о выборе сюжетов, о неизменной гармоничности самых чрезмерных красок, о честно изученных характерах, о непрестанных поисках истинной сущности каждого объекта, тысячи других многозначительных подробностей свидетельствуют о его глубокой и чуть ли не детской искренности, его безмерной любви к природе и правде – его собственной правде. Всю его работу характеризует избыток – избыток силы, избыток нервозности и страстности выражения. В его категорическом утверждении характера вещей, в его зачастую своевольном упрощении форм, в дерзком желании изобразить солнце, глядя ему в лицо, в неистовой напряженности его рисунка и колорита, даже в мельчайших особенностях его техники – всюду виден могучий человек, настоящий мужчина, смельчак, порой по-животному грубый, а порой удивительно нежный. Это явственно ощущается в чуть ли не разгульной чрезмерности всего, что им написано. Он – энтузиаст, враг буржуазной умеренности и мелочности; он похож на опьяневшего гиганта, которому легче сдвигать горы, чем возиться с безделушками, это кипучий ум, чья лава неудержимо заливает все ущелья искусства, несокрушимый, обезумевший гений, порой возвышенный, порой гротескный, почти всегда показывающий нечто патологическое. И, наконец,– что важнее всего, – он ярко выраженный сверхэстет, который ощущает с ненормальной и, вероятно, даже болезненной интенсивностью неуловимую тайную сущность линий и форм и в еще большей мере чувствует характер цвета, света, магическую переливчатость теней, тончайшие нюансы, невидимые для здорового глаза. Вот почему реализм этого неврастеника, его искренность и его правдивость так оригинальны... Он несомненно прекрасно понимает свойства материальной реальности, ее значение и красоту, но наряду с этим, и в большинстве случаев, он считает эту упоительную материю лишь неким чудодейственным языком, предназначенным для выражения Идеи. Почти всегда он – символист... испытывающий постоянную потребность облекать свои идеи в точные, обдуманные, осязаемые формы, в интенсивно телесную и материальную оболочку. Под этой физической оболочкой, под этой живой плотью, под этой вещественной материей для тех, кто знает, как обнаружить ее, кроется мысль, Идея, – и эта Идея, будучи неотъемлемым субстратом произведения, в то же время является его действенной и конечной причиной.
Да, Винсент Ван Гог не только великий художник, захваченный своим искусством, своей красочностью и природой, он еще и мечтатель, верующий, фанатик, жадно впитывающий прекрасные утопии, человек, живущий идеями и сновидениями.
В течение долгого времени он упивался мечтами об обновлении искусства путем ухода от цивилизации, о создании искусства тропиков. [Не исключено, что Орье, утверждая это, приписывал Ван Гогу некоторые мысли Гогена.] 72
Придя к убеждению, что в искусстве все следует начать заново, он долгое время лелеял мысль изобрести живопись, которая была бы очень простой, доходчивой, почти детской, способной трогать простых, не искушенных в тонкостях людей и понятной даже для самого наивного и бедного ума... Осуществимы ли все эти теории, все эти мечты Винсента Ван Гога? Быть может, это лишь пустые, хоть и прекрасные фантазии? Кто знает!.."
Затем Орье анализировал технику Ван Гога: "Внешняя, материальная сторона его живописи находится в полном соответствии с его творческим темпераментом. Все его работы выполнены энергично, приподнято, грубо, напряженно. Его неистовый, могучий, иногда неловкий и тяжеловатый рисунок преувеличивает характер, упрощает и, властно смиряя ненужные подробности, достигает смелого синтеза, а порою, хоть и не всегда, большого стиля. Его цвет... неправдоподобно ослепителен. Он, насколько мне известно, единственный художник, передающий колорит вещей с такой интенсивностью; в нем чувствуется металл, сверкание драгоценных камней...