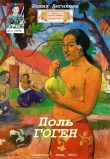Текст книги "Постимпрессионизм (От Ван Гога до Гогена)"
Автор книги: Джон Ревалд
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
Согласно воспоминаниям Веркаде, Гоген, "хотя он на самом деле был моложе, производил впечатление человека лет пятидесяти, который знавал трудные времена, но всегда умел противостоять ударам судьбы. У него были очень длинные черные волосы, низкий лоб, и он носил жидкую короткую бородку, оставлявшую открытым рот с чувственными, но твердыми губами и большую часть желтоватых щек. Самой поразительной чертой его были тяжелые веки, придававшие лицу усталое выражение. Однако крупный с горбинкой нос смягчал это впечатление и свидетельствовал об энергии и проницательности. Меня представили мэтру и другим завсегдатаям, по большей части иностранным художникам, и я принялся за свой суп. Гоген был очень молчалив, скоро встал и ушел. После этого де Хаан долго еще рассуждал об искусстве Гогена..." 48
Хотя по существу Веркаде почти не соприкоснулся с Гогеном, он ушел из ресторанчика полный энтузиазма и зачастил туда каждый вечер. При посредстве де Хаана Веркаде вскоре встретился с Серюзье, ознакомившим его с теориями Гогена и "Набидов", в круг которых и был допущен приезжий. Примерно в это же время к "Набидам" присоединился еще и датский художник Могенс Баллин, получивший рекомендательные письма к Гогену и Писсарро от жены Гогена, а также друг Даниеля де Монфрейда Аристид Майоль, который в то время продолжал писать и ткал гобелены. Влияние Гогена стало явно заметно в его творчестве с тех самых пор, как на выставке у Вольпини Майоля озарило нечто вроде откровения.
Гоген, несомненно обрадованный тем, что нашел ревностных почитателей и последователей не только среди поэтов и писателей, но и среди художников, поддерживал с этой небольшой группой сердечные отношения. Серюзье даже прозвал его "старейшиной Набидов".
После увольнения в запас Люнье-По делил с Боннаром крохотную мастерскую на улице Пигаль, куда часто приходили поработать Дени и Вюйар, в то время как Люнье-По читал свои роли или давал уроки. Согласно его воспоминаниям, в числе посетителей мастерской были Гоген, а также Серюзье и торговец картинами Лебарк де Бутвиль, который вскоре начал проявлять активный интерес к молодым художникам. В его небольшой галерее Бернар впоследствии устроил выставку Ван Гога.
Среди художников, с которыми Гоген поддерживал связь в Париже, был и Редон, чье восхищение Эдгаром Алланом По он полностью разделял.
Гогена целиком поглотили работы Редона. Он никогда не забывал их, и, хотя в его таитянских картинах не ощущается прямого влияния искусства Редона, там все же иногда встречаются смутные намеки на фантасмагории Редона, словно какие-то видения самого Гогена прошли сквозь фильтр редоновского мистического воображения. Впоследствии Гоген с восхищением отзывался о Редоне и говорил, что "это необыкновенный художник, которого люди упрямо отказываются понимать. Воздадут ли они ему когда-нибудь должное? Да, воздадут, когда его подражатели будут подняты на щит". 49
Практически у Редона вовсе не было подражателей, хотя его почитатели из числа молодежи и особенно "Набидов" начали наконец нарушать одиночество, в котором он жил и работал.
Гоген, вероятно, мало встречался с Бернаром, и у нас нет сведений о том, что последний был связан с группой, собиравшейся в кафе "Вольтер". Не было у Бернара и особой дружбы с "Набидами", хотя Дени, подобно ему, являлся почитателем Сезанна и Редона и был ревностным католиком. (Дени, по крайней мере, отчасти ответствен за то, что голландский протестант Веркаде и датский еврей Баллин вскоре перешли в католичество.)
Похоже, что различные осложнения, вдобавок к его сердечным переживаниям (Бернар конечно так никогда и не женился на своей возлюбленной), вынудили молодого человека отказаться от поездки с Гогеном. С другой стороны, Бернар не слишком радовался, видя, какой шумный успех имеет Гоген в литературных кругах, в то время как его собственных усилий никто не замечает. Поскольку де Хаан тоже отказался от намерения уехать на Таити, видимо, из-за того, что родные отказали ему в необходимых средствах, Гоген начал теперь открыто заявлять, что хочет ехать один.
Действительно, Гоген приехал в Париж не для того, чтобы теоретизировать с символистами, работать в предоставленной на время мастерской или устанавливать дружеские отношения с собратьями художниками; он приехал для того, чтобы добиться своей цели – изыскать средства на отъезд из Европы. Так как задуманный им план устройства выставки провалился, он сконцентрировал все усилия на аукционе – единственном способе собрать сразу соответствующую сумму денег. Чтобы исключить какую бы то ни было возможность провала, он начал теперь сознательно спекулировать на благожелательности всех, кто мог помочь ему в его предприятии. Он знал, что от щепетильности ему будет мало пользы, что он сможет добиться своего только ценой безжалостных, умных, неослабных усилий. Не было средства, которым бы он не воспользовался, не было двери, в которую бы он не постучался, чтобы заручиться поддержкой, необходимой для эксплуатации той симпатии к нему, какую он ощущал у молодых поэтов и их соратников.
"Мы боремся против безмерно честолюбивых "гениев", которые стремятся раздавить каждого, кто стоит у них на пути, – писал сыну Камилл Писсарро. До чего все это тошнотворно! Если бы ты знал, как низко вел себя Гоген, чтобы его произвели (именно произвели!) в гении и как ловко он добивался этого! Ничего нельзя было поделать: все помогали ему взбираться наверх. Любой другой на его месте сгорел бы со стыда! Зная, в каких он трудных обстоятельствах, я сам не смог отказать ему и замолвил за него словечко Мирбо. Он ведь был в таком отчаянии!" 50
"Я попросил у нашего друга Моне ваш адрес, – писал Писсарро Мирбо,чтобы узнать, знакомы ли вы с удивительной керамикой Гогена, такой экзотической, варварской, первобытной и в то же время стильной. Если вы никогда не видели эту керамику, то вам, человеку, который высоко ценит каждое произведение искусства, пусть даже необычное, следует взглянуть на нее... Большое количество этой керамики находится на хранении у его друга Шуффенекера... там вы сможете посмотреть и его картины". 51
В то же самое время Шарль Морис, представивший Гогена Малларме, отправился навестить поэта и заручиться его помощью. Малларме тоже счел, что наиболее действенной была бы поддержка Мирбо, и написал ему, ходатайствуя за Гогена: "Один из моих молодых коллег, человек большой души и таланта, друг живописца, скульптора и керамиста Гогена, – вы знаете, кто он такой,– попросил меня обратиться к вам, как к единственному человеку, который может что-то сделать. Этот редкий художник, испытавший в Париже все мыслимые беды, ощущает потребность в одиночестве и чуть ли не первобытной обстановке... Поэтому самое необходимое для него – это статья..." 52
Мирбо любезно уступил этому двойному натиску. "Конечно, я это сделаю, и от всего сердца,– ответил он. – Я не знаком с самим Гогеном, но знаю некоторые его работы, и они страшно интересуют меня... Буду очень рад видеть Мориса и Гогена, если они могут провести со мной день в Ле Дан [поместье Мирбо], мне это доставит большое удовольствие". 53 Несколько позже, после визита друзей, Мирбо сообщал Моне: "Я получил письмо от Малларме по поводу этого несчастного Гогена. Он совершенно без средств. Он мечтает бежать из Парижа на Таити и начать там работать заново. Чтобы помочь ему выполнить этот план, меня попросили написать статью в "Figaro" в связи с распродажей с аукциона тридцати его картин. Устроить это было нелегко, но Маньяр в конце концов согласился напечатать ее. Завтра я еду в Париж, чтобы посмотреть [его] последние картины и керамику. Гоген был у меня. Он привлекательный человек, искренне озабоченный судьбами искусства. И у него замечательная голова. Он мне очень понравился. В такой натуре, внешне грубой, нетрудно обнаружить очень много интересного и интеллектуального. Его страшно мучит желание узнать, что вы думаете о его эволюции в сторону усложнения идеи посредством упрощения формы. Я сказал, что вам очень понравилась его картина "Иаков, борющийся с ангелом" и его керамика. И хорошо сделал, потому что он очень обрадовался". 54
Гоген, возлагая большие надежды на статью Мирбо, сообщал жене: "Я рискую большей частью своих картин ради будущего и не хотел отвечать на твое письмо, пока не уверюсь в счастливом исходе. Статья для "Figaro" встретила возражения со стороны главного редактора, который не хотел помещать ее [и действительно, вместо "Figaro" статья появилась в "Echo de Paris"]. Наконец нам обещали напечатать ее во вторник, за ней последуют другие в "Gaulois", "Justice", "Voltaire", "Rappel" и, возможно, в "Debats". Как только они появятся, я пришлю тебе всю пачку. Если ты сможешь перевести статью из "Figaro" для датской газеты, ты сделаешь полезное дело. Статья эта произведет впечатление в датских художественных кругах". 55 А несколько дней спустя он снова писал: "Я спешно решил черкнуть тебе несколько строк, потому что страшно нервничаю. Приближается день распродажи – понедельник. Все хорошо подготовлено, и я хочу собрать вместе все статьи, а потом уж послать их тебе. Они, между прочим, вызвали большой шум в Париже и привели в возбуждение художественные круги даже в Англии, где одна из газет назвала распродажу важным событием". 56
Статья Мирбо, где он отказывается от натуралистических позиций, с которых однажды атаковал Редона, появилась 16 февраля, за неделю до распродажи. Морис Дени назвал эту статью "центральным событием недели", но жена Гогена написала мужу, что статья показалась ей "до смешного преувеличенной".
"Я только что узнал, – писал Мирбо, – что г-н Поль Гоген уезжает на Таити. Он намерен пожить там один несколько лет, построить себе хижину, начать все сызнова и осуществить те замыслы, которыми он одержим. Когда человек добровольно бежит от цивилизации, ища забвения и покоя, для того чтобы лучше познать себя и прислушаться к внутренним голосам, заглушенным шумом наших страстей и споров, – это кажется мне любопытным и трогательным. Г-н Поль Гоген очень своеобразный, очень волнующий художник, который неохотно показывался публике, знающей поэтому о нем очень мало. Несколько раз я хотел написать о нем... но не решался, – вероятно, из-за сложности вопроса и боязни неверно изобразить человека, которого я в высшей степени уважаю. В самом деле, есть ли более непосильная задача, чем определить в нескольких коротких и беглых замечаниях значение искусства одновременно столь сложного и примитивного, ясного и непонятного, варварского и утонченного, как искусство г-на Гогена?"
Затем Мирбо упоминал перуанских предков Гогена, его службу в качестве моряка и банковского агента, появление у него интереса к искусству, его любовь к Пюви де Шаванну, Дега, Мане, Моне, Сезанну и японцам. Однако Мирбо не вспомнил Писсарро. Не упомянул он его и говоря о раннем периоде творчества Гогена, когда Писсарро оказывал существенное влияние на своего ученика. Правда, со времени своей дивизионистской "аберрации" Писсарро был уже не тем, на кого стоило ссылаться; к тому же, вероятно, и сам Гоген не хотел вспоминать о своих ранних несинтетистских работах.
"Несмотря на его кажущуюся моральную силу, – продолжал Мирбо, – у г-на Гогена в сущности беспокойный ум, терзаемый стремлением к бесконечности. Никогда не удовлетворяясь тем, что достигнуто, он продолжает беспрестанные поиски. Он чувствует, что еще не дал того, что способен дать. Беспорядочные замыслы теснятся в его душе; неопределенные, могучие устремления направляют его ум на более отвлеченный путь, к более своеобразным формам выражения. И мысли его возвращаются к таинственным и светлым странам, которые он посещал в прошлом. Ему кажется, что там он найдет еще дремлющие, еще неоскверненные элементы нового искусства, отвечающего его мечте. Там же обретет он и одиночество, в котором так нуждается... Он отправляется на Мартинику... Он привозит ряд великолепных и строгих полотен, в которых он обрел наконец свою индивидуальность и в которых виден огромный прогресс, быстрое продвижение к желанному искусству... Воплощаясь в величавых контурах, мечта ведет его к духовному синтезу, к красноречивому и глубокому выражению. С этого момента г-н Гоген становится хозяином самого себя. Рука стала его рабыней, послушным и верным инструментом его мозга. Теперь он может выполнить работы, о которых так долго мечтал".
Далее, подчеркнув, что Гоген уже добился духовного синтеза в картинах с Мартиники, Мирбо послушно повторил то, что художник, несомненно, сам рассказал ему, и, таким образом, несколькими словами свел на нет значение тех плодотворных и напряженных месяцев, когда Гоген в Бретани обрел новый стиль в тесном содружестве с Эмилем Бернаром. О роли Бернара в их совместных открытиях и творческих спорах, равно как и о былом влиянии Писсарро на Гогена, в статье даже не упоминалось.
Говоря о последних работах Гогена, Мирбо в своем пространном цветистом стиле – менее туманно, но так же многословно, как и символисты, продолжал превозносить достижения художника:
"Странное, идущее от мозга волнующее творчество, еще неровное, но пронзительное и великолепное даже в своей неровности! И мучительное – ведь для того, чтобы понять его, ощутить его воздействие, человек должен познать страдание, познать иронию страдания, ибо она – преддверие тайны. Иногда оно поднимается до высот мистического акта веры; иногда низвергается и гримасничает в ужасном мраке сомнения. И всегда оно излучает горький и неистовый аромат отравленной плоти. В его творчестве есть тревожная и острая смесь варварского великолепия, католической литургии, индусской мечтательности, готической образности, неясной и тонкой символики; есть жестокая реальность и неистовые поэтические взлеты, посредством которых г-н Гоген создает глубоко личное и совершенно новое искусство – искусство художника и поэта, апостола и демона, искусство, возбуждающее боль...
Казалось бы, раз г-н Гоген достиг такой возвышенности мысли, такой широты стиля, он должен обрести безмятежность, душевный покой, мир. Но нет! Мечта никогда не засыпает в его пылком мозгу; она парит и растет по мере того как обретает форму. И вот его охватила тоска по тем местам, где расцвели его первые мечты. Он хочет пожить там один несколько лет... Здесь он испил полную чашу страданий и претерпел большие невзгоды. Он потерял друга, которого нежно любил, которым горячо восхищался, – несчастного Винсента Ван Гога, человека великолепнейшего художественного темперамента, прекраснейшей артистичной души, на кого мы возлагали столько надежд. А у жизни есть свои беспощадные требования. Та же потребность в тишине, созерцании, полном одиночестве, которая погнала его на Мартинику, гонит его теперь еще дальше, на Таити, где природа будет более благосклонна к его мечтам, где, как он надеется, Тихий океан осыплет его еще более нежными ласками, окружит древней и преданной любовью, как некий вновь обретенный предок. Куда бы ни отправился г-н Гоген, он может быть уверен, что наша любовь последует за ним". 57
Писсарро, хотя он отчасти и был ответствен за выступление писателя, теперь сообщал сыну: "Мирбо по просьбе символистов написал статью, в которой зашел слишком далеко и которая, как я вижу, вызвала большую сенсацию. Я слышал от Зандоменеги, что Гоген, не рискнув лично явиться к Дега, написал ему и попросил о поддержке. Дега, человек в общем очень добрый и отзывчивый к людям, попавшим в беду, предоставил себя в распоряжение Гогена. [Доктор] де Беллио, который до того не воспринимал Гогена, признался мне, что переменил мнение о его работах и считает его большим талантом, но не в скульптуре. Почему?.. Все это знамение времени, дорогой мой. Испуганная буржуазия, растерявшись перед лицом могучего протеста обездоленных масс, перед настойчивыми требованиями народа, инстинктивно чувствует необходимость вернуть этот народ назад к суеверию. Вот почему подняли голову религиозные символисты, религиозные социалисты, идеалистическое искусство, оккультизм, буддизм и пр. Гоген нюхом учуял эту тенденцию". 50
Менее витиеватой, но не менее восторженной, чем статья Мирбо, была статья Роже Маркса, появившаяся 20 февраля в журнале "Voltaire". "Беспристрастно анализируя теперь творчество Гогена и принимая во внимание его личный идеал и манеру интерпретации, логически вытекающую из первого, мы считаем, что Гоген являет нам, наряду с могучей силой видения и выражения, образец редких декоративных способностей, поставленных на службу блистательному уму. Он является также этнографом, великолепно умеющим расшифровать тайну лиц и поз, извлечь торжественную красоту из наивных образов, схватить естественные жесты простых деревенских жителей, полные ритма и иератического величия". 58
Два дня спустя, накануне аукциона, Гюстав Жеффруа то ли умышленно, то ли по ошибке опубликовал ложное сообщение о том, что французское правительство приобрело одну из мартиникских картин Гогена. 59
Гоген несомненно хотел, чтобы статья Орье тоже появилась вовремя и привлекла бы еще большее внимание к распродаже, но, хотя Орье закончил ее 9 февраля, за неделю до появления статьи Мирбо, опубликовать ее оказалось невозможно до выхода в свет мартовского выпуска "Mercure de France".
Тем временем Гоген перепечатал статью Мирбо в виде предисловия к каталогу распродажи. 60
Распродажа состоялась 23 февраля 1891 г. В числе представленных на ней тридцати картин были полотна с Мартиники, из Арля и Бретани ("Желтый Христос" не был включен, так как на него уже нашелся покупатель в лице Эмиля Шуффенекера). Только две картины были проданы ниже 250 франков, а так как это, видимо, была самая низкая установленная Гогеном цена, то одну из картин он сам выкупил обратно. Средняя цена за картину составила 321 франк, то есть ненамного ниже той, которую художник установил в 1890 г. на картины, оставленные им Тео Ван Гогу, когда он хотел получить в среднем по 380 франков за каждую. Некоторые из полотен, оцененные им для Тео Ван Гога в 300 франков, пошли, например, на аукционе по 260, а картина "Иаков, борющийся с ангелом", предложенная Гупилю за 600 франков, теперь была продана за 900. Фактически это была самая высокая цена, предложенная на аукционе; следом за нею шла сумма в 505 франков, уплаченная торговцем картинами Манци, другом Дега, а сам Дега (он недавно начал коллекционировать картины) заплатил 450 франков за "Прекрасную Анжелу". Среди покупателей, кроме Дега и Манци, были покровитель Писсарро доктор де Беллио, купивший две картины, приятельница Малларме Мери Лоран, купившая одну, новый знакомый Гогена Даниель де Монфрейд, купивший две, и трое братьев Натансон, основателей "Revue blanche", которые совместно и удачно приобрели пять картин. Критик Роже Маркс купил одну картину, так же поступил торговец картинами папаша Тома, вложивший в Гогена 260 франков, чего ни разу не осмелился сделать с Ван Гогом. Художник К. К. Руссель истратил 280 франков на картину, которую купил совместно с другими "Набидами": каждый из них получал право по очереди брать ее домой. Что же касается графа Антуана де Ларошфуко, то он тоже приобрел одну картину (а впоследствии купил и еще одну – "Потеря невинности").
Малларме, не имея возможности присутствовать на аукционе, прислал краткую извинительную записку: "Мой дорогой Гоген, схваченный грипп, надеюсь, без серьезных последствий, – лишает меня удовольствия пожать вашу руку и бросить прощальный взгляд на прекрасные творения, которые я так люблю. Удовлетворены ли вы хоть немного? Я никого еще не видел. Дал ли вам по крайней мере этот аукцион возможность уехать? Нынешней зимой я часто думал, насколько мудро ваше решение. Вашу руку! Я пишу это не в ожидании ответа, а для того, чтобы вы знали, что отныне, где бы вы ни были, я ваш". 61
В целом аукцион дал Гогену около 9 350 франков, то есть, даже за вычетом некоторых расходов, как, например, издание каталога, гораздо больше того, что он рассчитывал получить от Шарлопена. Хотя Гоген, казалось, имел все основания быть довольным, он на следующий день написал жене, к которой хотел заехать в Копенгаген, чтобы перед отъездом повидать ее и детей: "Аукцион состоялся вчера и прошел успешно. Впрочем, это ничто в сравнении с успехом выставки, состоявшейся накануне! Но моральный успех огромен, и я верю, что скоро он принесет плоды". 62
Жена Гогена, содержавшая пятерых его детей уроками французского языка, переводами, а иногда случайной продажей какой-нибудь картины, сейчас же потребовала немного денег, но, видимо, ничего не получила. Вместо этого Гоген одолжил 500 франков Шарлю Морису и поручил своему другу хранить все поступления от возможных продаж за время его отсутствия.
Шум, поднятый рекламной кампанией Гогена, вызвал гнев Бернара, – надо полагать, потому, что его имя ни разу не было упомянуто. Хотя прежде он сам хотел, чтобы Гоген выручил деньги на их поездку, теперь он негодовал на то, что все внимание было сконцентрировано исключительно на его друге. Позднее он говорил: "Многое привязывало меня к Гогену: во-первых, то что талант его не получал признания; во-вторых, то, что он понимал мои идеи, и, наконец, нужда, в которой он находился. Могу сказать, что я делал для него все, что мог: защищал его работы, знакомил его с моими друзьями, везде хвалил, пытался продавать его картины, когда имел эту возможность. Я даже пренебрегал собственными интересами, чтобы свести его с писателями и другими людьми, способными помочь ему. Я не жалею ни о чем, что делал..." 63
Но теперь, когда Гоген добился успеха и уже не был ни забытым, ни обездоленным, Бернар не испытывал прежних чувств по отношению к другу. Впоследствии он объяснял такую перемену тем, что Гоген выставился один, хотя обещал не делать этого. Однако Гоген едва ли мог рискнуть вынести работы Бернара на аукцион в то время, когда его молодой друг сам признавался Орье, что картины его еще не имеют коммерческой ценности. 64
Хотя не прошло еще и двух лет с тех пор, как они выставлялись у Вольпини, Бернар, по-видимому, опасался, как бы его не обвинили в том, что он находится под влиянием Гогена, если он впоследствии покажет похожие работы. Как бы то ни было, именно выставка Гогена, предшествовавшая аукциону, привела к открытому конфликту между двумя художниками.
Чуть ли не пятьдесят лет спустя Бернар писал в своих мемуарах: "Моя сестра, свидетельница всего, что произошло, возмутилась и сказала Гогену прямо в аукционном зале, где он пытался раздобыть деньги для отъезда на Таити: "Господин Гоген, вы – предатель; вы нарушили клятву и приносите величайший вред моему брату, истинному основоположнику того искусства, которое вы теперь приписываете себе!" И тогда я увидел нечто странное,сообщает Бернар. – Гоген не ответил ни слова и ушел. С тех пор я никогда больше не видел его". 63 Впоследствии Бернар дал другую версию истории их ссоры, признавая, однако, что начата она была им и его сестрой: они оба обозлились, видя, что Гоген "объявляет себя вождем символистской школы в живописи". Бернар уснастил также свои воспоминания грязной подробностью: Гоген якобы ответил Мадлене Бернар "грубостью, потому что выпил в этот день много абсента, о чем можно было ясно судить по его дыханию. Результатом был разрыв..." 65
С тех пор и Бернар, и Гоген пользовались каждой возможностью, чтобы с величайшим презрением высказаться друг о друге. Бернар утверждал, что он один был идейным вдохновителем нового направления, возникшего в 1888 г. и получившего впоследствии название Понт-авенской школы: "Я был единственным, кто подвел под него новое и логическое обоснование; именно я был самым смелым и самым решительным новатором, так как моя крайняя молодость (мне было тогда двадцать лет), вскормленная независимостью, свободой и страстным порывом, вечно толкала меня вперед". 66
Напротив, Гоген в своих заметках, которые он, по-видимому, намеревался опубликовать, но которые так и не увидели света, стоял на противоположной точке зрения, отрицая за Бернаром какую бы то ни было оригинальность, чем доказал, что он не более справедлив, нежели сам Бернар. "Действительно, писал Гоген в 1895 г., – Бернар прибыл в Понт-Авен после того, как тщательно, ознакомился с последней выставкой импрессионистов на улице Лафит. Он тогда отказался от подражания кому бы то ни было – Писсарро, Мане и Гогену – и решил заняться последней новинкой – маленькой точкой. В том году в пансионе Глоанек, в Понт-Авене, после него осталась панель, сделанная в манере Сёра. В этот момент Гоген изо всех сил боролся против всех этих усложненностей, хотя тогда он еще не отличался тою простотой, какой достиг сейчас. В следующем году, пока Гоген на Мартинике неизменно шел своим путем, Бернар занимался всем понемножку (в конце концов, это было естественно в возрасте восемнадцати лет): он писал сцены из священного писания по древним изображениям или старинным шпалерам. В промежутках он писал также натюрморты в совершенно ином стиле, похожем на Сезанна, но не подписывал их (мы не дерзаем предположить, что это делалось намеренно, с целью продать их под видом работ Сезанна). 67 В 1888 г., под руководством Гогена, пользуясь его резцами, он пытался делать деревянные скульптуры; впоследствии его "Бретонские женщины" практически повторили "Бретонских женщин" из дерева Гогена." 68
Следует заметить, однако, что, делая это язвительное замечание, Гоген избегал говорить о картинах, над которыми он и Бернар в 1888 г. работали бок о бок. В пылу гнева ни Гоген, ни Бернар не желали признать, что стиль, созданный ими в Понт-Авене, родился в результате их тесного содружества. Дружба их была построена на постоянном обмене мнениями, при котором оба художника проверяли друг на друге свои новые идеи, подталкивали, критиковали и хвалили один другого и, постоянно проводя между собой сравнения, начинали лучше понимать себя. Каждый великодушно давал советы и принимал их. Отношения Гогена и Бернара дали каждому из них возможность избежать мучительного одиночества, когда человек сам себе задает вопросы и сам отвечает на них.
Нет сомнений, что ряд идей исходил от Бернара, но искусство живописи строится не только на идеях. Теперь, когда новая формула была окончательно установлена, важно было не столько прошлое, сколько настоящее и будущее. В настоящем Бернар запутался в неясном мистицизме и в попытках заново открыть старых мастеров, тогда как Гоген решительно шел тем путем, на какой они когда-то вступили вместе. Что же до будущего, то Гоген не собирался оставлять неустанные поиски новых, все более могучих средств выражения, в то время как Бернар все дальше отходил от многообещающих достижений своей молодости. Не удивительно, что при таких обстоятельствах окружающие все более настойчиво приписывали более сильному, последовательному и радикальному из двух друзей все те новшества, авторство которых лишь отчасти принадлежало ему (и это конечно страшно раздражало Бернара, пережившего Гогена почти на сорок лет, но так и не достигшего известности).
Одно время казалось, что увещевания Ван Гога принесли плоды, так как в 1892-1893 гг. Бернар отказался от религиозных сюжетов, против которых так яростно возражал его друг. Вместо этого он, занимаясь своими "синтетическими" исканиями, создал целый ряд работ, – большей частью бретонских сцен, – сильных по цвету, смело скомпонованных и ритмичных по рисунку. Успешно перемежая плоские пространства и грациозные арабески, он, казалось, в годы отсутствия Гогена претворил в жизнь все те новые принципы, за которые они вместе боролись. Но для него, как новатора, это была лебединая песня. Уехав в 1893 г. в Италию, он посвятил себя систематическому изучению мастеров Возрождения и начал скатываться на путь подражания и академической традиции. Однако в 1891 г. Бернар все еще работал в понт-авенском стиле, так что злился он на Гогена не столько из-за различия в художественных убеждениях, сколько из-за "предательства" друга.
Разрыв между Гогеном и Бернаром стал окончательным после статьи Орье, появившейся через неделю после аукциона. Это была та самая статья, о которой Бернар просил Орье и для которой он обещал предоставить все необходимые сведения.
В длинном, сложном опусе, озаглавленном "Символизм в живописи: Поль Гоген", Орье провозгласил Гогена вождем символистского искусства, ни разу даже не упомянув Бернара. Очень возможно, что ссора Бернара с Гогеном произошла именно после опубликования статьи, а не после аукциона. Но если дело обстояло так, то Бернар, видимо, не захотел открывать подлинную причину своего гнева и выдвинул более "беспристрастную" версию, согласно которой ссора двух бывших друзей была вызвана незаинтересованным свидетелем – сестрой Бернара. Как бы там ни было, Бернар не только порвал с Гогеном, но и обострил отношения с Орье. В какой-то мере возмущение его было понятно: ведь Орье умолчал о его вкладе в создание символистско-синтетического стиля, вкладе, которым никак нельзя пренебречь.
Жюльен Леклерк впоследствии объяснял, что Орье не упомянул Бернара, так как решил подождать, пока художник раскроет свою индивидуальность в более оригинальных работах. 69 Однако сам Бернар был несомненно убежден, что Орье игнорирует его по просьбе Гогена, и что это часть того плана, который Писсарро называл кампанией, предпринятой Гогеном "для производства его в гении"; не исключено, что дело обстояло именно таким образом.
Статья Орье о Гогене несомненно была самой значительной работой, какую он написал с тех пор, как опубликовал статью о Ван Гоге ровно год тому назад. Она начиналась длинным поэтичным и довольно театральным описанием картины Гогена "Иаков, борющийся с ангелом", а затем автор переходил к определению импрессионизма, как гипертрофии натурализма Курбе, как "точной передачи исключительно чувственного впечатления и только". Орье находил, что параллельно угасанию литературного натурализма, ускоряемому возрождением идеализма и даже мистицизма, происходит аналогичный процесс в области изобразительных искусств, и считал, что новаторы – "синтетисты, идеисты, символисты, – называйте их как угодно, – во главе которых шагает Гоген, должны ставить себе совершенно иные нежели раньше цели...
Поль Гоген представляется мне основоположником нового искусства,пусть не в плане истории, но по крайней мере для нашего времени... Естественная и конечная цель живописи, как и всякого искусства, не может состоять в прямом изображении предметов. Его высшая цель – выражать идеи своим особым языком. Для глаза художника, вернее, для глаза того, кто задался целью выразить абсолютную сущность... предметы, как таковые, не имеют цены. Они могут существовать для него только как знаки. Они – буквы необъятного алфавита, составлять из которых слова способен только талант. Записать этими знаками свои мысли, стихи, ни на минуту не забывая, что знак, как бы он ни был необходим, сам по себе не значит ничего, а идея значит все,– вот задача художника, чей глаз умеет различать ипостаси осязаемых предметов. Первым следствием этого принципа является... необходимость упрощенного написания знака... Но если верно, что в мире реально существуют лишь идеи, если верно, что предметы суть лишь внешний образ этих идей и поэтому важны лишь как обозначение идей... то не менее верно и то, что нашему близорукому глазу предметы большей частью представляются предметами, и только предметами, независимо от их символического значения, – до такой степени, что, несмотря на наши искренние старания, мы иногда не в силах представлять их себе просто как символы.