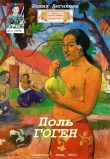Текст книги "Постимпрессионизм (От Ван Гога до Гогена)"
Автор книги: Джон Ревалд
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)
Когда Стивенсон впервые увидел Маркизские острова (Гоген много лет спустя променял на них Таити), он написал: "Земля вздымалась остроконечными вершинами и холмами, обрывалась отвесными скалами и пропастями; цвет ее состоял из сотни оттенков в жемчужно-розовой и оливковой гамме и венчали ее опаловые облака. Неопределенные тона обманывали глаз; тень облаков сливалась с очертанием гор, и весь остров с его бестелесным куполом поднимался и мерцал перед нами, как единая масса... Где-то в этой фантасмагории из скал и облаков пряталась наша гавань". 1
Но Гоген не терял времени на созерцание. Он жаждал действовать. В тот же день, когда нога его ступила на землю Папеэте, он представился губернатору, который любезно принял его, ввиду "художественной миссии", возложенной на художника. Однако ему не удалось рассеять подозрения губернатора, решившего, что миссия эта равнозначна шпионажу.
Гогену скоро опротивела жизнь в Папеэте, все еще напоминавшая ему Европу, но он был очарован туземцами, стекавшимися туда со всех сторон в предвидении смерти своего безнадежно больного короля Помаре, которому Гоген нанес визит. Через две недели после приезда Гоген стал свидетелем похорон короля. Теперь, со смертью последнего туземного правителя, французские колониальные власти еще крепче взяли в свои руки все дела острова. Гоген справедливо или нет – расценивал смерть монарха как личную катастрофу, потому что, по-видимому, многого ожидал от его покровительства.
Вскоре Гогена пленила своеобразная атмосфера Таити, глубокая тишина тамошних ночей, ленивая грация туземцев. В конце июля он писал жене: "Мне кажется, что суматохи европейской жизни больше не существует и каждый следующий день будет таким же, как предыдущий, и так до самого конца. Не заключай из этого, что я эгоист или что я покидаю тебя. Дай мне немножко пожить такой жизнью. Те, кто упрекает меня, не знают души художника. Почему они хотят возложить на нас те же обязанности, что лежат на них? Мы же не возлагаем на них наших обязанностей". 2
Присущее ему чутье и в то же время склонность к самообману немедленно подсказали Гогену, что в Папеэте есть возможность получить выгодные заказы на портреты, но вскоре он решил покинуть портовый город и поискать для себя другое место в этой еще девственной стране. В один прекрасный день, в сопровождении Тити, таитянки-полукровки, с которой он встретился вскоре после приезда, Гоген сел в наемную телегу и отправился вдоль берега Тихого океана. В районе Матайеа, примерно в сорока километрах от Папеэте, он нашел то, что искал: деревянная хижина, с одной стороны – океан, с другой – гора, скрытая купой огромных манговых деревьев, и вдали, словно плавающий на горизонте, остров Моореа, за крутые вершины которого каждый вечер трагически заходит солнце. Теперь Гоген решил избавиться от Тити, но вскоре почувствовал себя на новом месте таким одиноким, что позвал ее обратно. Однако не прошло и нескольких недель, как он снова отослал ее, окончательно решив заменить ее простой туземной девушкой, менее испорченной цивилизацией и слишком большим количеством любовников.
Соседи его оказались людьми дружелюбными и приветливыми. Через короткое время он научился немножко говорить на их языке и почувствовал себя не таким одиноким. Вскоре Гоген начал работать. Как он сам писал впоследствии, начал он со всевозможных набросков и этюдов, "но пейзаж с его яркими, пылающими красками пленял и ослеплял меня... И к тому же было так легко писать, как видишь, без всяких расчетов кладя на холст красную краску рядом с синей!.. Почему же не решался я запечатлеть на полотне все это золото, всю эту солнечную радость? О древняя европейская рутина, робость выражения вырождающихся рас!" 3
Гоген украсил свою хижину репродукциями произведений Мане, Пюви де Шаванна, Дега, Рембрандта, Рафаэля, Микельанджело и Гольбейна, а также фотографиями своих детей и, несомненно, повесил в ней литографию, подаренную ему Редоном. Когда одна из соседок залюбовалась "Олимпией" Мане и спросила Гогена, не его ли это жена, он ответил утвердительно. Позже эта женщина согласилась позировать ему. Он был очарован странным сочетанием доброты, бескорыстия, детской чистоты, доверчивости и пугливости в этих простодушных людях, которые готовы были признать его, потому что в противоположность другим европейцам он полностью разделял их образ жизни: питался рыбой, кореньями, фруктами и пил только воду. "Большинство полинезийцев,– замечает Стивенсон, – люди, с которыми легко общаться: они откровенны, любят внимание к себе и жадны до малейшего проявления ласки". 4
На Гогена произвела большое впечатление их красота, врожденное изящество и достоинство их движений. Он дивился почти мужской силе женщин, женственной грации мужчин, хотя и соглашался, что европейцы могут счесть их уродливыми. Они в свою очередь полюбили его. По вечерам они собирались под густыми панданусами, над которыми высились горделивые пальмы; туземцы пели свои странные жалобные песни, резко заканчивая их отрывистым гортанным воплем. Иногда Гоген играл на мандолине, освоиться с которой ему помог Филлигер в Понт-Авене.
Впоследствии Гоген писал об этих первых неделях в Матайеа: "Жизнь моя с каждым днем становится лучше, я начинаю хорошо понимать язык. Мои соседи... уже считают меня своим. От постоянной ходьбы по камням ноги мои огрубели и привыкли к голой земле, а мое почти всегда обнаженное тело больше не страдает от солнца. Цивилизация мало-помалу выходит из меня. Я начинаю мыслить просто и не питать ненависти к ближнему, более того, я начинаю его любить. Я наслаждаюсь всеми радостями свободной жизни, одновременно животной и человеческой. Я ухожу от фальши, я постигаю природу. Вместе с уверенностью, что завтрашний день будет подобен сегодняшнему, будет таким же свободным, таким же прекрасным, на меня нисходит мир; я развиваюсь нормально и не испытываю больше ненужных тревог". 5 Он чувствовал, что становится таким же "дикарем", как окружающие его люди.
Соседи захотели посмотреть, как он работает – делает наброски, занимается скульптурой, пишет. На одном из своих первых полотен он изобразил сцену, которую наблюдал из хижины и впоследствии описал: "Утро. В море у берега я вижу пирогу и в ней женщину. На берегу полуобнаженный мужчина. Возле мужчины кокосовая пальма с засохшими листьями. Она кажется похожей на огромного попугая со свисающим золотистым хвостом, который держит в когтях большую кисть кокосовых орехов. Гармоничным и ловким движением мужчина поднимает обеими руками тяжелый топор, оставляющий на серебристом небе свой голубой отблеск, а внизу – на мертвом дереве розовый надрез... На лиловой земле – длинные змеевидные листья металлической желтизны, которые кажутся мне тайными священными письменами древнего Востока.
...Женщина в пироге укладывает сети. Синяя линия моря там и сям разорвана зелеными гребнями валов, разбивающихся о коралловые рифы". 6
За исключением кокосового дерева все упомянутое в записках Гогена изображено на его картине. Подчеркнуто сверкающие тропические краски по природе своей резко отличаются от тех, какие художник недавно употреблял во Франции. Хотя они насыщенны и ярки, Гоген избегает резких противопоставлений, которым он отдавал предпочтение в своих ранних синтетистских работах. Его красные и синие, лиловые и желтые краски сосуществуют бок о бок, не враждуя, несмотря на интенсивность; картина эта создает общее впечатление скорее гармонии, нежели контраста. Никто до него не писал такими живыми красками, даже Ван Гог, стремившийся акцентировать дополнительные цвета. Без какого-либо упора на определенные противопоставления все полотно насыщено у Гогена непревзойденной силой цвета. Пламенеющие пейзажи, омытые сверкающим солнцем, позволили наконец Гогену добиться интенсивности цвета, которая не была больше результатом его воображения, а находила обильную пищу в наблюдении действительности, хотя в одном из первых писем к Даниелю де Монфрейду он сообщал: "Я ограничиваюсь копанием в недрах собственного, я и не занимаюсь природой; пытаюсь хоть немного научиться рисовать – существует только рисунок!" 7
Тем не менее Таити, этот рай южных морей, несомненно дал Гогену давно желанную возможность стать колористом, которым он был от рождения.
Подгоняемый безмерным богатством новых впечатлений, он был теперь так глубоко захвачен творческим порывом, что не мог больше давать оценку собственной работе. Когда в ноябре пришло наконец первое письмо из Франции, от Серюзье, Гоген ответил ему: "Я решительно взялся за работу. Не могу сказать, стоит она чего-либо или нет: сделано много и ничего. Картины еще нет, есть куча набросков, которые могут принести пользу; большое количество документов, которые, надеюсь, будут долго служить мне впоследствии, например, во Франции. Из-за упрощения я не могу судить сейчас об общих результатах. Мне все кажется отвратительным. По возвращении, когда полотна хорошо высохнут, вставятся в рамы и прочее, я смогу судить. Живу я совершенно один в деревне, в сорока пяти километрах от города, мне не с кем поговорить не то что об искусстве, но даже просто по-французски, а на местном наречии, несмотря на все усилия, я изъясняюсь далеко не гладко". 8
Так как Серюзье, видимо, написал, что он многим обязан художнику, Гоген скромно ответил: "Ты слишком любезен, приписывая мне свои успехи. Может быть, в некоторой степени я тебе и помог, но я, видишь ли, убежден, что художники достигают лишь того, что в них уже заложено. Зерно растет лишь на плодородной почве. Если ты делаешь успехи, то лишь потому, что должен их делать". 8
Серюзье, по-видимому, был единственным из молодых друзей и "учеников" художника, кто не забыл Гогена в его далеком изгнании. В декабре 1891 г., примерно в то же время, когда Серюзье получил ответ Гогена, некоторые из "Набидов" и их товарищей устроили небольшую выставку у Лебарка де Бутвиля на улице Лепелетье, под названием "Импрессионисты и символисты" названием, почти аналогичным тому, какое Гоген выбрал некогда для выставки у Вольпини. Лебарк де Бутвиль, согласно одной опубликованной заметке Орье, только что решил "предложить постоянное пристанище молодым художникам-новаторам, против которых до сих пор настроена критика, над которыми насмехаются посетители и глумятся торговцы картинами и члены жюри". 9 Среди художников, намеченных для участия в выставках, были Анкетен, Бернар, Лотрек, Серюзье, Дени, Ренуар, Синьяк, Боннар, Руссель, Виллюмсен, Люс, Птижан, Госсон. К ним предполагалось добавить Филлигера, Писсарро, Редона, Ван Гога и Гогена. Первая выставка включала работы Анкетена, Лотрека, Бернара, Дени и Боннара.
Когда на эту выставку явился один журналист, чтобы получить интервью у художников (интервью вошли в моду с тех пор, как Жюль Гюре опубликовал в "Echo de Paris" свои интервью с Анри, Малларме, Мирбо и другими), имя Гогена почти не упоминалось. В числе вопросов, заданных этим журналистом, были и такие: "Как вы определяете художественные тенденции новой школы в живописи и под знаком чего вы группируете ее последователей? Какого мастера вы больше всего любите?"
Анкетен дал довольно уклончивый ответ: "До сих пор я, к сожалению, находился под различными влияниями, но все мои усилия направлены на то, чтобы освободиться от них. Символизм, импрессионизм – все это просто шутки. Никаких теорий, никаких школ. Важен только темперамент". И он добавил, что из современных художников больше всех любит "Сезанна, а также Ренуара! Это два гения чистой воды, и им должна быть воздана справедливость".
С Лотреком журналист встретился на самой выставке. "Он очень маленького роста, смуглый, с бородой, на носу очки. Мы разговорились. Перемежая свои слова легким смешком, г-н де Тулуз-Лотрек сказал нам: "Я не принадлежу пи к какой школе. Я работаю в своем углу. Люблю Дега и Форена..." Здесь г-н Тулуз-Лотрек захихикал. Он очень похож на свои картины, а в них, действительно, сквозит острая ирония. Разве его женщины, меланхолично дремлющие на диванах "публичных заведений", не говорят нам о подлинно беспощадной, наблюдательности художника?"
Интервью с Эмилем Бернаром было гораздо более подробным, несомненно потому, что тот оказался куда разговорчивее. "Это искатель, энтузиаст, человек, который скорее умрет с голоду, чем пойдет на малейшую уступку во всем, что касается, его искусства. Он также пылкий и деятельный католик, что объясняет мистицизм его картин. В Аньере, в небольшой, построенной из досок мастерской и в доме, где г-н Бернар живет с родителями, нам удалось увидеть множество любопытных набросков очень оригинальных полотен, витражей удивительной красоты, тщательно вырезанных панно, в высшей степени оригинальных гобеленов... Из этого визита мы вынесли впечатление, что г-н Бернар, которого обвиняли в подражании Полю Гогену, нисколько на него не похож, да, нисколько! Г-н Эмиль Бернар иератичен – и только. Его картины передают лишь религиозные чувства. Что же касается его приемов, то они очень просты: немного красок притушенных тусклых тонов. Господину Бернару двадцать четыре года. Высокий, хрупкий, с длинными волосами, остроконечной светлой бородкой, голубыми глазами и очень мягким взглядом, он напоминает персонажей Веласкеса. Речь его очень интересна, эрудирована, ясна. "Я христианин, сказал он нам, – и пытаюсь передать чувства, которые живут во мне. Я мечтаю создать иератический стиль, который поднялся бы над современностью, над злобой дня. Технику и вдохновение нам следует черпать в примитивах: будем чрезвычайно скупы во всем, что касается техники, используем линию, только для обозначения форм и цвет только для определения состояний.. Одним словом, следует создать стиль, который был бы стилем нашего времени". На вопрос, кого из мастеров он любит, Бернар ответил: "Из современников я люблю только Сезанна и Одилона Редона". 10
Морис Дени, благочестивый католик, как и Бернар, решительно отказался назвать своих любимых художников. По поводу своего интервью с ним репортер писал: "По-видимому, в данное время господин Дени занят поисками, от которых ждет удовлетворительных результатов. Хотя ему всего двадцать один год, он говорил с нами со сдержанностью старика. "Мы не претенциозные люди, пребывающие в убеждении, что до конца проникли в тайны "вечного искусства". Мы – искатели, самые скромные искатели... Я считаю, что картина, прежде всего, должна быть украшением. Выбор сюжетов или сцен ничего не значит. Я пытаюсь разбудить мысль, вызвать чувство посредством цветной поверхности, взаимодействия тонов, гармонии линий".
Подобно своему другу Дени, Боннар не назвал своих любимых мастеров, хотя, опять-таки как Дени, не без пользы для себя изучал работы Гогена еще с тех пор, как впервые увидел их на выставке у Вольпини в 1889 г.
"Г-н Пьер Боннар, – сообщал репортер, – также очень молод. Товарищи считают его удивительно одаренным декоратором и иллюстратором... "Живопись должна быть по преимуществу декоративной, – сказал нам г-н Боннар. – Талант раскрывается в том, как распределены линии. Я не принадлежу ни к какой школе. Я просто пытаюсь делать что-то сугубо индивидуальное, а в настоящий момент стараюсь позабыть то, чему с таким трудом научился за четыре года в Школе изящных искусств". 11
В то время как эти художники, казалось, позабыли, чем они обязаны Гогену, хотя, за исключением Лотрека и, возможно, Анкетена, все они не без пользы для себя испытали его раскрепощающее влияние, Орье решил наконец воздать должное своему отсутствующему другу. В тот момент он подготавливал важную статью, в которой намеревался проанализировать новое направление, подчеркнув решающую роль Гогена. Шарль Морис также опубликовал очерк о Гогене, где объявил: "В настоящее время в живописи примером для молодых художников служат Пюви де Шаванн, Карьер, Ренуар, Дега, Гюстав Моро и Гоген. У каждого из них своя область". 12
Однако в это время Гоген не думал о том, признают или нет молодые художники его ведущую роль. Его беспокоило не столько то, что собратья по искусству могут игнорировать его, сколько то, что те, кто, казалось, должны были бы охранять его интересы, уже позабыли о нем. Письма из Франции шли невероятно медленно, и ему приходилось по неделям, от одной почты до другой, и всегда напрасно ждать обещанных денежных переводов. Вскоре он начал горько жаловаться на небрежность своих друзей. Ни слова от Мориса, который задолжал ему 500 франков, ни слова от Долана, который предполагал платить ему по 300 франков за каждую из оставленных у Танги картин, ни слова от галереи Гупиля, от Портье и т. д. Де Хаан не отвечал на его письма; Бернар, видимо, интриговал против него. Даниель де Монфрейд наконец написал, но сообщил лишь, что Жюльетта родила ребенка, которого Гоген не хотел; девочка была больна и нуждалась в помощи. Гоген видел, как тают его ресурсы, и в отчаянии уповал лишь на то, что деньги из Парижа придут прежде, чем резервы окончательно истощатся.
Странный контраст представляли собой тревога, с которой Гоген непрестанно ожидал очередной почты, и идиллическая жизнь, которую он вел. Когда одиночество стало невыносимым, Гоген решил совершить путешествие по острову и заодно поискать новую подругу. Он отправился в глубь острова и, благодаря тому что один жандарм одолжил ему лошадь, получил возможность покрывать значительные расстояния.
В одной из туземных деревень, где его пригласили принять участие в трапезе, он познакомился с молодой девушкой, робко изъявившей свою готовность стать его "вахинэ". Ей было около тринадцати лет (что соответствует физической зрелости европейской девушки восемнадцати-двадцати лет), и она последовала за художником к нему в дом, молчаливая, безмятежная, красивая. Только чуточку насмешливый изгиб ее чувственного рта предупреждал Гогена, что в этом удивительном приключении она может, в конце концов, оказаться более сильной половиной той странной пары, которую они составили.
В трогательных поэтических выражениях рассказал 13 впоследствии Гоген, как чудесно и радостно жил он с Техурой, спокойной, печальной и насмешливой; как он пытался постичь ее загадочную, первобытную душу; как она незаметно наблюдала за ним, не выдавая своих мыслей; как он полюбил ее; как спустя неделю она ушла от него, чтобы, согласно условию, навестить родителей, и как он боялся потерять ее; как через несколько дней она вернулась по своей доброй воле, показав этим, что была с ним счастлива; как после этого испытания они зажили счастливой жизнью, основанной на взаимном доверии; как, исполненный новых сил, он опять начал работать; как присутствие Техуры озарило его хижину сверкающей радостью; как через нее он глубже постиг непроницаемую душу туземцев; как вскоре чуть ли не начал разделять ее примитивные суеверия; как податлива и нежна была эта девушка, как невинна и в то же время искушена, независима и в то же время послушна, умна и легкомысленна, сдержанна и по-детски весела, наивна и любопытна, любвеобильна и бескорыстна; как помолодел он в ее обществе и как все больше и больше отдалялся от цивилизации; как потерял всякое представление о добре и зле, потому что прекрасное было в то же время благом, а Техура была прекрасна.
Он часто писал ее, иногда одетой, большей частью обнаженной. Молодая женщина с правильными чертами лица, прямыми черными волосами, стройным телом, небольшой грудью и длинными хорошо развитыми ногами, фигурирующая почти во всех его таитянских картинах, – это несомненно Техура. Он писал ее мечтающей, в широком розовом платье, скрывающем стройную фигуру; он писал ее на берегу, где солнце ласкало ее золотистое тело; он писал ее сидящей на корточках под деревом, купающейся в ручье, несущей фрукты. В конце концов он написал ее в облике торжествующей богини своего племени, как королеву Ареои; во всем великолепии наготы она восседает на троне, на фоне тропического пейзажа, и яркие краски декоративного ковра оттеняют сияющие тона ее бронзовой кожи.
Одна из первых картин, где изображена Техура, написана в 1891 г. (как и "Мужчина с топором") и представляет собой своеобразную композицию, навеянную религиозной темой, схожей с темами, которыми он иногда занимался в Бретани. Стремясь уловить характер туземных верований и особенно суеверий, внушаемых ему Техурой, он использовал в "Ia Orana Maria" тропическое окружение для библейской сцены, так же как раньше избрал бретонское окружение для картины "Иаков, борющийся с ангелом". "Ia Orana Maria" (Ave Maria) – причудливая попытка сочетать великолепие фона южного моря с религиозным мистицизмом, в котором был воспитан Гоген. В письме к Монфрейду он так объяснял сюжет картины: "Ангел с желтыми крыльями указует двум таитянкам на фигуры Марии и Христа, тоже таитян. На них "парэо" пестрая ткань, которую обертывают вокруг тела как хотят. На заднем плане очень темные горы и цветущие деревья. Темно-лиловая дорога и изумрудно-зеленый передний план. Слева бананы. В общем, я доволен". 14
Любопытно, что в этой картине – одной из первых работ, сделанных на Таити, Гоген не только сохранил духовную связь со своими понт-авенскими религиозными картинами, но чувствуется также, что он почерпнул вдохновение из фотографии, изображающей барельефный фриз яванского храма в Барабудуре, которую, по-видимому, приобрел на парижской Всемирной выставке 1889 г. 15 Таким образом, глубокое впечатление, которое произвело на него два года тому назад искусство Азии, теперь нашло свое отражение в двух фигурах таитянок, чьи позы почти буквально списаны с яванского фриза. Но эта необычайная смесь католической темы, полинезийских фигур и яванских буддийских поз мастерски объединена композицией, блистательными красками и тонким мазком, передающим искусные вариации плоских однообразных ярко окрашенных поверхностей и мягко моделированных тонко подцвеченных деталей.
Примерно в тот же период Гоген написал несколько пейзажей почти в импрессионистском духе, если не считать их тропических гармоний. Не связанный больше суровыми требованиями синтетистской программы, стиль Гогена в этих пейзажах стал значительно мягче: линии и изгибы сделались более изящными, плоские планы потеряли жесткость благодаря легкой вариации тонов и колорит утратил резкие акценты. Но композиции художника по-прежнему строились все на тех же элементах – упрощенных формах и больших однородных плоскостях, объединенных ритмическим рисунком.
Различия в подходе, технике и цвете, которые можно наблюдать в первых картинах Гогена, написанных на Таити, объясняются тем, что он приехал туда, не имея заранее готовой концепции и твердых планов. Напротив, он с чувством, похожим на сладострастие, отдался прелести нового окружения, которое наблюдал и впитывал в себя. В каждой новой работе он старался найти подходящее выражение для того покоя и великолепия, которыми его пленили южные моря, старался найти пластические эквиваленты неправдоподобной красоте пейзажа и людей, словом, всему, что деспотически держало его во власти своего очарования.
Однако радость первых счастливых месяцев жизни с Техурой после отъезда из Папеэте длилась недолго. В марте 1892 г. художник сообщил Монфрейду: "Я был очень серьезно болен. Представьте себе, я выплевывал по четверти литра крови ежедневно. Остановить ее было невозможно: горчичники к ногам, банки на грудь – ничто не помогало. Врач здешней больницы очень волновался и считал, что со мной кончено. Он сказал, что легкие у меня здоровые и даже крепкие, но сердце сыграло со мной скверную шутку. Впрочем, оно перенесло так много ударов, что ничего удивительного здесь нет. Когда кровохарканье прекратилось, меня начали лечить дигиталисом; теперь я снова на ногах и приступы пока что не возобновлялись, но все равно придется быть осторожным". 14
Две недели спустя Гоген написал Серюзье: "Письмо твое застало меня в один из тех страшных моментов нашего существования, когда человек должен принять решение, великолепно зная, что и с той, и с другой стороны его ждет удар. Одним словом, из-за подлости Мориса я нахожусь в отчаянном положении и мне придется вернуться. Но как это сделать без денег? С другой стороны, я хочу остаться: я еще не закончил свою работу, едва только принялся за нее, а я чувствую, что начинаю делать хорошие вещи... Если бы у меня было еще 500 франков (как раз те 500 франков, которые мне должен Морис), я продержался бы. В мае мне обещали заказать портрет одной женщины за 2500 франков, но это только обещание, и я не знаю, можно ли на него рассчитывать. До мая я буду делать все возможное и невозможное, чтобы продержаться. Если портрет закажут, – а мне придется сделать его таким, какие нравятся, то есть в духе [официального художника] Бонна, – и если за него заплатят, то я надеюсь получить еще парочку заказов. В таком случае я вновь обретаю независимость... Не смею ничего сказать о том, над чем сейчас работаю, до такой степени мои полотна пугают меня. Никогда публика не примет их. Они уродливы со всех точек зрения, и я узнаю, каковы они на самом деле, только когда приеду в Париж и все вы посмотрите их... Что за чудо эта древняя полинезийская религия! Голова моя лопается от нее, а то, что она подсказывает мне, перепугает всех. Завсегдатаев гостиных и без того пугали мои прежние работы. Что же они скажут о новых?" 16
Восторги Гогена по поводу полинезийской религии были вызваны не столько тем, что ему, как он намекал впоследствии, поведала Техура (женщины Океании не посвящены в тайны древнего культа своих племен), сколько книжкой, которую дал ему один француз в Папеэте, вероятно, во время пребывания художника в больнице. Это было двухтомное сочинение Меренхута, написанное в 1835 г. и повествующее о путешествиях автора по островам Тихого океана. 17 Консул Соединенных Штатов, а впоследствии и Франции, Меренхут провел много лет на Таити, где подружился с туземцами и даже защищал их иногда от чрезмерного рвения миссионеров. Таким образом, он завоевал доверие нескольких таитянских вождей и жрецов и добросовестно записал легенды, которые с незапамятных времен передавались из поколения в поколение и которым суждено было отступить перед натиском христианства. Гоген занес множество этих легенд (на французском, а также на туземном языках) в записную книжку, на обложке которой значилось: "Древний культ Маори", и украсил рукопись многочисленными рисунками и акварелями. 18 Задумал ли он уже тогда использовать эти записи как материал для книги о своем пребывании в южных морях или просто хотел более подробно ознакомиться с таинственным историческим фоном, на котором протекала перед его глазами повседневная жизнь полинезийцев, – трудно сказать. Бесспорно одно: переписывая текст Меренхута, Гоген воочию видел сюжеты, которые мог изображать теперь, когда он изучил природу суеверий и верований, управлявших когда-то жизнью таитян и до сих пор не изживших себя.
Не удивительно, что Гоген, который все больше и больше привязывался к своему новому окружению и голова которого "лопалась" от новых планов, боялся, как бы ему не пришлось уехать. Заказ на портрет, по-видимому, не поступил, что едва ли удивило художника. Не он ли восклицал в письме к Серюзье: "Ах, если бы я только мог стряпать натуралистические картины, создающие иллюзию реальности, как это делают американцы, я продал бы несколько полотен за хорошую цену. Но я – это только я и писать умею только так, как ты знаешь!" 18
Однако в июне, когда он уже тратил последние сантимы 19 и готовился просить губернатора, чтобы его, как нуждающегося колониста, репатриировали на казенный счет, он встретил одного французского капитана, который дал ему 400 франков задатка за портрет, хотя так и не заказал его. Эти деньги дали ему возможность просуществовать еще несколько месяцев. Тем временем жена его побывала в Париже и собрала там некоторые его картины, чтобы попытаться продать их в Дании и даже устроить выставку в Копенгагене. Когда ей удалось найти нескольких покупателей, Гоген с гордостью заметил ей, что его работы, в конце концов, тоже чего-то стоят, и попросил прислать ему часть денег. Он продолжал усиленно переписываться с женой, уверял ее, что тоскует без семьи, но в то же время объяснял, что карьера его как художника требует продолжительного пребывания в тропиках. Из всех его друзей добросовестно писали ему только Даниель де Монфрейд, неустанно исполнявший все поручения Гогена и охранявший в Париже его интересы, да Поль Серюзье.
Когда Метта Гоген упрекала мужа за отъезд из Парижа, он оправдывался: "Ты пишешь, что я поступил неправильно, уехав из центра художественной жизни. Нет, я прав. Я уже давно знаю, что и зачем я делаю. Центр моей художественной жизни – моя собственная голова. Я силен, потому что другие не могут свести меня с правильного пути и потому что я делаю то, что во мне заложено". 20
В мае он с нескрываемым удовлетворением написал ей: "Позади у меня одиннадцать месяцев регулярной работы и сорок четыре значительных картины". Но он не смог удержаться и тут же занялся расчетами: "Это означает минимум 15000 франков за год, если найдутся покупатели". 21
Чувствуя, что за год он действительно уловил дух своего нового окружения, Гоген наконец выразил удовлетворение своей работой: "Я решительно доволен своими последними картинами и чувствую, что начинаю постигать характер Океании. Уверяю тебя, того, что я делаю здесь, никто никогда не делал; Франция об этом даже не слыхала. Надеюсь, эта новизна настроит публику в мою пользу... Три месяца назад я послал в Париж образец своей работы, который считаю хорошим. Посмотрим, что о нем скажет Париж". 22
В июле он снова написал жене, объясняя, что надеется еще на год задержаться в тропиках, но боится, что ему придется уехать раньше из-за отсутствия денег: "Теперь, когда я знаю страну и ее аромат, я много работаю. Таитяне, которых я пишу в очень загадочной манере, тем не менее настоящие полинезийцы, а не жители востока из Батиньоля [Парижская биржа профессиональных натурщиков]. Почти год понадобился мне, чтобы понять этих людей, и теперь, когда я достиг этого и работа моя пошла хорошо, мне, вероятно, придется уехать. Есть от чего взбеситься!" 23
Только в сентябре 1892 г. первая таитянская картина Гогена появилась в галерее Гупиля [Буссо и Валадон], но нет никаких свидетельств, что она произвела сенсацию или хотя бы просто привлекла к себе внимание. Даниель де Монфрейд был о ней высокого мнения, однако Шуффенекер, – сильно позабавив этим Гогена, – пришел в полную растерянность и воскликнул: "Но ведь это же не символизм!" 24