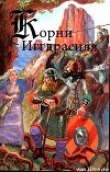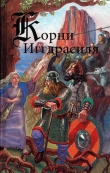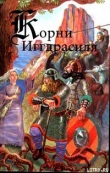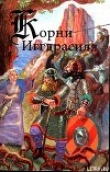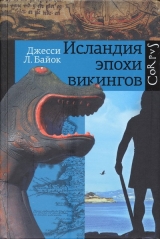
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Социальные ранги, иерархия и богатство
Исландское общество во многом сходно с так называемыми ранговыми обществами, где существует множество самодостаточных индивидуумов, в нашем случае землевладельцев, социальные различия между которыми часто совершенно формальны и поэтому весьма ограниченны. В таких обществах лидирующие позиции занимают «уважаемые» или «большие люди». Исландских лидеров можно считать таковыми, хотя сравнение, как обычно, неточное. Одно из важных отличий заключается в том, что исландское общество обеспечивало преемственность власти и «уважения», чего, как правило, не наблюдается в случае «больших людей» обычных ранговых обществ. Годи вели себя как «большие люди», но точнее будет сказать, что они – скандинавские вожди местного значения. Как и в ранговых обществах, иные годи и землевладельцы оказывались богаче и могущественнее прочих; от них зависели арендаторы, обрабатывавшие часть земли хозяина в обмен на право жить на ней, затем безземельные свободные люди и рабы. Впрочем, в течение XI века рабство исчезло.
В ранговых обществах люди, обладающие политическим влиянием, конкурируют друг с другом за последователей – на публике это выражается в погоне за престижем, честью и иногда богатством. В Исландии эпохи народовластия годи соревновались за поддержку простых землевладельцев, бондов, которые делались их тинговыми (дисл. þingmenn). К годи и другим важным землевладельцам обращались за помощью в тяжбах и распрях; делали это как люди попроще, так и другие годи, и такое участие предполагало некоторое вознаграждение. Порой выступать на чьей-то стороне и пытаться добиться решения тяжбы было опасно – призванный на помощь годи рисковал проиграть или даже погибнуть. Поэтому годи, рискуя богатством, честью и зачастую собственной жизнью, изыскивали возможности извлечь экономическую выгоду из своего положения полных или частичных владельцев годордов. С этой деятельностью связан и вопрос о легитимном насилии, о чем будет речь позднее.
Одна из ролей годи заключалась в облегчении перераспределения богатств. Участвуя в разрешении тяжб и споров, годи одновременно выступали сторонами в переделе и передаче собственности, в частности земли. Важные люди в округе приглашали других годи и людей попроще к себе в гости, давали им взаймы, помогали арендаторам и нуждающимся землевладельцам. Годи и другие важные люди также принимали активное участие в «экономике престижа», то есть обмене дорогими подарками, благодаря которым упрочивались политические и родственные связи. Позднее предметы такого рода привозили в Исландию норвежские купцы, но до конца XI века исландцы и сами отправлялись за ними через океан на собственных кораблях. На континенте они меняли шерстяное домотканое сукно и другие изделия на дорогие товары, полагающиеся лицам высокого социального статуса, – оружие, шпалеры, крашеную льняную одежду, инструменты, муку, воск, чаши из стеатита, ювелирные изделия, ячмень и хмель для изготовления пива, а также строительный лес.
Исландские «большие люди» регулярно закатывали пиры, на которых демонстрировали гостям свои богатство и щедрость, провожая их дорогими подарками. [109]109
Этот элемент исландской общественной жизни был, как и ряд других, о которых говорилось выше, заимствован Дж. Р. Р. Толкином, превратившись у него в хоббитскую традицию дарить подарки гостям. (Прим. перев.)
[Закрыть]Такие пиры, включая свадьбы и тризны, планировались заранее и назначались на самое изобильное время года, чаще всего на осень, с тем чтобы расходы не слишком сказались на благосостоянии хутора. На примере «Саги о людях из долины Лососьей реки» мы видим, какое значение придавалось тщательному планированию пиров «на публику» и какую большую честь стяжал устроитель пира. Вот как в главе 7 саги рассказывается о приготовлениях первопоселенки, главы рода Ауд Многомудрой, к свадьбе ее любимого внука, Олава Фейлана:
Олав Фейлан, самый младший из детей Торстейна, был человек рослый и сильный. Он был хорош собой и отлично справлялся со всем, за что ни брался. Ауд говорила, мол, нет мужа достойнее Олава, и объявила во всеуслышание перед всеми, что Олав унаследует после ее смерти все ее богатства в Лощине. Ауд в это время уже очень состарилась, и вот она вызвала к себе Олава Фейлана и сказала:
– Пришло мне на ум, внучек, что пора тебе стать полноправным хозяином и жениться.
Олаву это понравилось, и он сказал, что последует ее совету в этом деле.
Ауд сказала:
– Я бы хотела сыграть свадьбу в конце этого лета, потому что тогда проще всего припасти все необходимое, а понадобится немало, ведь наших друзей прибудет как нельзя больше, а все потому, что, думаю я, это будет мой последний пир.
Олав ответил:
– Хорошо сказано, но я соглашусь взять лишь такую жену, которая не посмеет хозяйничать здесь вместо тебя и кичиться перед тобой богатством.
Осенью того же года Олав Фейлан взял в жены Альвдис. Свадьба была в Лощине. Ауд не пожалела добра, и закатила пир горой, и велела позвать именитых людей со всех концов страны.
Несмотря на прозрачную связь между богатством и влиянием, источники не дают ни малейшей возможности утверждать, что благосостояние видных исландцев эпохи викингов добывалось путем обложения налогами или данью людей попроще. Рабский труд, труд безземельных работников и арендаторов, а также сдача в аренду земли и скота – все эти источники богатства были доступны любому сколько-нибудь имущему исландцу. Многие обычные свободные землевладельцы ничуть не уступали богатством годи и приглашались людьми попроще выступать от их имени в тяжбах. Впрочем, со временем ситуация сложилась так, что именно годи стали наиболее квалифицированными лицами для исполнения роли публичного защитника. Активное участие в ведении распрей и улаживании конфликтов обеспечивало им немалые материальные выгоды.
С X по XII век социальные границы в Исландии были весьма нечеткими и жестких классовых барьеров не существовало. Если обычный землевладелец обладал достаточной смелостью и боевитостью, он мог стать годи, так как положение в обществе в ту эпоху определялось исключительно законом, экономическими возможностями и способностью договариваться. Внешние атрибуты высокого социального ранга в Исландии эпохи викингов были столь немногочисленны, что порой по саге сложно понять, владел ли тот или иной важный исландец годордом либо его частью или же нет. В конце XII – начале XIII века, по завершении эпохи викингов, ситуация начала меняться, и источники позволяют говорить о возникновении тенденции к ригидизации социальных барьеров и даже о появлении зачатков государства как такового. Важную роль стала играть церковь, а из среды самых богатых годи выделились группы особенно сильных вождей, так называемых «больших годи» или «больших хёвдингов» (дисл. stórgoðar, stórhǫfðingjar), о которых пойдет речь в гл. 19 настоящей книги. Но даже в этот позднейший период само по себе высокое социальное положение лица не предоставляло ему эксклюзивного доступа к стратегическим ресурсам, а низкое, наоборот, никоим образом таковой доступ не ограничивало; социальная стратификация Исландии конца эпохи народовластия близко не напоминала аналогичную континентальную структуру с ее жесткими барьерами, с ее конунгами, ярлами и местными военачальниками, которые давным-давно сосредоточили в своих руках полноту исполнительной власти.
В исландском же обществе возникновение у того или иного годи возможности установить контроль над значительной территорией рассматривалось как угроза – ибо это означало перспективу локальной централизации политической власти, когда годи получил бы шанс «править по-настоящему». Для устранения подобной опасности в исландском обществе действовала система сдержек и противовесов, ставившая пределы расширению личной власти и влияния каждого годи в отдельности. Эта система успешно хранила страну с заселения и до самого конца XII века, а некоторые регионы ее – и в начале XIII в. Как мы увидим на примере распри двух годи, Арнкеля и Снорри, в «Саге о людях с Песчаного берега», о которой будет разговор в главе 6, землевладельцы публично передавали своему годи право действовать от их имени, и если годи не мог добиться для них желаемого исхода, публично же забирали у него это право и передавали другому годи. Так происходило в течение почти всей эпохи исландского народовластия.
Сложная культура, простая экономика
Исландское иммигрантское общество эпохи викингов представляло собой необычную смесь. С континента иммигранты вывезли богатую скандинавскую культуру, которая, однако, привившись на земле Исландии, оказалась принуждена существовать в условиях, где, в силу ограниченности и скудости ресурсов, могла функционировать лишь очень простая экономика. Столь странная комбинация сложности на одном уровне и крайней простоты на другом ставила ученых в тупик. Исследователи нередко называют исландский социум эпохи народовластия «примитивным», и в чем-то они правы – у него и впрямь много общего с классическими «примитивными» обществами (хотя термин «простой» все равно лучше термина «примитивный»). К «примитивным» чертам исландского общества можно отнести следующие; устная культура, фактическое доминирование натурального хозяйства, преобладание семейного контроля над ресурсами, монопольная роль распри как главного средства решения споров, отсутствие городов и даже деревень. Несмотря на это, термин «примитивное» крайне неадекватно описывает исландское общество эпохи народовластия, так как в действительности оно отличалось весьма сложным устройством. [110]110
Говоря об устной исландской культуре, заключать слово «примитивный» в кавычки особенно уместно – ибо ничего сколько-нибудь примитивного в этой культуре не было; скандинавская устная культура той эпохи, напротив, отличалась крайне высоким уровнем развития и обеспечивала эффективную передачу из уст в уста изощренной системы законов, обширных сведений о генеалогии, мифов и легенд и т. д., не говоря уже о венце творения – сагах. Именно это обстоятельство не позволило латыни – после ее появления на острове вместе с письменностью – отобрать у исландского языка культурное первенство, как это произошло во всех прочих европейских странах. В самосознании исландцев их культура и язык ничем не уступали латинским аналогам; этим они разительно отличались даже от современных им англичан, которые, высоко ставя древнеанглийский, почитали его, однако, лишь ступенью к латыни (ср. предисловие короля Альфреда Великого к переводу «Пастырского правила», оно же «Заботы пастыря», папы Григория, тоже Великого). Ср. также ниже. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Само положение Исландии как одного из крупнейших северных обществ эпохи викингов, сам ее статус ветви скандинавской культуры той эпохи – культуры, обладавшей комплексом технологий, которые позволяли ее носителям ежегодно пересекать Северную Атлантику туда и обратно по многу раз, – исключает возможность называть ее общество «примитивным». Скандинавы вообще и исландцы в частности обладали обширными познаниями в современной им географии и мировой политике. Уровень развития управленческих навыков позволял им создавать и удерживать крупные торговые города и даже мощные, хотя и небольшие, государства в самых разных уголках Европы. В эпоху заселения Исландии скандинавы основали торговые города в Ирландии и завоевали север Англии, введя там свои законы, а затем захватили остров и целиком. Викинги основали скандинавское государство на территории, отобранной ими у Франкской империи, стали князьями на Руси, королями на Сицилии, торговали с Багдадским халифатом и Византией.

Карта 6. Викингские маршруты для плавания в Исландию, Гренландию и Америку
Навигация в Северной Атлантике в эпоху викингов осуществлялась с помощью простых астрономических наблюдений и знаний о том, какие земли должны попасться на пути, откуда их можно увидеть и какие у них отличительные особенности. При хорошей погоде держать курс с востока на запад (т. е. плыть вдоль параллели) было несложно – нужно лишь отмечать высоту солнца над горизонтом в полдень; вполне возможно, викинги пользовались примитивным солнечным компасом. Ночью же плыли по звездам. Затемненные участки карты вокруг островов и материков обозначают области моря, откуда в хорошую погоду было видно их побережье.
Из Норвегии моряки отправлялись прямо на запад, попадая сначала на Шетландские, а затем на Фарерские острова. На этом этапе время, проведенное в открытом море, оставалось относительно недолгим; в ходе дальнейших морских переходов периоды времени, когда земли с корабля было не видно, значительно увеличивались. Когда моряки подходили ближе к Исландии и Гренландии, им помогали в навигации наблюдения за птицами, морскими животными, цветом воды, формой облаков – у каждого острова имелись характерные особенности в этом плане; также на наличие земли неподалеку указывали характерные зарницы: гигантские ледники хорошо отражают свет. «Книга о взятии земли» (в редакции «Книги Хаука», гл. 2) дает моряку следующие наставления: «С острова Хернар в Норвегии [111] 111
Расположен между современными Хардангерфьордом и Согнефьордом, южнее мыса Стад, к северо-западу от Бергена. (Прим. перев.)
[Закрыть] нужно плыть прямо на запад к Повороту, что в Гренландии [112] 112
Предположительно современный мыс Фарвель.
[Закрыть] , и тогда проплывешь к северу от Шетландских островов, правда, их видно с моря только в очень хорошую погоду, а потом к югу от Фарерских островов на таком расстоянии, что горы едва заметны на горизонте [дисл. букв, „горы наполовину закрыты морем“], а потом и к югу от Исландии на таком расстоянии, что вокруг корабля летают те же птицы и плавают те же киты, каких обычно видят в Исландии». Попав в Гренландию, опытный капитан и хорошая команда могли без большого труда достичь Северной Америки.
Морской переход по направлению восток – запад был для викингов делом обычным и тем не менее далеко не безопасным. Низкая облачность и туманы мешали капитанам держать курс, а в открытом море кораблю угрожали штормы и айсберги. «Книга о взятии земли» (гл. 90 в редакции «Книги Стурлы», гл. 87 в редакции «Книги Хаука») сообщает, что из двадцати пяти кораблей, отправившихся в 984 (или 985) году заселять Гренландию, до места добрались лишь четырнадцать. Чем ближе к берегу, тем серьезнее риск кораблекрушения; так, в «Саге о христианстве» (гл. 18) рассказывается, как в 1118 году в районе Островной горы на юге Исландии выбросило на берег крупный торговый корабль о 27 скамьях для гребцов (для сравнения самый большой известный по сагам корабль, «Большой Змей» конунга Олава сына Трюггви, был о 34 скамьях): его «подкинуло вверх и завертело в воздухе, и так он упал на землю».
Культура континентальной Скандинавии легла в основу культуры Исландии. Их социальные коды и общественные ценности – одни и те же; можно утверждать, что исландцы в полном объеме унаследовали социальные богатства, добытые веками общественной эволюции в Северной Европе. Это наследие позволило им установить на острове сложный конституционный порядок, а затем и дополнительно его усложнить, введя изощренную систему законов, контрактного права, права частной собственности и гражданского права. Одновременно исландцы создали уникальную в мировой истории литературу. Простой или примитивной можно называть лишь исландскую экономику той эпохи. В большом скандинавском мире международная торговля процветала, но Исландия находилась на самой его окраине, основой выживания там служили скотоводство и собирательство, и в силу этих обстоятельств экономика страны принуждена была сделаться самодостаточной.
Сравнивая общество Исландии с другими обществами той эпохи, следует принимать во внимание и иные факторы. Так, например, в отличие от Ирландии с ее богатой историей родов и вождей, уходящей корнями в бронзовый век, в средневековой Исландии не было кланов, а власть «больших людей» не основывалась на контроле либо владении большими территориями. Но что же в таком случае есть исландское общество? Коротко говоря, это общество, развитие и особенности которого были заданы сочетанием общескандинавского наследия и иммигрантского опыта в новой стране. Отбросив значительную часть военных и политических структур, самой историей выпестованных в континентальной Скандинавии к эпохе викингов, исландские первопоселенцы и их потомки построили особое общество со свойствами, которые редко могли сочетаться в обществах других стран Европы, – и тем более в течение сколько-нибудь длительного времени. С X века у исландцев имелось рудиментарное государство, способное заявить окружающему миру о своей независимости; внутри страны, напротив, исполнительная власть находилась в руках частных лиц, фактически всех граждан одновременно, и поэтому во внутренних делах исландцы смогли ограничиться лишь намеками на государственные институты. Внутренняя целостность общества обеспечивалась ведущей ролью горизонтальных социальных связей, каковые лишь усиливались благодаря тому, что все землевладельцы были согласны в следующем: любые вопросы должны решаться не насилием, осуществляемым «большими людьми» или от их имени, но исключительно путем достижения консенсуса.
В антропологии давно утвердилось понятие «культурного фокуса», каковой есть тенденция любого общества к особой сложности и изощренности одних аспектов и институтов [113]113
Классическое определение понятия «культурный фокус» см. в работе [ Herskovits1970:542–560].
[Закрыть]на фоне относительной простоты других. Когда общество фокусируется, сосредоточивает усилия на развитии какого-то одного аспекта своей культуры, этот аспект становится очагом инноваций, так как именно он, а не другие, находится в центре внимания. Культурный фокус Исландии – закон и право, и потому общество держало хаос в узде не с помощью мечей, а с помощью правовых решений, согласие относительно которых достигалось путем внесудебных договоров между сторонами и прений в судах.
Исландские законы основывались на традиции и обычаях, которые проявили большую гибкость и отлично адаптировались к новым явлениям. Закон и право служили моделями концептуализации жизни за пределами семьи – при этом, что необычно, другие модели практически не использовались. Закон и право определяли, как достичь успеха в посредничестве между сторонами и решить тяжбу ко всеобщему согласию, а равно играли роль общественного фундамента, были тем неизменным и прочным, тем незыблемым, что не меняется веками. Эта стабилизирующая роль закона и права с особой яркостью проявлялась во времена кризисов и разногласий, ведь к юридическим процедурам прибегали даже при решении сугубо частных споров. Благодаря этому общество в целом имело эффективный инструмент нейтрализации даже самых разрушительных внешних и внутренних сил. Лучший пример тому – обращение страны в христианство в 1000 году, о чем пойдет речь в главе 16. Потенциально крайне взрывоопасная ситуация была обращена исландцами в обычную тяжбу между двумя сторонами (приверженцами старой и новой веры), для решения которой отлично подходили общепринятые и всеми уважаемые юридические процедуры; эта тяжба и была благополучно разрешена на альтинге путем переговоров и взаимных уступок.
Приватизация исполнительной власти в X веке
Власть в Исландии эпохи народовластия являлась своего рода товаром и продавалась и покупалась на своего рода рынке, где, как на любом рынке, ключевую роль играли спрос и предложение. Кандидаты на позиции лидеров, «власть имущих», соревновались за поддержку землевладельцев, без которой они не могли стать годи, – а статус годи позволял сосредоточить в своих руках богатство и власть, поскольку успех в юридических процедурах обеспечивался именно этой привилегированной позицией в обществе. При наличии выдающихся индивидуальных способностей тот, кто делался годи, мог достичь весьма впечатляющих успехов, а тот, кто заключал с ним союз и поддерживал его, мог в будущем рассчитывать на взаимную помощь. Во многом система работала в пошаговом режиме – за каждое действие нужно было платить, любая правовая услуга имела свою цену, услуги можно было продавать, покупать и обменивать.
Поскольку исполнительная власть находилась в руках всех граждан страны в целом и принуждение к исполнению судебных решений осуществлялось в индивидуальном и частном порядке, то исполнительных структур не существовало, и исландцам не нужно было вводить налоги, чтобы оплачивать их содержание. Такое решение было очень эффективно с экономической точки зрения [114]114
[ Friedman1979; Solvason1991].
[Закрыть]– страна запросто обходилась без чиновничества и полиции, и стоимость государственного управления снижалась практически до нуля. Минимум исполнительных институтов при этом имелся – с установлением практики частного исполнения закона тяжущиеся стороны, как правило, продавали права мести своим представителям, и уже те осуществляли судопроизводство и исполнение решений. Представителями могли быть и обычные землевладельцы с известной долей амбиций, но, как правило, ими выступали годи. Статус годи обеспечивал человеку место в национальном законодательном собрании, лёгретте, этот статус являлся частной собственностью и мог продаваться. Однако стоимость приобретения годорда или его части была лишь платой за вход: новоиспеченный годи должен был обладать личными лидерскими качествами, иначе ему было не преуспеть как предводителю своих сторонников. Когда землевладелец оказывался вовлечен в конфликт и не мог сам добиться уважения к своим правам, он обращался к представителям, особенно к годи, – те же, имея институционализованную поддержку крупной группы людей (тинговых), обладали куда большими возможностями заставить считаться со своими интересами путем манипулирования правовой системой. Годи рассчитывали на плату за поддержку землевладельцев и других годи в тяжбах; однако средств платежа за подобные услуги в Исландии было не очень много. [115]115
Прежде всего это была земля; об этом будет речь в гл. 15. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Товарный статус годорда самым серьезным образом влиял на ситуацию в обществе. Легкая доступность подлинной власти, пусть власти низкого уровня (власти высокого уровня в Исландии попросту не было), обеспечивала стабильность исландской политической системы. Классовые различия, несмотря на их реальность, не представляли собой непреодолимых барьеров на пути к годорду, и амбициозный землевладелец вполне мог поставить перед собой задачу стать годи и затем успешно решить ее. Вознаграждение в виде власти и высокого социального статуса было вполне достижимо в рамках наличной политической и социальной системы, и поэтому у амбициозных личностей не имелось стимула пытаться достичь своих целей путем изменения правил игры. Вплоть до появления в XIII веке больших годи (об этом будет речь в конце настоящей книги) у нас нет никаких свидетельств, что землевладельческий класс в Исландии был недоволен своим социальным положением и предоставляемыми им возможностями.