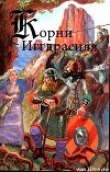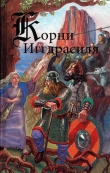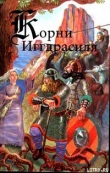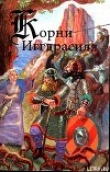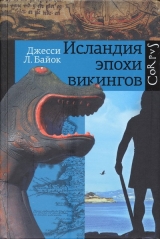
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Саги, или Средневековая исландская этнография
Йон Йоханнесон некогда опубликовал труд по ранней истории Исландии, где <…> умудрился почти ни разу не упомянуть события, о которых рассказывается в сагах об исландцах, словно их и вовсе не происходило. Оказалось, однако, что на самом деле Йон вовсе не придерживается подобных крайних взглядов. Вскоре после выхода книги я спросил его, неужели он и правда считает саги чистым вымыслом. «Нет, что ты, ни в коем случае, – ответил Йон, – я просто не знаю, как мне с ними быть». Слова Йона, верные тогда, чрезвычайно точно описывают и современную ситуацию в исторической науке.
Йонас Кристьянссон, «Корни саги»
На примере истории Мёрда мы хорошо видим природу исландской родовой саги. Нигде средневековое общество не показано с такой полнотой, как в сагах, и это не случайно – у них была как литературная, так и социальная функция. Эта дуальность саги, однако, частенько ускользает от внимания ученых. [47]47
Эта точка зрения автора перекликается с идеями М. И. Стеблин-Каменского, высказанными в его фундаментальном труде «Мир саги» [1971; переиздано в 2003 в составе «Трудов по филологии»], и особенно с его термином «синкретическая правда». Автор – редкий западный исследователь, воспринявший идеи основателя российской скандинавистики; см. подробнее об этом в гл. 8 настоящей книги. (Прим. перев.)
[Закрыть]Как историки, так и антропологи, даже заинтересованные именно в социальной истории, всегда старались по возможности избежать работы с сагами как с источниками. Они ведь относительно поздние, большинство датируется XIII веком. [48]48
XIII веком датируются, разумеется, только рукописи саг. В прошлом филологи отождествляли момент записи саги с моментом создания ее текста, и некоторые ученые придерживаются этой фантастической точки зрения по сию пору. Автор не относится к числу последних и подчеркивает ниже: саги сложились как устные тексты и форма национальной памяти задолго до появления в Исландии искусства письма, поэтому и дожили до века записи. При этом, пока устная традиция не умерла, они продолжали меняться и в письменной форме, пересоздаваясь (расширяясь, сокращаясь и т. д.) под рукой носителей традиции, овладевших этой новой технологией передачи и хранения информации. Пример того, как именно меняется такой устно-письменный текст, см. в работе [Циммерлинг 2004]. (Прим. перев.)
[Закрыть]Порой рассказчики выдумывали персонажей и события из головы. Когда в сагах рассказывается о путешествиях исландцев в другие страны, повествование порой превращается в фантастическую сказку, но когда действие происходит в Исландии, то даже сверхъестественные явления оказываются, как правило, жестко увязаны с подлинной социальной реальностью. Когда действие происходит в Исландии, саги демонстрируют существующие в реальном мире стандарты поведения вместе с их культурным контекстом и тем самым подсказывают читателю-слушателю основные правила – как следует поступать в той или иной социальной или политической ситуации.
Одна коротенькая история вроде рассказа о Мёрде и Хруте могла бы считаться лишь слабым намеком на систему ценностей той эпохи. Но у нас-то в руках целая библиотека таких историй. Во многом, хотя, конечно, не во всем, саги очень напоминают материалы, собираемые этнографами в полевых экспедициях, а кое в чем даже решительно их превосходят. У этнографа есть ахиллесова пята – он не в силах собрать материал за сколько-нибудь длительный период времени, поэтому трудно ожидать, что он сумеет охватить полный спектр возможных реакций общества на те или иные внешние стимулы. Другое дело саги – они сохранили чрезвычайно разнообразный ассортимент социальных ситуаций, что позволяет в подробностях изучить не только общественное устройство и культурный склад обширной социальной группы, но изучить его в контексте меняющейся социальной и природной среды.
Прочие европейские народы чаще всего смотрели на свою историю как на миф, у их истоков стояли боги и герои. Исландцы, напротив, создали не мифы, но саги – квазиисторические повествования о прошлом, линейные в своей основе. Они хорошо понимали, что их общество не уходит корнями в неведомую седую древность, а, напротив, создано недавно и события первых двух веков после заселения острова еще живы в памяти людей. В совокупности исландские саги можно с некоторой натяжкой назвать «мифом об основании страны». Важно, однако, что это как раз не миф – саги представляют собой множество рассказов о том, как независимые землевладельцы переехали из других стран в Исландию, и истории в них куда больше, чем в легендах других народов. Эти рассказы изменялись с течением времени и служили последующим поколениям удобным средством хранения коллективной памяти – удобным, в частности, именно в силу своей изменчивости. [49]49
[ Fentress and Wickham1992:134,163–172]; [ Byock1984–1985,1998].
[Закрыть]Саги позволили обществу иммигрантов осознавать себя как единое целое; они объясняли людям, откуда взялись важные для исландцев ценности – ценности свободных землевладельцев. Традиция в Исландии – не каменная скрижаль исторических фактов. Традиционные тексты не фиксированы жестко раз и навсегда. Традиция в Исландии – живая, она – постоянно пополняемое наследство, постоянно расширяемая квазиподлинная коллективная память, которая и служит тематическим ядром любой саги, связью между рассказчиком, его аудиторией и реальной жизнью в исландском прошлом и настоящем.
Саги об исландцах и более поздние тексты, вошедшие в «Сагу о Стурлунгах», являются бесценными источниками для исследования возникновения, работы и эволюции нового социального порядка в Исландии в первые столетия после заселения. Вместе со средневековыми законами и современными достижениями в области археологии и климатологии эти письменные источники рисуют чрезвычайно красочную картину жизни и функционирования островного общества, которое с X по XIII век отличалось уникальной способностью и сохранять все самое важное в почти неизменном виде и тем не менее не стоять на месте. Саги – окно в мир частной жизни, общественных ценностей и материальной культуры; миры эти навсегда остались в прошлом, но рассказы о них живут. Ни у одного другого европейского общества нет литературы, столь подробно и ярко повествующей о его истоках и развитии. Само древнеисландское слово saga– производное от глагола segja«говорить» (англ. to say, нем. sagen) и означает как сами события, так и рассказ о них. Саги – не сказки, не эпос, не романы и не хроники [50]50
Ср. обсуждение отличий саги от этих жанров у М. И. Стеблин-Каменского в «Мире саги» и «Становлении литературы» [1984; переиздано в 2003 в составе «Трудов по филологии»]. (Прим. перев.)
[Закрыть]; они – в общем и целом реалистичные рассказы о повседневной жизни, в которой сталкивались интересы независимых исландских землевладельцев, годи и бондов. Это истории о ссорах и распрях из-за личных оскорблений, земли, годордов, любви, измен, наследства, телесных повреждений и пропавшего скота. Мы находим в них и описания климата и географии, и требования возврата имущества, и обвинения в колдовстве, и байки о привидениях, и анекдоты о драках из-за выброшенных на берег китов, и непристойные эротические стишки, и обман, и воровство, и укрывательство объявленных вне закона, и борьбу за место в обществе.
Саги прежде всего повествуют о конфликтах и кризисных ситуациях, и поэтому в них мы читаем как о благородстве и подлости, так и о совершенно банальных и повседневных вещах, иногда смешных, иногда не очень. Мы видим ужасные картины бедности и голода – условий, в которых приходилось жить мелким землевладельцам в стране с ограниченными ресурсами. Саги подробно рассказывают об интригах и хитростях тех, кто стремится к власти, и о том, как на все это реагируют люди попроще, то есть владельцы объектов посягательств первых, зачастую лишенные возможности успешно защищать свои интересы в суде, а землю – от незаконного использования. Вопросы, касающиеся работы с сагами как с источниками, подробно рассматриваются в главе 8; здесь же будет достаточно сказать, что старый подход, который обращал внимание лишь на литературные достоинства саг и игнорировал их историческую ценность, исчерпал себя и более не может считаться адекватным. Придерживаться подобных взглядов – значит обрекать себя на заведомое поражение в поиске нового. В самом деле, один тот факт, что саги обладают несомненными литературными достоинствами, не означает, что они начисто лишены достоинств иного рода – например, не могут служить источниками информации об устройстве общества. В конце концов, средневековые исландцы сочиняли саги именно про себя и именно для себя. Поэтому, изучая саги одновременно с другими источниками, мы можем сделать еще один шаг вперед в изучении природы живого исландского средневекового общества.
Глава 2
Ресурсы их добыча: как выжить на приполярном острове
Кьяртан часто ездил к горячему источнику в Счастливчиковой долине и всегда заставал там Гудрун. Кьяртану нравилось беседовать с ней, потому что она отличалась умом и сообразительностью. Люди как один говорили, что из всей тогдашней молодежи лучшая пара – Кьяртан с Гудрун.
«Сага о людях из долины Лососьей реки», гл. 39
Когда Кетиль закончил оглашать вызов в суд, Торлейв снова предложил им остаться у него, мол, неизвестно, какая будет погода. Кетиль сказал, что поедет домой. Торлейв сказал, что если погода ухудшится, пусть возвращаются к нему. Вот они уезжают, и скоро погода начинает портиться, и пришлось им повернуть назад; только к вечеру им удалось добраться до Торлейва, и они только что не падали от усталости. Торлейв их хорошо принял, и Кетиль с людьми провели у него две ночи, так как погода не позволяла им выйти из дому, и чем дольше они оставались у Торлейва, тем лучшее гостеприимство им оказывалось.
«Сага о людях с Оружейникова фьорда», гл. 5
Исландские первопоселенцы не только устанавливали в новой стране порядок, принимали законы и устраивали общественную жизнь – они одновременно адаптировались к довольно необычным природным условиям. Исландия – пятый по величине остров планеты, его площадь составляет 103 000 кв. км, что на 20 % больше Ирландии; несмотря на это, много народу в Исландии жить не может. Большая часть внутренних регионов острова расположена слишком далеко от теплого океана (с юга Исландию омывает Северо-Атлантическое течение, продолжение Гольфстрима). Неподалеку – всего в паре градусов к северу от Западных фьордов – проходит Северный полярный круг, об этом напоминают ледники, покрывающие горы уже на сравнительно небольших высотах. А на юго-западе острова высится огромный Озерный ледник (дисл. Vatnajǫkull); его площадь – 5800 кв. км, максимальная толщина льда достигает 1 км.
Исландия расположена в регионе столкновения двух воздушных масс – холодного сухого полярного фронта и теплого влажного южного фронта – и вдобавок между двумя течениями, теплым Северо-Атлантическим и холодным Восточно-Гренландским полярным. Из-за столь резких контрастов погода и температура на острове чрезвычайно нестабильны; холодные сухие северные ветра, приносящие ясную погоду, постоянно сменяются южными морскими влажными ветрами, приносящими ливни и снегопады. Осадки питают многочисленные в ледниковом ландшафте Исландии реки и озера, а также болота и пустоши, где находят себе пищу и приют сотни тысяч разнообразных птиц.
Исландия расположена непосредственно на Срединно-Атлантическом хребте и сформировалась почти целиком в результате вулканической деятельности. Она и по сей день – один из наиболее активных вулканических регионов планеты. Наличие на острове одновременно ледников и вулканов постоянно давало о себе знать, ощутимо влияя на жизнь исландцев. Исландские долины в значительной мере сформированы эрозией – ледники и вода безжалостно уничтожали хрупкую лаву. Геологически Исландия – молодая земля, на ней более 200 действующих вулканов, иные из которых питаются магмой из самых глубин нестабильной земной мантии. Почти вся поверхность острова покоится на слоях базальта, темной вулканической породы. Типичный исландский ландшафт – застывшая лава и рассыпающаяся в песок пемза; обычно на лаве и пемзе растут разноцветные мхи и лишайники. В течение многих веков действующие вулканы, затаившиеся под ледяной массой Озерного ледника, наносили серьезный ущерб населению острова – как первопоселенцам, так и их потомкам, имевшим несчастье поселиться на южном побережье непосредственно к югу от ледника.
Однако не все последствия вулканической активности были негативными. Первопоселенцев встретил остров, на котором имелось более 250 природных горячих источников, – в Исландии, вероятно, было больше легкодоступной горячей воды, чем в любой другой сравнимой с ней по размерам части земного шара. На протяжении Средних веков исландцы не пытались использовать горячие источники как источники энергии, однако нашли возможность извлечь из них иную пользу – стирали там одежду, готовили еду, мылись, отдыхали и общались. В вынесенной в эпиграф цитате из «Саги о людях из долины Лососьей реки» упоминаются горячие источники в Счастливчиковой долине в Широком фьорде, где знакомятся юные Кьяртан и Гудрун. Сам факт этого упоминания много говорит о роли, какую горячие источники играли в жизни хуторского общества Исландии. [51]51
Горячие источники, как природные, так и искусственные, и по сию пору остаются для исландцев важным местом общения, более популярным, чем бары или подобные заведения. В Исландии не найдется ни одного населенного пункта, где не было бы общественного бассейна с горячей водой – естественного либо искусственного. (Прим. перев.)
[Закрыть]

Карта 4. Океанские течения вокруг Исландии
Все хутора, просуществовавшие сколько-нибудь долгое время, располагались близ побережья или в немногих внутренних долинах, защищенных от сильных ветров. Хищников в стране не водилось – единственными наземными млекопитающими на момент заселения являлись песец и полевая мышь, компанию которым изредка составляли белые медведи, попадавшие на север Исландии из Гренландии на отколовшихся льдинах. После долгого путешествия через море мишки высаживались на берег злыми и голодными, поэтому жителям приходилось в срочном порядке с ними расправляться – в этом отношении с X века мало что изменилось. Других животных – собак, кошек, свиней, коз, овец, коров и лошадей [52]52
[ Amorosi et al.1997].
[Закрыть]– поселенцы привезли с собой. С ними, разумеется, на остров прибыли также вши, блохи, прочие паразиты и иные насекомые, такие как навозные жуки. Отсутствие хищников позволило первопоселенцам спокойно отпускать скот пастись в горы. Сначала в домашнем хозяйстве преобладали, как и в Норвегии, коровы, но век спустя их место заняли овцы. Особенно плохую службу сослужили иммигрантам свиньи и козы – они уничтожали хрупкие исландские луга, и к 1000 году разведение свиней и коз фактически прекратилось. [53]53
Экосистема Исландии и влияние на нее заселения подробно изучались, см., например, работы [ Amorosi et al.1997; Arnalds1987; Buckland et al.1991 а и b; Dugmore and Simpson1999; Sturla Friðriksson1972; Margrét Hallsdóttir1987; McGovern1990; McGovern et al.1988; Sveinn Runólfsson1987; Guðrún Sveinbjarnardóttir1992; Thórarinn Thórarinsson1974]. См. также Jarðvegsrof á Íslandi1997].
[Закрыть]Остальные животные неплохо приспособились к новым условиям. Особенно исландцам повезло с лошадьми: они взяли с собой низкорослых толстокожих скандинавских лошадок, и в то время как на континенте местных лошадей скрещивали с арабскими скакунами с целью получить крупных животных, исландцы сохранили чистоту породы – небольшой по размеру, но крепкой и сильной – в неприкосновенности. За прошедшие века эти лошади с их уникальным пятым аллюром (дисл. tǫlt) доказали свою незаменимость в исландских условиях: они отлично приспособлены к перемещению по неровной и неоднородной земле.
Первопоселенцы изначально были хорошо подготовлены к жизни на изолированных хуторах, окруженных лугами, где растет трава на зимний корм скоту; подобная схема расселения преобладала вплоть до первых десятилетий XX века. Исландцы эпохи викингов и последующих веков – пастушеский народ, живущий на постоянных хуторах, удаленных друг от друга на значительные расстояния. Комплекс прав свободных землевладельцев был призван обеспечивать хозяину-бонду (дисл. húsbóndi, букв, «живущий в доме», ср. англ. husband) возможность кормить своих домочадцев. Иначе говоря, владельцу хутора полагалось иметь в собственности обширные площади для выпаса скота и для выращивания травы на сено, которого нужно было запасти достаточно, чтобы прокормить стадо в некое минимальное число голов в течение зимы. Поэтому с самого начала исландцы весьма четко сформулировали понятия о частной собственности и праве, однако, в отличие от других обществ, не озаботились созданием государственных структур, призванных защищать права собственников и приводить в исполнение судебные решения.

КАРТА 5. Земля Лысого Грима в Городищенском фьорде
В конце IX века Лысый Грим, сын норвежского викинга Квельдульва и отец знаменитого исландского воина и скальда Эгиля, поселился на хуторе Городище, что на Трясине, на западе Исландии. Вокруг главного хутора он построил также хутора поменьше, расположив их поближе к доступным природным ресурсам. Потомки Грима и Эгиля, известные как Люди с Трясины (дисл. Mýramenn), и после смерти основателей рода остались важными людьми в округе. Изначально Лысый Грим объявил своей собственностью весьма обширные территории, но вскоре был вынужден раздать земли другим людям, и через пару поколений на исконных землях Грима уже жили несколько семей, отношения с которыми у потомков Грима часто были далеко не дружеские.
Исландия лишь в незначительной мере участвовала в процветавшей в эпоху викингов международной торговле, и поэтому для выживания на острове требовались другие стратегии – успешное скотоводство плюс охота и собирательство. Исландцы охотились на тюленей и птиц, ловили рыбу, собирали птичьи яйца и сражались за выброшенных на берег китов. В иных сагах имеются тому красочные иллюстрации, несмотря на то что сагу как таковую, как правило, интересует что-то другое. Возьмем, к примеру, «Сагу об Эгиле» – в ней много рассказывается об исландской экономике и стратегиях выживания. Сага повествует о том, как первопоселенец по имени Грим Лысый сын Квельдульва снабжал припасами свой хутор Городище (дисл. Borg), расположенный чуть выше прибрежных болот в Городищенском фьорде (дисл. Borgarfjǫrðr). Наличный текст саги датируется несколькими веками позднее заселения, его составитель неплохо знал упомянутые места и видел, какие изменения произошли в регионе со времен Грима; описывая его богатство, он перечисляет именно природные ресурсы, которые Грим умел использовать. [54]54
Сколько земли относилось к хутору Городище, более или менее известно; сага утверждает, что Грим владел едва ли не всем Городищенским фьордом, однако это, возможно, позднейшее преувеличение.
[Закрыть]Вот как сказано в гл. 29 саги:
Лысый Грим был человек очень предприимчивый. При нем всегда было много людей. Он посылал их добывать все припасы, какие можно добыть, если потрудиться, потому что вначале у них не хватало скота, чтобы прокормить такое множество народу, какое жило на хуторе, а тот скот, что у Грима был, пасся всю зиму на подножном корму в лесах.
Лысый Грим был мастак строить корабли, да и то – на побережье у Трясины хватало плавника. Он поставил двор на Лебедином мысу, и завел здесь еще одно хозяйство, и посылал оттуда людей ловить рыбу, охотиться на тюленей и собирать птичьи яйца, а в те времена всего этого было вдоволь, а еще собирать плавник. Часто появлялись в заливе и киты, и их можно было бить сколько угодно. Непуганые животные тогда спокойно подпускали к себе людей.
Третий двор Лысого Грима стоял у моря в западной части Трясины. Это было лучшее место для сбора плавника. Там Лысый Грим стал высевать злаки и назвал этот двор Пашни. Недалеко от берега там были острова, возле которых водились киты. Их назвали Китовые острова.
Люди Лысого Грима жили также в горах, около рек, где ловились лососи. Он поселил Одда Бобыля возле Расселинной реки, чтобы тот ловил лососей. Одд жил у холма под названием Холм Бобыля. По нему назван также Мыс Бобыля. У Северной реки Лысый Грим посадил человека, которого звали Сигмунд, место, где тот жил, прозвали Дворы Сигмунда, а теперь называют Курганы. По нему назван еще Сигмундов мыс. Позже он переехал на Отрадный мыс, там лучше ловились лососи.
А когда у Лысого Грима стало много скота, он принялся посылать его на лето в горы. Лысый Грим говорил, что коровы, которые пасутся летом на горных пастбищах, делаются лучше и жирнее, а овец иногда и зимой оставлял в горных долинах, когда не пригонял их вниз. Позже Лысый Грим построил двор и в горах и тоже вел там хозяйство. Он велел пасти там своих овец. Этим занимался Грис, и по нему то место назвали Междуречье Гриса. Так Лысый Грим добывал себе богатство везде, где только мог.
Рассказ о действиях Лысого Грима хорошо согласуется с тем, что известно о древнеисландском обществе. Важные первопоселенцы ставили главный хутор, а затем – небольшие хуторки неподалеку в округе, с тем чтобы те снабжали главный. Дальше читатель узнает, как попытка первопоселенцев установить таким образом монопольный контроль над обширными территориями вскоре потерпела крах, а небольшие зависимые хуторки постепенно стали самостоятельными.
Поселенцы добывали доступные в природе ресурсы самыми простыми способами, изредка специализируясь на том или ином виде добычи и иногда прибегая к разделению труда. Во всех регионах острова был доступен более или менее одинаковый набор ресурсов, поэтому хутора в разных частях Исландии мало отличались друг от друга. Почти в каждом хозяйничала одна нуклеарная семья, и поскольку ни городов, ни даже мелких деревень в Исландии эпохи викингов не возникло, общество оставалось целиком хуторским. Хутора по всей Исландии были, как правило, совершенно независимы и сами могли себя прокормить (что, впрочем, не означало политической самодостаточности). Рыбу ловили у берегов с маленьких лодок, чаще всего двухместных. Лучшая ловля была поздней зимой и ранней весной в местах размножения трески – чуть вдали от юго-западных и западных берегов острова, но и по всей береговой линии Исландии хороших рыбных мест имелось достаточно. Поскольку, с одной стороны, железо было доступно повсеместно в виде низкокачественной «болотной руды», а уголь для его выплавки, с другой стороны, был повсеместно же крайне труднодоступен (на острове не хватало дерева), то не возникло и регионов, которые бы специализировались на обработке металла.
Заселение Исландии финансировалось прежде всего богатством, награбленным викингами в Европе и приобретенным ими же путем торговли. Грабежи и набеги начались в конце восьмого века [55]55
«Официальное» начало эпохи викингов – 793 год, когда пришедшие с моря на кораблях воины разорили монастырь на приливном острове Линдисфарне, что в районе современной границы Англии и Шотландии. Это первый засвидетельствованный хрониками викингский набег. (Прим. перев.)
[Закрыть], и с этого момента в Скандинавию потекли реки добра, что, в свою очередь, стимулировало кораблестроение и торговлю. Все эти факторы в совокупности и обеспечили накопление богатства, опыта и технологий, необходимых для колонизации такого большого и далекого острова, как Исландия. Спустя какое-то время после заселения потомки колонистов не могли не заметить, что капитал их, как бы велик он ни был изначально, значительно уменьшился. Они оказались на краю света, в стране с хрупкой субарктической экологией. Они выяснили, что полномасштабное сельское хозяйство вести здесь весьма затруднительно, а производимые продукты – не из тех, какие можно задорого продать в других странах.
Поселенцы не изобрели почти никаких новых технологий, которые позволили бы увеличить производительность прибрежных и долинных хозяйств. С точки зрения археологии этот факт очень важен, поскольку тесно связывает прошлое с настоящим – с десятого по самый конец девятнадцатого века хуторская жизнь в Исландии претерпела лишь минимальные изменения. Преемственность доминирует скорее в материальной культуре, чем в социальных отношениях, и тем не менее она доминирует – а стабильность хуторов лишь поддерживает ее. Многие хутора XX века стоят на тех же местах, где стояли в начале эпохи викингов тысячу лет назад; все это время люди жили на них непрерывно. [56]56
[ Guðrún Sveinbjarnardóttir1992; Adolf Friðriksson, Orri Vésteinsson1998].
[Закрыть]На очень многих хуторах, упомянутых в сагах, люди живут до сих пор, и многие сохраняют до сих пор свои саговые названия. [57]57
Таковы, к примеру, хутор Городище Лысого Грима и его сына Эгиля из «Саги об Эгиле», хутор Капище Хельги Кошки из «Саги о людях с Оружейникова фьорда», хутор Дворы Хёскульда из «Саги о людях из долины Лососьей реки» и даже хутор Главное жилье из «Саги о Хравнкеле годи Фрейра». (Прим. перев.)
[Закрыть]
Сходство, однако, порой обманчиво. Тот, кто рассматривает десятый век сквозь призму хорошо документированных XVIII и XIX веков, может и не заметить подвоха. Нельзя забывать, что эрозия почвы, спровоцированная выпасом скота, к XIX веку существенно снизила объем биомассы острова. Если же добавить сюда еще и влияние климата, который с XIII века делался все холоднее, то станет ясно, что люди в XVIII веке жили все же несколько иначе, чем их предки в первые века после заселения. Да что там XVIII век! Уже к концу эпохи народовластия мы наблюдаем значительные изменения в стратегиях выживания, социальном устройстве и условиях жизни.
Нестабильность погоды плюс короткий и часто холодный вегетационный период, характерный для широт, где расположена Исландия, определяли структуру исландского сельского хозяйства и саму исландскую жизнь. Автохтонная флора была небогата: карликовая береза, ива, немного ольхи и хвойных, кустарники, травы, мхи, лишайники и осоки. От глаз поселенцев не укрылось, что кустарники и травы на острове подходят для животных, которых исландцы разводили, еще когда были норвежцами в Норвегии, прежде всего коров и овец. Березовые леса, изначально во многих местах простиравшиеся от побережья до подножия гор, не пугали поселенцев-пастухов. Деревца были хиленькие, и очистить от них землю не составляло труда – наиболее распространенный способ очистки, как это видно на примере раскопок на хуторе Хворостяной мосток, что в долине Мшистой горы [58]58
Мшистая гора (исл. Mósfell) – гора и одноименный город близ современной столицы Рейкьявика, по дороге на альтинг. (Прим. перев.)
[Закрыть], заключался в том, чтобы попросту сжечь лес и подлесок. [59]59
Имеются в виду раскопки на главном лугу (дисл. tún) хутора Хворостяной мосток, осуществленные летом 1999 года в рамках проекта «Раскопки в долине Мшистой горы». Слои в траншеях показали, что непосредственно над слоем пепла эпохи заселения (вулканическая пемза и пепел от извержения, произошедшего в 871±2 году) располагается широкий, но тонкий слой органического пепла. Это, несомненно, остатки росшего здесь некогда леса, сведенного пожаром.
[Закрыть]С самого начала количество скота в собственности определяло социальный статус, и на фоне легкости расчистки земли под пастбища у поселенцев имелся стимул освобождать себе больше пространства, чем необходимо.
Автохтонная береза служила топливом для приготовления пищи и материалом для производства угля. Очистка земли под пастбища, заоблачные аппетиты плавильных печей и бесконтрольный выпас скота вскоре привели к тому, что вместо лесов на острове остались лишь изолированные рощицы – они часто фигурируют в сагах как особо ценная собственность, за которую идут жаркие схватки. Спор о таком леске составляет важную стадию развития конфликта в «Саге о людях с Оружейникова фьорда» (см. гл. 13 настоящей книги). Крупные деревья были срублены довольно быстро, а оставшаяся береза плохо подходила для кораблестроения и возведения домов. С самых первых лет хорошее дерево нужно было импортировать, что, в свою очередь, значительно повышало стоимость поддержания кораблей на плаву. Именно этот фактор со временем сыграл решающую роль в конкурентной борьбе с норвежскими купцами, обусловив проигрыш исландцев.
Недостаток дерева означал также, что бывшим норвежцам не хватало материала для огораживания больших пространств, – стало быть, траву на сено выращивали на ограниченной площади. На этом проблемы не кончались – камень в Исландии тоже не слишком хороший: он вулканического происхождения, и в нем много пустот из-за пузырей воздуха, поэтому он легко крошится и плохо поддается обработке. Тем самым возведение стен из дерна и камней было процессом чрезвычайно трудоемким и тяжелым, но, несмотря на это, исландцам постоянно приходилось их строить, за неимением другого способа огородить пастбища. [60]60
Еще больше труда приходилось затрачивать на починку этих стен, см. «Серый гусь», т. 1, гл. 181 [1852 Ib, 91].
[Закрыть]Такими же стенами огораживали и удобряемые прихуторские луга (дисл. tún). Обычно луга эти располагались непосредственно перед главным домом, а иногда, особенно в ранний период, стена домового луга кольцом окружала дом и хлева. Стены домов и других построек также изготавливались из дерна – единственного легкодоступного природного строительного материала.