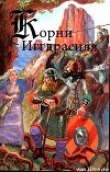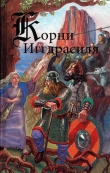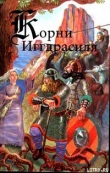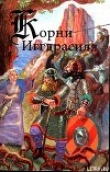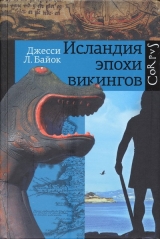
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава 7
Институт представительства и отношения между годи и его тинговыми
Ни одно общество не обходится без властных структур и систем перераспределения власти, без соответствующих ценностей. В случае догосударственных обществ анализ этих феноменов невозможно произвести на материале общества в целом – наблюдая последнее, мы можем пасть жертвой иллюзии, будто имеем дело с обществом равных, когда на самом деле речь идет лишь об отсутствии централизованной универсальной политической иерархии. Для адекватного анализа в таких ситуациях требуется изучать структуры масштабом поменьше – и задачей становится определить крупнейшую общественную единицу, которая в действительности осуществляет принятие решений (или же некую группу, отличающуюся единством в рамках такой единицы).
Роберт Левин, «Интернализация политических ценностей в догосударственных обществах»
В Исландии, где ввиду отсутствия внешних врагов не было нужды в системе национальной обороны, где люди жили небольшими группками, разбросанными далеко друг от друга по краям гигантской пустыни, расположенной в центре острова, исполнительной властью не обладал никто, и общество создавало хитроумнейшие системы сдержек и противовесов, призванные обеспечивать защиту как прав небольших общин, из которых и состояла страна в эпоху народовластия, так и прав священников-годи, представлявших интересы этих общин на национальной арене.
Джеймс Брайс, «Труды по истории и юриспруденции»
У средневековых исландцев имелся богатый словарь терминов, описывающих политическую и социальную стратификацию. Означенные термины и стоящие за ними понятия мы регулярно находим в сагах о правителях Норвегии и Дании, а равно в текстах по истории других северных стран, таких как «Сага об оркнейцах» (дисл. Orkneyinga saga [177]177
На русский не переводилась. (Прим. перев.)
[Закрыть]), где рассказывается о норвежских ярлах, правивших Оркнейскими островами. Но когда исландцы принимались за сочинение историй о своем собственном обществе – о каких бы текстах ни шла речь, сагах, законах либо рассказах иных жанров, – те же самые слова как по мановению волшебной палочки практически исчезают с пергаментных страниц. Этот удивительный на первый взгляд контраст есть следствие самого важного, ключевого обстоятельства в истории средневековой Исландии: статус общественного лидера эволюционировал таким образом, что лидер – глава округи, годи, хёвдинг – перестал черпать свою власть и ресурсы из некоей четко очерченной и пригодной для эксплуатации территории. Если в Европе, являясь повсеместно основой экономик и систем права, доминировало именно территориальное лидерство, то в ранней Исландии от этого института не осталось и следа. В средневековой Европе все строилось на отношениях «землевладелец – крестьянин», в Исландии же этих отношений, можно сказать, не существовало вовсе.
В более сложно стратифицированных европейских обществах моделями для построения общественных, правовых и политических отношений служили культовые и военные социальные иерархии. В Исландии все было по-другому. На месте баронов и графов исландцы, с их национальным фокусом на праве, создали собственную сеть механизмов поддержания общественного порядка. По мере того как они изменяли унаследованные от былых родин традиции, возникали новая система политического поведения и новый свод законов. Эта новая система была призвана компенсировать отсутствие институтов исполнительной власти, которые обеспечивали существование системы территориального предводительства в континентальной Скандинавии. В настоящей главе мы обсудим общественные отношения, на которых основывалась работа исландской системы консенсусного управления страной. Первый тип отношений – связь между годи и его тинговыми – определялся в законах. Второй тип – за неимением лучшего обозначим его термином «представительство» – в законах не определялся. Он возникал в рамках соглашений между частными лицами, при которых один человек – вовсе не обязательно годи – обещал другому поддержку и выполнял обещание, действуя за него или публично выступая от его имени в ходе судов и в других общественных ситуациях. Тем самым такой человек – представитель – делался третьей стороной в тяжбе. Польза от представительства была тем больше, что наряду с ним существовала и система различных институтов и процедур досудебного замирения сторон, таких как политические союзы и третейские суды.
Природа годорда
В основе своей законная связь между годи и его тинговым возникала как результат публичного договора, причем географических ограничений на заключение такого договора не имелось. Важным свойством этого договора, на которое до самого последнего времени в науке практически не обращали внимания, являлась его, так сказать, «бессмысленность» – из соглашения как такового не следовало никакой автоматической пользы ни для годи, ни для тингового, плюс оно никоим образом не являлось перманентным. По крайней мере в первые века эпохи народовластия любая амбициозная личность могла стать годи – не было ничего похожего на формальную процедуру вступления в некий формальный социальный статус. Приобретение годорда не предполагало ни церемоний, ни клятв, ни религиозных обрядов. Годи был обязан отвечать лишь некоему минимальному набору требований, перечисленных в законах, а также подчиняться давлению общественного мнения.
Даже если человек вступал в полное или частичное владение годордом, это не давало ему никакой формальной власти над его тинговыми. Было бы наивно предполагать, что все социальные системы функционируют ровно так, как сказано в созданных соответствующим обществом законах, но в Исландии эпохи народовластия годи, согласно положениям «Серого гуся», не мог приказать своему тинговому поступить против воли. Как раз наоборот – власть годи основывалась на добровольном согласии тинговых поступать так, как годи хочется. Но в свою очередь и тинговые формально не могли рассчитывать со стороны годи ни на что, кроме исполнения ничтожного набора официальных действий, поименованных в законах, таких как созыв местных тингов и объявление цен на ввозимые в страну товары. Выполнение этой функции создавало общественную арену для улаживания споров и помогало предотвратить разногласия и ссоры среди жителей округи. Пренебрегать своими обязанностями годи фактически не могли – так как в большинстве случаев отвечали за это перед своими тинговыми и другими годи.
Представительство
Представительские соглашения существовали параллельно родственным отношениям и отношениям «годи – тинговый», а зачастую и вместо последних. Такие соглашения могли заключаться между любыми двумя лицами и связывали их обязательствами. Соглашения были добровольными, плюс не имело значения, где живут клиент и его представитель – в одной округе, в разных округах одной четверти или даже в разных четвертях. Если связь «годи – тинговый» определялась законом, то связь «представитель – клиент» была внеюридической, неформальной и возникала как средство решения конкретной задачи, фактически представляя собой одну из форм вмешательства в тяжбу третьих лиц. В ранней Исландии этот вид общественных отношений приобрел особое значение и вышел на первый план, поскольку и годи, и бондам часто требовался куда больший объем помощи, чем могли предоставить определенные в законах институты.
Поскольку реальное управление страной осуществлялось путем отдельных действий частных лиц, представители имели массу возможностей принимать в нем участие, и отнюдь не только на тингах. Когда этими возможностями пользовался умелый годи, его влияние возрастало до таких масштабов, что он становился своего рода серым кардиналом, – впрочем, лишь на некоторое время. Да, таких людей охотно и часто выбирали в третейские судьи, но отдельного социального класса они не составляли, а были просто известными частными лицами, внушавшими доверие широкому кругу людей. Саги полны примеров весьма влиятельных представителей, де-факто осуществлявших власть в стране: это и годи, такие Йон сын Лофта, Гудмунд Могучий, Снорри Годи и Гудмунд Достойный, и обычные бонды, такие как Ньяль сын Торгейра и Хельги сын Дроплауг.
Иногда представители, даже в своей временной роли носителей власти, принимались за дело из великодушия и благородства (дисл. drengskapr), не требуя вознаграждения за то, что помогают другим решить сложную проблему. Такие жесты, как правило, мотивировались желанием увеличить собственный социальный престиж либо упрочить родственные связи, политические союзы или же связь «годи – тинговый». В других случаях представитель требовал за свои услуги платы, подчас весьма внушительной, например, передачи в свои руки земельных участков или прав наследования. Такая плата, служившая третьему лицу мотивацией для вступления в дело, обозначалась в сагах древнеисландским словом sœ́ mð, буквально означающим «достоинство», – иными словами, это компенсация, достойная высокого социального статуса вмешивающегося. Пример ситуации, когда возникает разговор о цене третейских услуг, дает «Сага о Халльфреде Неуживчивом скальде» (дисл. Halldreðar saga [178]178
На русский не переводилась. Прозвище персонажа – Vandræðaskáld– иногда передавалось как «Трудный скальд». Можно подумать, что речь идет о необыкновенной сложности его скальдических стихов, но на самом деле дисл. vandræðiимеет значение не «трудность, сложность», а «переплет, неприятная ситуация». Халльфред, таким образом, известен как тем, что он скальд, так и тем, что постоянно, в силу особенностей характера, вляпывается в различные неприятные истории. (Прим. перев.)
[Закрыть]). Представителем в данном случае был выбран родственник ответчика, годи, а дело заключалось в том, что Халльфред переспал с женой человека по имени Грис, а на следующий день убил его родича (точная степень родства в саге не сообщается) по имени Эйнар. Обманутый и оскорбленный муж начинает тяжбу против Халльфреда и вызывает его на местный тинг Медвежачьего озера. Брат Халльфреда Гальти спрашивает будущего ответчика (гл. 10 саги):
– Что ты собираешься предпринять в связи с этим делом?
Тот отвечает:
– Я намерен довериться Торкелю [179]179
Торкель Сучила (Разгребала) сын Торгрима ( Þorkell krafla Þorgrímsson), годи из долины Медвежачьего озера и владелец хутора Капище, был женат на Вигдис, тетке Халльфреда по матери. Сучилой (Разгребалой) был назван за то, что, будучи младенцем вынесен из дому и закопан в сугроб умирать, сучил ножками и разгреб сугроб, и так его нашел сердобольный домочадец его отца. (Прим. перев.)
[Закрыть], моему родичу [дяде].Весной они поехали на юг, втридцатером, и гостили в Капище. Халльфред спросил Торкеля, может ли он на него положиться, Торкель сказал, что поможет его делу, если Халльфред оценит его помощь по достоинству [букв, «если ему будет предложено кой-какое достоинство»; как именно Халльфред заплатил дяде, в саге не сказано].
Поиск представителя – ключевой шаг к организации поддержки на тинге. Первым делом люди, как правило, обращались к родичам – так поступает Халльфред, – поскольку узы родства и свойства сами по себе образовывали базовую сеть, через которую можно было искать потенциальных сторонников и заступников. Но один лишь факт родства или свойства давал только возможность попросить о помощи – никакой гарантии, что именно этот человек и окажет помощь, не имелось. В ситуации распри родственные связи зачастую оказывались не слишком надежными, но в остальном на протяжении всей эпохи народовластия именно они определяли, кто что наследует и кому надлежит осуществлять месть. При этом связи как по отцовской, так и по материнской линии были одинаково важны. Как и связь «годи – тинговый», родственные и свойственные связи зачастую упрочивались внеправовыми договорами – после того как сторона в тяжбе добивалась признания своего права по закону, ей всегда требовалась помощь в реализации этого права. В Исландии эпохи народовластия не было ни полиции, ни института судебных приставов – к кому же тогда обращаться за помощью в исполнении судебного решения, как не к представителям? Представители и исполняли эту роль, помогая сторонам защищаться и нападать. Такого рода соглашения, особенно когда одной из сторон являлся «большой человек», местный годи или годи из другой четверти [180]180
Так, в «Саге о Хравнкеле годи Фрейра» Сам, ведущий тяжбу против Хравнкеля (оба – из восточной четверти), заручается поддержкой прежде ему совершенно незнакомых влиятельных лиц из западной четверти и выигрывает дело. (Прим. перев.)
[Закрыть]или округи, обеспечивали вступившему в соглашение лицу поддержку в случае чего и давали ему чувство уверенности в личной безопасности. Какую сагу ни возьми, значительную часть повествования занимает описание того, как те или иные люди ищут себе представителей по своим делам. Мы постоянно видим, как частные лица пытаются защищать свои права с помощью представителей, а не полагаются лишь на помощь родственников или на связи «годи – тинговый».
Важно отметить, что соглашения с представителями – третьими лицами в обычном случае не отменяли и не подменяли, а именно дополняли связи между родичами и между тинговыми и годи. Представительские соглашения – неформальные, добровольные и зачастую тайные – вкупе с разными ролями, которые могли играть представители, позволяли любому частному лицу пользоваться системой права и манипулировать политическими силами на разных стадиях развития распри. Распри в Исландии лишь в редких случаях улаживались с первой попытки – обычно, чтобы успешно замирить тяжущиеся стороны, таких попыток требовалось много. Подобные мировые соглашения – будь то финальные, завершающие распрю, или же временные – как правило, заключались с помощью представителей в рамках процедуры третейского суда. [181]181
О третейских судьях см. [ Heusler1911: особенно сс. 40–41, 73–95], также [ Heusler1912: 43–58; Lúðvík Ingvarsson1970: 319–380; Miller1984; Byock1982:102–106, 260–265].
[Закрыть]
Третейские суды и распря как элемент системы права
В древнеисландских сагах и законах эпохи народовластия мы находим целый ряд слов, обозначающих разного рода третейских судей, посредников и арбитров. Сам по себе институт досудебного замирения, он же третейский суд, обозначался словом jafnaðardómr, то есть буквально «суд равных». На таком суде «судей» могло быть сколько угодно – по договору между сторонами. Чаще используется термин gǫrð(также gerð), буквально «делание», имеющий прямое значение «досудебное замирение». Если замирение сторон происходило, то такая ситуация обозначалась sættили sátt, буквально «довольство» (используются обе формы, во мн. ч. используется форма sættir), в связи с чем третейские судьи и люди, пытающиеся замирить тяжущиеся стороны, называются sáttarmennили gǫrðarmenn. Третейскими судьями выбирали, как правило, влиятельных представителей, способных привлечь на свою сторону большое число людей – через родственные или политические связи – и тем самым с большой вероятностью достичь компромисса. Так происходит, например, в «Саге о Халльфреде» – Торкель, взяв на себя дело Халльфреда, пытается первым делом решить тяжбу миром до суда:
Вот собираются люди на тинг, и на тинге Халльфред с Гальти идут в землянку к Торкелю и спрашивают, как им быть. Торкель говорит:
– Я предложу вам с Грисом решить дело миром [ gǫrð], если обе стороны этого захотят, а там подумаем, какие будут условия [ sættir].
Если обе стороны полагали, что мирное соглашение достижимо, они изо всех сил принимались помогать третейскому судье. Один из самых знаменитых случаев – эпизод в «Саге о людях с Песчаного берега» (гл. 9 и 10), когда Торд Ревун замиряет две местные группы, людей с Торова мыса ( Þórsnesingar) и потомков Кьяллака ( Kjalleklingar). Годи и бонды помогали арбитру достичь такого компромисса, при котором, с одной стороны, учитывался бы сложившийся в ходе распри статус-кво, а с другой – не претерпело бы слишком разительных изменений распределение власти в округе. Здесь тоже целью был консенсус, поскольку компромиссное решение затрагивало интересы большого числа людей. Решения третейских судей имели вес, поскольку базировались на всеобщем стандарте компенсации за убийства – вире – и за другие причиненные сторонам неприятности, как то: увечья, оскорбления, потеря имущества и т. п. Как и институт представительства, задачей которого было упрочить общественное благо и добиться всеобщего согласия, институт третейских судей обеспечивал достижение ряда важных для общества целей.
Институты представительства и третейских судей охлаждали боевой задор тяжущихся сторон – поскольку сам ход распри изымался из рук непосредственных ее участников, движимых эмоциями и корыстными интересами, и передавался в ведение третьих лиц, которые и принимали решение. Так происходит, например, в «Саге о Халльфреде». На тинге на брата Халльфреда нападает брат человека, чью жену Халльфред соблазнил, и убивает его. Узнав, что убийце позволили уйти, Халльфред начинает сомневаться в добрых намерениях Торкеля и вызывает рогоносца Гриса на поединок (дисл. hólmganga). Но здравый смысл торжествует, и в конечном итоге Халльфред отменяет свой вызов, а Грис соглашается на то, чтобы Торкель продолжил попытки их примирить. Торкель предлагает такое решение: убийство Эйнара, родича Гриса, и Гальти, брата Халльфреда, приравниваются друг к другу, но поскольку, строго говоря, они не равны – Халльфред потерял брата, а Грис куда менее близкого родственника, – разницу компенсирует любовное приключение Халльфреда с Кольфинной, женой Гриса. Так гибель Гальти засчитывается за соблазнение жены и за смерть Эйнара. Но Халльфред еще сочинил о рогоносце оскорбительные стишки и за них должен выплатить Грису штраф. Халльфред не очень-то хочет платить, и тогда Торкель бранит его за несговорчивость; выслушав отповедь третейского судьи, Халльфред дарит оскорбленному мужу дорогое обручье.
Институты представительства и третейских судей оказались, как мы можем судить по сагам, настолько эффективны, что прибегать к ним в ходе распри стало стандартной практикой, – с их помощью предотвращалось физическое насилие, а конфликты направлялись в русло закона и права и разрешались замирением сторон до суда или в суде. Это положение вещей, определявшее вид политической системы и характер связей между предводителями и простыми людьми, имело место благодаря особому статусу свободных землевладельцев в Исландии. Как часть общества, подверженная наибольшему риску в случае кровопролития, бонды могли требовать от своих главарей-годи вести себя сдержанно, даже в ходе распри. Тинговые не приносили своим годи клятв вечной верности – они были простыми землевладельцами, чьим интересам куда больше соответствовал мир, нежели война. Представительство и институты, с ним связанные, гарантировали, что в большинстве случаев тяжелые споры будут решены путем компромисса, а не победой на поле боя.
Войн на острове не было, но это вовсе не значит, что ими не угрожали, – просто исландцы превратили войну в этакий боевой ритуал. Нередко стороны в распре, готовой к разрешению мирным путем, собирали под свои «знамена» большие группы вооруженных бондов. Иногда такие группы демонстрировали друг другу свою решимость на тингах и других собраниях по многу дней подряд, например в ситуации, когда выигравшая дело сторона приступала к исполнению наказания на хуторе у ответчика (созывая так называемый «суд об изъятии имущества», дисл. féránsdómr). Стороны частенько переходили и к активным действиям, и какое-то количество людей гибло, но сколько-нибудь длительные вооруженные конфликты были исключены. В целом стороны всегда вели себя весьма сдержанно, и не случайно. Если лидер намеревался сохранить свой статус и сторонников, у него, по сути дела, не было иного выхода – рассчитывать на долгосрочную военную поддержку бондов не приходилось, особенно в случае опасных предприятий. Бонды не были обучены подчиняться и исполнять приказы, понятия не имели, что такое воинская дисциплина, и не привыкли надолго покидать свои владения. Предводителям же были не по карману расходы, связанные с содержанием армии: кормить своих сторонников, платить им, предоставлять кров и оружие они могли лишь в течение короткого времени.
Когда большое количество людей бралось за оружие, это знаменовало вовсе не начало военных действий, а то, что большая часть округи или четверти сделала свой выбор в пользу той или иной стороны и что люди готовы приступить к поиску приемлемого для всех решения. Когда и годи, и бонды публично объявляли о своих предпочтениях, формировалась база для достижения компромисса. В такой ситуации в соответствии с ожиданиями общества на сцене непременно появлялись третьи лица, так называемые «люди доброй воли» ( góðviljamenn) или же «доброжелатели» ( góðgjarnir menn), и разделяли тяжущиеся стороны, демонстрируя публике свою добронамеренность (дисл. góðgirnðи góðgirni). Так, например, происходит в «Саге о Торгильсе и Хавлиди» ( Þorgils saga ok Hafliða), когда Хавлиди сын Мара, выиграв в суде дело против Торгильса сына Одди в 1120 году и объявив последнего вне закона, приступает r сбору людей для организации «суда по изъятию имущества» (гл. 18 саги):
А как подошло время для суда по изъятию имущества [ féránsdómr], созывает Торгильс [сын Одди] к себе людей, и собирается у него почти что четыре сотни человек.
Хавлиди привел с собой с севера свою сотню человек, и все – известные люди, да к тому же отборные, особенно в том, что касается снаряжения и оружия.
А в третьем месте собрались вместе добронамеренные [ góðgjarnir] жители округи, с тем чтобы вмешаться. Предводителями у них были Торд сын Гильса и Хунбоги сын Торгильса с Перевала, а с ними и другие доброжелатели, Гудмунд сын Бранда и Эрнольв сын Торгильса с Жениного Откоса, и всего было две сотни человек, и стали ходить между Торгильсом и Хавлиди. [182]182
Это типичный пример «наполовину» успешной попытки примирения – доброжелателям удалось разделить армии Торгильса и Хавлиди и не дать им сразиться, но замирить стороны окончательно в тот раз не получилось. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Доброжелателями могли быть просто обеспокоенные соседи, но чаще, как и в только что приведенном случае, в этой роли выступали годи и амбициозные бонды, которые в случае успешного предотвращения кровопролития упрочивали свои репутации представителей. Торд сын Гильса, упомянутый выше, как раз был таким амбициозным доброжелателем – простой бонд, он в итоге сумел стать влиятельным годи и заложить основы долгосрочного семейного успеха – его сын был знаменитый и могущественный Стурла из Лощины, отец Снорри, автора «Младшей Эдды» и «Круга земного», по имени его потомков названа эпоха Стурлунгов. Разделив противоборствующие стороны, доброжелатели затем, как правило, обращались в третейских судей и пытались замирить тяжущихся, тем самым убеждая общество в своем умении разрешать сложные споры. В течение трех веков, от заселения до самых последних десятилетий эпохи народовластия, в Исландии не было ни войн, ни крупных сражений – иногда люди гибли, но число их не идет ни в какое сравнение с числом павших в бесчисленных вооруженных столкновениях, произошедших за тот же период в континентальной Европе. Исландцы хорошо умели избегать кровопролития и очень ценили политическую гибкость и юридическую хватку – в соответствии с национальным фокусом на праве, который нашел столь яркое отражение в древнеисландской литературе.