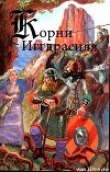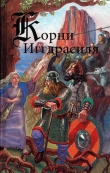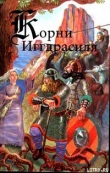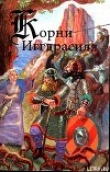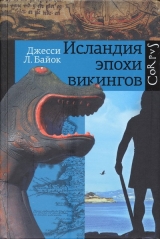
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Хреппы – общины
Независимость землевладельцев поддерживалась также институтом общины, так называемым хреппом (дисл. hreppr, мн. ч. hreppar). Каждая община состояла как минимум из двадцати землевладельцев, обязанных платить тинговый налог (дисл. þingfararkaupsbœ́ ndar). Такие землевладельцы были относительно близкими соседями – община имела четкие границы. Община была независима как от годи, так и, позднее, от приходских священников, не совпадая с границами прихода. [206]206
См. [ Magnús Már Láruson, KLNM7, Hreppr]; [ Jón Jóhannesson1974:83–89].
[Закрыть]Также известно, что общины были самоуправляемыми, впрочем, как именно осуществлялось самоуправление, источники не сообщают. Во главе каждой общины стоял комитет из пяти человек. Ни в каких других странах аналогичные хреппам институты неизвестны, скорее всего, это уникальная исландская особенность. На какой стадии развития исландского общества и при каких обстоятельствах были созданы общины, неясно, однако похоже, что уже к началу X века весь остров был поделен на общины, – впрочем, первые упоминания слова hrepprпоявляются лишь много позднее. Общины обеспечивали землевладельцам локальную безопасность и – в известной мере – свободу выбора политических союзов. В 1703 году таких общин в Исландии было 162. [207]207
См. [ Jón Jóhannesson1974].
[Закрыть]Учитывая территориальную природу общины и глубокий консерватизм, свойственный исландской хуторской жизни, разумно предполагать, что число общин в эпоху народовластия было примерно таким же. Хотя, повторим, никаких документальных свидетельств на этот счет у нас нет.
Собрания общины представляли собой локальную арену для разрешения мелких споров. Члены общины также координировали самые разные мероприятия, как то: управление летними выпасными лугами, наем сезонных рабочих и т. п. – и, что особенно важно, общими усилиями страховали друг друга на случай пожаров и потери скота. Вероятно, община же занималась сбором десятины и распределением по региону той ее части, что возвращалась церковью, организовывала кров и пропитание для местных сирот, а также помогала тем нищим, которые считались жителями округи. Люди, которые не могли сами себя обеспечить, распределялись общиной по хуторам ее членов, и те давали им работу, кров и пропитание. Новые люди не могли переехать в ту или иную округу без предварительной рекомендации и процедуры формального вступления в общину – эти ограничения, судя по всему, имели целью предотвратить бесконтрольный рост расходов на содержание нищих. Общины, как мы уже сказали выше, продолжали функционировать многие века после окончания эпохи народовластия, обеспечивая преемственность хуторской жизни и нерушимость социального порядка.
Насколько можно судить, общины появились примерно в одно время с местными тингами, в начале X века. Два этих института формировали сети социальной организации [208]208
См. [ Solvason1993:105].
[Закрыть], в значительной мере пересекающиеся. Впрочем, весенний тинг ( várþing), в отличие от хреппа, не был территориальным. Любой землевладелец мог перейти от одного годи к другому – и тем самым сменить весенний тинг, на котором ему полагается присутствовать; напротив, в ряды общины землевладелец вступал единожды и менять ее не мог. Община, таким образом, была в основе своей институтом неполитическим, призванным гарантировать прежде всего выживание и экономическую стабильность. Ее существование, однако, освобождало землевладельцев от необходимости опираться в этом плане на социальную элиту, которая выполняла аналогичные исландской общине функции в других государствах. Возможности и задачи общины были весьма ограниченны, но само ее наличие и эффективность заведомо лишали конкурентоспособности потенциальные аналогичные структуры, которые могла бы создать исполнительная власть и которые бы действовали уже от лица государства. Тем самым община являлась, кроме прочего, предохранительным механизмом, институтом социальной аутоконсервации.
Для сравнения: ситуация на Оркнейских островах
Отсутствие у годи рычагов давления на своих сторонников и конкуренция с другими годи за бондов делали затруднительным, если не вовсе невозможным ввод сколько-нибудь серьезных налогов. Но это в Исландии – а в других скандинавских странах лидеры не были столь стеснены. Например, на Оркнейских островах местные ярлы облагали население тяжелыми податями и ввели для землевладельцев фактически воинскую повинность. Как и Исландия, Оркнейские острова были заселены норвежцами в течение эпохи викингов, но разительно отличались близостью к Норвегии и Британским островам – то есть угроза внешней агрессии была там куда более реальной.
«Сага об оркнейцах», составленная в XIII веке в Исландии, представляет острова с самого заселения как страну ярлов, централизованной власти и жесткой военной организации. Так, мы находим в саге рассказ об Эйнаре сыне Сигурда, которому в 1014 году удалось взять под контроль две трети островов после гибели отца под Дублином – тот сражался на стороне своих союзников-викингов в битве при Клонтарфе: [209]209
В дисл. текстах известна как Брианова битва, см. «Сагу о Ньяле», гл. 154 и далее. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Тогда Эйнар подчинил себе две трети островов, стал человеком могущественным и при нем было много людей, летом он все чаще воевал и требовал со всей страны корабли и воинов к себе в войско, а из походов возвращался когда с обильной добычей, а когда со скудной. Бондам вскоре стали поперек горла эти поборы да служба, но ярл со всей суровостью изымал все и никому не спускал противных слов. Права других ярл почитал за ничто, и по этой части с ним мало кто мог сравниться. И так в его стране начался тяжелый голод, а все от поборов да податей, какими он обложил бондов. [210]210
«Сага об оркнейцах», гл. 13. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Не похоже, чтобы оркнейские ярлы тратили много времени на представительство интересов землевладельцев в судах, как это было в Исландии, где годи искали всякой удобной возможности «быть полезными» бондам. Поскольку годи не могли требовать подчинения, они были принуждены конкурировать друг с другом за поддержку и за клиентов. Власть годи держалась на родовых связях и союзах с влиятельными членами общества и просто с любыми землевладельцами, обязанными платить тинговый налог. С другой стороны, имущество всех бондов, вместе взятое, заведомо и многократно превосходило имущество самого богатого годи. Без этих земель и имущества, им не принадлежащих, годи вообще не могли отправлять властные полномочия, и на всем протяжении эпохи народовластия перед ними стоял трудный вопрос: как получить доступ к этим ресурсам, не настраивая против себя их независимых хозяев. Решать этот вопрос нацеленному на власть годи было не так-то просто, ибо система сдержек и противовесов, которую мы в общих чертах описали в предыдущих главах и подробно разберем на примерах в последующих, довольно эффективно защищала свободных землевладельцев от чрезмерно агрессивных действий элиты.
Вольноотпущенники
Исландская правовая система, уважая права свободных людей, распространяла их и на вольноотпущенников (рабов, которым была дарована свобода) и их наследников. Рабов – в основном, судя по всему, кельтского происхождения – привезли с собой на остров первопоселенцы, но они очень быстро интегрировались в местное общество. [211]211
См. [ Foote1977b].
[Закрыть]Ни число, ни даже процентная доля рабов в Исландии эпохи заселения неизвестны, и, вероятно, рабство было, так сказать, внутрихуторским феноменом – к примеру, женщины-рабыни служили в основном кормилицами, воспитательницами и наложницами. Большинство рабов получили свободу в ходе X века, хотя отдельные упоминания о рабах встречаются и в текстах, описывающих события начала XII века. [212]212
См. [ Karras1988].
[Закрыть]Некоторые вольноотпущенники обзаводились землей, большинство же, вероятно, становились лишь арендаторами. Последних теоретически было два типа: арендаторы-работники (дисл. búðsetumenn), которые обязаны были, кроме аренды, работать у арендодателя на хуторе, и полные арендаторы (дисл. leiglendingar), обязанные лишь арендной платой, – но различить эти два класса на практике не представляется возможным, так как в Исландии арендатор пользовался тем же объемом прав, что и свободный, например, имел право осуществлять кровную месть и принимать виру. [213]213
См. [ Hastrup1985: 107–118], однако следует иметь в виду, что автор (ошибочно) делает слишком сильный акцент на классовых различиях.
[Закрыть]Согласно «Серому гусю», лишь наемные работники и нищие рыбаки не имели права выбирать себе годи:
Человек, который начинает хозяйствовать на хуторе весной, должен выбрать себе годи, какого захочет. Хутор – это такое жилье, где имеется молочный скот. А если у человека нет молочного скота, то он все равно должен выбрать себе годи, если владеет своей землей. А если у человека нет ни земли, ни молочного скота, то тогда его годи – тот, кого выбрал себе хозяин хутора, на котором человек живет. Если же человек занят ловлей рыбы, то его годи – тот, кого выбрал себе хозяин земли, на которой человек живет. Человек должен объявить, какого годи он выбрал себе по своему желанию, на альтинге либо на весеннем тинге [ várþing], как ему хочется. [214]214
См. «Серый гусь», т. 1, гл. 81 [1852 Ia: 136]. В документе, известном под названием «Правила Сэмунда сына Орма» ( Skipan Sæmundar Ormsson, датируется 1245 годом), подтверждается, что тинговых годи набирали как среди землевладельцев, так и среди арендаторов: «каждый хуторянин, который…» [ Diplomatarium Islandicum 1, Pt. 2: 536]. Возможность для арендатора пользоваться полным объемом прав землевладельца могла, вероятно, варьироваться, в зависимости от того, отличался ли его арендодатель рассудительностью ( hóf) или нет.
[Закрыть]
Глава 8
Саги об исландцах «Сага о Стурлунгах»: средневековые тексты и движения за национальную независимость нового времени
Каждому обществу присуща своя социальная драма, а каждой драме – свой собственный стиль, своя, уникальная эстетика течения конфликта и его разрешения. Естественно ожидать также, что в словах и делах главных действующих лиц такой драмы отразятся социальные ценности, на которых зиждется ее стиль.
Виктор Уиттер Тёрнер, «Исландские саги с точки зрения антрополога»
От привычных нам «героических сказаний» саги отличаются тем необыкновенно пристальным вниманием, какое они уделяют человеческой мерзости, низости и подлости.
Уильям Патон Кер, «Темные века»
Саги об исландцах, повествующие о событиях десятого и начала одиннадцатого веков, а с ними тексты, составляющие «Сагу о Стурлунгах» и повествующие о событиях с 1120 по 1264 год, представляют собой наиболее важный и одновременно наиболее подробный источник для изучения социальной и экономической жизни средневековой Исландии. Эти две связанные между собой группы прозаических текстов на древнеисландском языке – настоящее сокровище для исследователя общественного сознания и правил общежития, действовавших в Исландии эпохи народовластия. [215]215
О том, как саги об исландцах и тексты «Саги о Стурлунгах» изображают классовую структуру исландского общества той эпохи, говорится в разделе «Большие бонды и саги об исландцах» главы 19 настоящей книги.
[Закрыть]
Саги об исландцах
Саги об исландцах – на современном исландском Íslendingasögur– иногда также называются родовыми сагами. [216]216
Не следует путать саги об исландцах (исл. Íslendingasögur, мн. ч.) как группу текстов с «Сагой об исландцах» (исл. Íslendinga saga, ед. ч,), главным текстом «Саги о Стурлунгах», принадлежащей к несколько другому жанру «саг о современности», см. ниже. (Прим. перев.)
[Закрыть]Этим текстам нет аналогов в литературе континентальной Европы той эпохи, ни в латинской, ни в нелатинской – в последнем случае исторические тексты, за редкими исключениями, сплошь стихотворные и носят куда более «эпический» характер, нежели саги. Некоторые из саг об исландцах рассказывают о заселении острова, но в большинстве своем они повествуют о событиях, происходивших с середины десятого по начало одиннадцатого века, так называемого «века саг». В лаконичной и непосредственной манере они говорят о жизни простых бондов и годи из самых разных уголков страны, о семейных и иного рода делах людей из самых разных слоев общества. В них ярко показано, какие возможности для предприимчивого индивидуума предоставлял островной мир Исландии эпохи народовластия и как такие личности в одних случаях добивались успеха, а в других оказывались у разбитого корыта.
Тексты «Саги о Стурлунгах» заняты в основном судьбами тех, кто участвовал в борьбе за власть в среде появившейся в те десятилетия сверхэлиты, и уделяют мало внимания подробностям личной жизни простых бондов и людей средней величины, влияние которых оставалось на локальном уровне. Напротив, в фокусе саг об исландцах находятся именно последние. Какую сагу об исландцах ни возьми, в ней будет говориться о делах совершенно частных и мелких; читатель получает шанс заглянуть на социальную «кухню» и увидеть, чем в действительности были заняты семьи на хуторах, какие насущные задачи людям приходилось решать, как завязывалась или не завязывалась семейная жизнь. Кризисным ситуациям родовые саги, конечно, уделяют особое внимание, тем самым несколько преувеличивая их важность, – кроме того, речь, как правило, идет не о проблемах рода или группы родичей (как, казалось бы, следует из названия жанра), а о проблемах того или иного мелкого региона в Исландии. Мы видим, как одни и те же или похожие поступки совершаются разными лицами в разных уголках острова. Подробности и фон событий меняются, но сага всякий раз рассматривает, словно под увеличительным стеклом, типичные ситуации, в которых оказываются люди, и их попытки из этих ситуаций выпутаться – когда успешные, а когда, напротив, провальные. Особый упор делается на то, как следует исландцу реагировать на притязания чрезмерно амбициозных или в ином смысле опасных личностей, какие действия, в том числе правовые, предпринимались теми или иными известными исландцами в тех или иных ситуациях, как и при каких обстоятельствах в ход событий вмешивались третьи лица, какие альтернативы имелись для разрешения споров и конфликтов, на каких условиях мирились стороны, как завязывались связи взаимопомощи, как они работали и как их полагалось поддерживать.
В устной саге, как и вообще в устной литературе, абсолютной точности в передаче всего массива конкретных фактов не требовалось. Рассказчику саги также не приходилось заучивать ее текст наизусть – достаточно было помнить общую канву истории и иметь общее представление о ее правдивости, то есть быть уверенным, что нечто подобное в самом деле произошло в прошлом. Средневековая аудитория предъявляла к рассказчику саги иные требования, нежели современная. Главное – рассказ должен выглядеть правдоподобно и убедительно, то есть события должны излагаться так, что слушатель воспримет их как вероятно на деле происходившие, а ход их и взаимосвязь должны соответствовать его представлению об устройстве исландского социума. В этом случае услышанная история окажется полезной в плане освоения логики, на которой основано общество средневековой Исландии и согласно которой протекает распря. Саги в значительной мере исполняли роль воспитательной литературы, обучая исландцев правилам жизни в обществе.
В более ранней книге, озаглавленной «Распря в исландской саге», я выдвигал гипотезу, что распря служила элементом сплочения и стабилизации исландского общества эпохи народовластия. [217]217
См. [ Byock1982; 1984–1985; Hallberg1985: 71–72; Vésteinn Ólason1984].
[Закрыть]Правила ведения распри, сформировавшиеся в Исландии, ограничивали число ситуаций, когда общественное спокойствие в самом деле нарушалось; на всем протяжении эпохи народовластия конфликты протекали в определенных рамках, а физическое насилие не выходило за приемлемые для общества пределы. Принципы, согласно которым развивалась распря, одновременно обеспечивали и структуру повествования для саг. [218]218
Здесь и далее в этой главе автор следует идеям М. И. Стеблин-Каменского, высказанным на страницах «Мира саги» в гл. «Что же – форма, и что – содержание?»: «Действительность интересовала людей того времени в одном определенном аспекте: интересовали события. А событием в исландском обществе было прежде всего нарушение мира, распря. Поэтому распри – основное содержание саг об исландцах, и распри определяют их внутреннюю логику, их композицию. То, что отдельные саги нередко довольно отчетливо распадаются на ввод участников распри, развитие распри, ее кульминацию, осуществление мести, примирение и последствия распри, – не композиционный прием, конечно, а естественное отражение того, как протекала всякая распря в действительности. Композиция саги оказывается стройной только постольку, поскольку содержание саги исчерпывается одной распрей с небольшим количеством участников, т. е. поскольку сама распря уже сюжетна, как, например, распря, образующая содержание „Саги о Хравнкеле“. Но содержанием саги может быть распря, в которой много участников, или несколько последовательных распрь, как, например, в „Саге о людях с Песчаного берега“. В таком случае композиция саги оказывается гораздо сложнее: в ней может быть несколько вводов участников распри, несколько кульминаций и т. д.». Ср. также эпиграф из той же главы «Мира саги» к гл. 15 настоящей книги. (Прим. перев.)
[Закрыть]Рассматривая вопрос о том, что такое «устная сага» в дописьменную эпоху, я пришел к выводу; весьма вероятно, что устная сага существовала как высокоорганизованное явление дописьменной исландской литературы, а ее композиционные приемы и устройство легли впоследствии в основу саги письменной. Техника устной саги была весьма гибкой и строилась на использовании «элементарных эпизодов», которые могли встречаться в рассказе в произвольном порядке. [219]219
Напрашивается, естественно, аналогия с формулами эпической поэзии, открытыми Милмэном Пэрри и Альбертом Бейтсом Лордом. Ее появление здесь и далее неслучайно: Джесси Байок – ученик Альберта Лорда. Так называемая формульная теория (англ. oral formulaic theory), или теория Пэрри – Лорда, изложенная Лордом в книге «Сказитель» (1960, 2001, перевод на русский 1994) и построенная на материале эпической поэзии, описывает функционирование и передачу устного текста прежде всего на уровне синтаксиса и композиции; ее естественным дополнением является теория неосознанного авторства, разработанная М. И. Стеблин-Каменским на материале исландских саг и описывающая явления на уровне композиции и авторского самосознания (изложена в его «Мире саги» и «Становлении литературы»). Джесси Байок – редкий западный исследователь скандинавской литературы, на деле объединяющий оба подхода: в силу ряда причин ни идеи Пэрри и Лорда, ни идеи Стеблин-Каменского большой популярности среди западных скандинавистов не имеют, используется – изредка, например в работах Дж. Харриса об исландских прядях [1972, 2008], критику и одновременно развитие идей которого см. у Е. А. Гуревич в книге «Древнескандинавская новелла. Поэтика прядей об исландцах» [2004] – лишь подход В. Я. Проппа [1928] к волшебной сказке, жанру куда более простому в сравнении с сагой. Можно сказать, в работах Джесси Байока воплощается то, что следует называть теорией Пэрри – Лорда – Стеблин-Каменского. (Прим. перев.)
[Закрыть]Я выделяю три категории таких эпизодов: конфликт, вмешательство третьих лиц либо переговоры, разрешение конфликта. Рассказчик – как устно, так и письменно – составлял из этих «кирпичиков» повествование, опираясь на свое знание правил поведения в исландском обществе той эпохи (какие действия социально приемлемы, какие нет); «кирпичики» могли располагаться в разном порядке на разном фоне и нагружаться разным объемом дополнительной информации. [220]220
В «Распре в исландской саге» [ Byock1982] я обозначаю эти кирпичики термином «распрема» – по аналогии с лингвистическими терминами «граммема», «фонема» и т. д. Наиболее близкая аналогия в языке будет с морфемами – неделимыми элементами, из которых составляются слова; похожим образом из «распрем» составлены саги. См. также [ Byock1985b].
[Закрыть]Пользуясь этими «кирпичиками», рассказчик эксплицирует социальную норму – превращает ее в нарратив. В антропологическом же смысле «кирпичики» соответствуют стадиям развития исландской распри. Эти дискретные элементы, из которых собран сюжет, – главный признак сагового стиля. Они служили удобным инструментом для рассказчика – как «грамотного», в смысле знакомого с письмом и письменной культурой, так и «неграмотного», в смысле незнакомого с этой технологией [221]221
Вариант формульной теории, изложенный Лордом в «Сказителе», объявлял барьер между «устными» (=формульными) текстами и письменными непреодолимым. Позднейшие исследования показали, что это, конечно, не так и владение искусством письма (=«грамотность») вовсе не исключает владение устной техникой (как полагал Лорд в «Сказителе» относительно эпической поэзии и другие исследователи относительно длинных прозаических текстов). Дело, разумеется, лишь в самом принципе составления текстов, когда каждое исполнение порождает объективно новый текст, который, однако, самим исполнителем воспринимается как «тот же самый» (Пэрри и Лорд установили этот факт непосредственно в ходе бесед со своими информантами, югославскими сказителями, но оставили его в известном смысле без интерпретации; Стеблин-Каменский установил этот же факт косвенно на материале саг и интерпретировал его как свидетельство неосознанности авторства). В средневековой Исландии сложилась ситуация, когда культурный барьер между устным и письменным (т. е. ситуация, когда – по ряду причин – невозможно бытование в письменной форме текстов, бытовавших изначально лишь в устной форме) был преодолен, и переписывание текста саги (считающееся зачастую просто копированием оригинала, когда различия между версиями сводятся к ошибкам, интерполяциям и заимствованиям из других письменных и всегда только письменных источников) стало неотличимо от пересочинения точно так же, как ранее не отличались друг от друга два устных исполнения «одной и той же» саги. Многие западные исследователи, однако, находясь под влиянием традиционной текстологии (и успехов скандинавской палеографической школы), относившейся к «устным» текстам свысока, по сию пору не воспринимают этот комплекс идей. См. также ниже. (Прим. перев.)
[Закрыть], – позволяя ему составить целостное и сложное повествование зачастую весьма значительного объема. [222]222
Фундаментальное открытие Пэрри и Лорда и заключается в демонстрации механизма (системы формул), позволяющего бытовать в устной форме сколь угодно длинным поэтическим текстам, – они не заучиваются наизусть, а порождаются заново в момент исполнения. Аналогичные механизмы, вне всякого сомнения, действовали и для прозаических текстов вроде саги, и основой системы формул служили «распремы» Джесси Байока. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Рассказчик саги являлся носителем традиции и жителем Исландии; хорошо зная географию [223]223
Степень знакомства с географией различных регионов Исландии у разных рассказчиков, вероятно, была различной. Рассказчик, выросший в одной области, рассказывая сагу о событиях в другой, мог совершать те или иные ошибки и допускать неточности. Анализ такого рода неточностей как индикатор устного происхождения саги имеется в блестящей работе Гисли Сигурдссона «Средневековая исландская сага и устная традиция: вопросы методологии» (Gísli Sigurðsson2002, перевод на английский Gísli Sigurðsson2004), воплощающей, как и настоящая книга, идеи М. И. Стеблин-Каменского. См. также ниже об одном эпизоде «Саги о людях с Оружейникова фьорда». (Прим. перев.)
[Закрыть]и историю второй и воспринимая из первой набор типажей (проекцию исторических деятелей) и событий, он мог в рассказе расставлять акценты так, как ему хотелось. Он был волен включать в повествование те или иные известные события, факты или подробности по своему усмотрению, мог по-разному освещать те или иные действия персонажей, а порой и выдумывать новые. Набор решений, принятых рассказчиком при составлении (оглашении вслух) той или иной версии рассказа, обеспечивал, с одной стороны, разнообразие мелких событий и их кластеров, последовательности которых составляли большое повествование, и, с другой стороны, отличия одной саги от другой. Аудитория, вероятно, заранее знала, чем кончилась та или иная распря, но всякий раз, когда выпадал случай о ней послушать, рассказ, скорее всего, звучал по-новому. Такая техника пересоздания произведения при исполнении была экономичной и эффективной (под исполнением мы понимаем как устный пересказ, так и (пере)запись текста на пергаменте: в обеих ситуациях применяется одна и та же техника саги). Свобода от необходимости опираться на раз навсегда зафиксированный текст – заученный наизусть или записанный – позволяла каждому рассказчику включать в свою историю новые элементы по собственному желанию; так в саги проникали, например, христианские мотивы, так менялись в разных вариантах текстов моральные оценки одних и тех же действий одних и тех же лиц. Техника саги обеспечивала ее гибкость и тем самым – способность к эволюции.
До нас дошло около тридцати больших саг об исландцах. [224]224
См. полный список саг и прядей (мелких рассказов-фрагментов, дисл. pættir, ед. ч. þáttr) об исландцах в конце этой главы. Там же размещены карты, показывающие области Исландии, где происходили события той или иной саги или пряди.
[Закрыть]Тексты эти разного объема: иные, как «Сага о Хравнкеле годи Фрейра», занимают около двадцати страниц в современных изданиях, иные же, как «Сага о Ньяле» или «Сага о людях из долины Лососьей реки», – более трехсот. Сохранились саги во множестве разнообразных рукописей, пергаментных и бумажных, при этом ни в одной из них нельзя найти «изначальный» текст, написанный «авторской» рукой (что, впрочем, не избавляет исследователей от бесплодных гаданий на сей счет). Древнейшие пергаменты с сагами содержат лишь фрагменты и датируются (палеографически) в большинстве случаев серединой тринадцатого века, хотя некоторые можно отнести и к концу двенадцатого. Древнейшими считаются, в частности, фрагменты «Саги о людях с Песчаного берега», «Саги о битве на Пустоши», «Саги о людях из долины Лососьей реки» и «Саги об Эгиле». Ни эти фрагменты, ни позднейшие списки уже полных саг не дают ни малейшей информации о том, где и когда были записаны рукописи, списками с которых дошедшие до нас рукописи являются (или считаются); поэтому датировка саг как текстов – задача не из простых, и любые выводы ученых с неизбежностью носят гипотетический характер. Что касается саг об исландцах, их датировали самыми разными периодами, и все без исключения датировки основаны на том или ином представлении о происхождении исландской саги как жанра. Лучше всех об этом сказал Халльвард Магерёй: «Главный, если не единственный довод тех, кто датирует возникновение исландской саги как жанра тринадцатым веком, тот, что при любой иной датировке нет ну ни малейшей возможности выставить саги естественным продуктом континентальной литературной традиции средневековой Европы». [225]225
[ Magerøy1978:167].
[Закрыть]
Первые полные списки саг об исландцах появляются впервые на пергаментах, датированных XIV и XV веками. Так, «Книга с Подмаренничных полей» (исл. Möðruvallabók), пергаментная рукопись XIV века [226]226
Названа исследователями в XIX веке по записи, которую в 1628 году первый из известных владельцев, лагманн Магнус сын Бьёрна, сделал на одной из страниц – там упоминается хутор Подмаренничные поля. Сын Магнуса, Бьёрн, увез рукопись в Данию и передал ее Королевскому антиквару Томасу Бартолину, после его смерти она перешла к Арни Магнуссону, тот же завещал свою коллекцию манускриптов Копенгагенскому университету; оттуда она, много веков спустя, в 1974 году вернулась в Исландию. В Исландии есть два знаменитых хутора с таким названием. Читателям саг об исландцах более известны южные Подмаренничные поля, в долине реки Островного фьорда, к югу от современного города Акурейри, где жил годи Гудмунд Могучий сын Эйольва, упоминающийся во многих сагах (так, именно он посоветовал Греттиру сыну Асмунда спрятаться на Скале-Острове). Но иногда полагают, что Магнус сделал свою запись на не менее важном для истории Исландии хуторе с тем же названием, находящемся в долине Алтарной реки, также в округе Островного фьорда, но к северу от Акурейри. До Реформации там располагался августинианский монастырь со скрипторием, а после – церковная школа. Там жили исландцы, управлявшие страной от имени датского короля, а в 1861 году там родился Ханнес Горд Петрссон Хавстейн, первый исландец, занявший в датском правительстве пост министра по исландским делам (впоследствии этот пост эволюционировал в пост премьер-министра Исландии). Однако распространение грамотности в Исландии эпохи записи саг вовсе не ограничивалось клерикальными слоями (да и церковного сословия как такового не существовало, см. гл. 16 и 18 настоящей книги), поэтому выбор любого из двух хуторов в конечном счете гадателен – владельцы обоих могли себе позволить пергамент, играли важную роль в регионе и имели достаточно амбиций, чтобы записывать историю Исландии. См. подробнее о рукописи и обоих хуторах в работе [ Sigurjón Páll Ísaksson1994: 127–136]. (Прим. перев.)
[Закрыть], служит одним из основных источников для тех одиннадцати саг, что в ней записаны. Многие другие саги сохранились прежде всего в бумажных рукописях XVI века и более поздних. В Средние века существовало больше саг об исландцах, чем дошло до нас: так, в «Книге о взятии земли» упоминается ряд текстов, которые не сохранились. За исключением «Саги о сыновьях Дроплауг», где в самом конце сказано, что некто Торвальд, потомок одного из главных героев, «рассказал эту сагу», ни в одной из саг нет никаких упоминаний об их рассказчиках.
«Сага о Стурлунгах»
«Сага о Стурлунгах» – это не одна сага, а целый корпус саговых текстов, названный в честь влиятельного рода, вышедшего на политическую арену Исландии в конце эпохи народовластия [227]227
В исландском издании «Саги о Стурлунгах» 1946 года даны следующие тексты: в первом томе «Прядь о Гейрмунде Адская кожа» ( Geirmundar þáttr heljarskinns), «Сага о Торгильсе и Хавлиди» ( Þorgils saga ok Hafliða), «Прядь о людях из Ястребиной долины» ( Haukdæla þáttr), «Сага о Стурле» ( Sturlu saga), «Сага о священнике Гудмунде Добром сыне Ари» ( Prestssaga Guðmundar góða), «Сага о Гудмунде Достойном» ( Guðmundar saga dýra), «Сага о Хравне сыне Свейнбьёрна» ( Hrafns saga Sveinbjarnarsonar) и «Сага об исландцах» ( Íslendinga saga), во втором томе «Сага о Торде Кудахтало» ( Þórðar saga kakala), «Сага о людях со Свиной горы» ( Svínfellinga saga), «Сага о Торгильсе Заячья Губа» ( Þorgils saga skarða), «Прядь о Стурле» ( Sturlu þáttr) и «Сага об Ароне» ( Arons saga). (Прим. авт.) «Сага об исландцах» и «Сага об Ароне» переведены на русский, см. соотв. [Стурла Тордарсон 2007] и [Саги-4], «Сага о Гудмунде Достойном» впервые публикуется на русском языке в качестве приложения к настоящей книге. (Прим. перев.)
[Закрыть], – Стурлунгов, потомков Лощинного Стурлы сына Торда. Слова «Сага о Стурлунгах» впервые появляются на бумаге в рукописи XVII века, однако корпус, возможно, получил свое имя раньше. Саги, входящие в «Сагу о Стурлунгах», и вместе с ними так называемые «саги о епископах» иногда относят к отдельному жанру, «сагам о современности» (исл. samtíðarsögur), поскольку они были составлены и записаны в XIII веке – то есть примерно тогда же, когда происходили события, о которых в них рассказывается. [228]228
В отличие от саг об исландцах, которые в этой номенклатуре называются «сагами о прошлом», forntiðarsögur: термин отражает тот факт, что на пергамент они попадают, как и «саги о современности», в XIII веке (и позднее), но рассказывается в них о событиях IX–XI веков. (Прим. перев.)
[Закрыть]«Сага о Стурлунгах» донесла до нас необыкновенно богатые сведения о последних десятилетиях эпохи народовластия. Авторство текстов приписывается, на стилистических основаниях, нескольким людям, но ни о ком из них ровным счетом ничего не известно, кроме одного, Стурлы сына Торда (ум. 1284), активного политического деятеля, внука Лощинного Стурлы и племянника знаменитого Снорри, автора «Младшей Эдды» и «Круга земного».
Тексты, составляющие корпус «Саги о Стурлунгах», были впервые записаны как единая книга около 1300 года – в период, когда было создано несколько подобных саговых компиляций. Оформлялись такие компиляции в виде немыслимо дорогих для Исландии книг на пергаменте из телячьей кожи [229]229
Коровы были столь ценным (и дефицитным) ресурсом, что забивать телят на пергамент могли позволить себе лишь самые богатые исландцы, и даже для них это был верх роскоши. Так, на «Книгу с Плоского острова» ушло около двухсот телят – стоимость многих хуторов. Обычный исландский пергамент – среднего качества, из овечьей кожи. (Прим. перев.)
[Закрыть]и зачастую снабжались красочными иллюстрациями [230]230
Иллюминация – крайне нехарактерный для исландских рукописей в целом момент, указывающий на их утилитарную функцию. Попросту говоря, их очень много и часто читали, в отличие от «шикарных» рукописей, которые служили скорее элементом статуса и стояли на полках. Те немногие иллюстрации, что есть, находятся именно в таких «королевских» книгах (можно и без кавычек – многие из них были впоследствии подарены датским королям). (Прим. перев.)
[Закрыть]; в этих томах сохранились многие тексты, которые иначе, вероятно, не дошли бы до нас. В компиляцию объединялись саги сходного содержания – так, «Книга с Плоского острова» (ок. 1390), 225-страничный кодекс, содержит саги и короткие рассказы о норвежских конунгах, а «Книга с Подмаренничных полей» (ок. 1350), 200-страничный кодекс, – одиннадцать саг об исландцах. Названия рукописей – позднейшие, исследователи называли их по местам, где эти книги были обнаружены в шестнадцатом – семнадцатом веках. Например, «Книга с Плоского острова» названа по острову в Широком фьорде на северо-западе Исландии, где располагался крупный монастырь. Но порой средневековые компиляторы собирали в единую рукопись тексты, имевшие между собой мало общего. Такова «Книга Хаука», о которой говорилось выше, – она была составлена в первые десятилетия четырнадцатого века и позднее названа по имени составителя, лагманна Хаука сына Эрленда; среди содержащихся в ней текстов – одна из главных версий «Книги о взятии земли» (термин «Книга Хаука» поэтому также используется как название для этой версии).
С изначальной компиляции «Саги о Стурлунгах» было сделано несколько списков, а затем рукопись была утрачена. Два пергаментных списка, датирующихся второй половиной XIV века, сохранились целиком вплоть до конца XVII века, когда бумага в Исландии стала относительно дешевой и доступной, и начался бум переписывания саг с пергамента на бумагу. Доступность бумаги, однако, не предвещала ничего хорошего для самих пергаментных рукописей – как только их содержание переносилось на новый, более удобный носитель, бумажную книгу, они утрачивали ценность для местного населения. С ними обращались как хотели – из многих делали сита, а одну рукопись извели на лекала для кройки. [231]231
На лекала для кройки извели так называемую «Книгу с Дымного фьорда» (исл. Reykjafjarðarbók, А. М. 122b, fol.). Описание этой рукописи и фотографию пергаментного листа из нее, превращенного в лекало для пальто, см. в [ Jón Helgason1958].
[Закрыть]Такова была судьба многих средневековых рукописей – иные были повреждены, иные исчезли целиком. Все же появление бумаги знаменовало новую эпоху, и с семнадцатого века до первых десятилетий двадцатого традиция переписывания саг и законов и других старых документов (включая и ранние бумажные рукописи, и даже печатные книги) в Исландии процветала. Исландцы настолько полюбили это занятие, что той эпохой датируются многие сотни списков. Не один средневековый исландский текст избежал забвения благодаря этому. [232]232
Таких случаев в исландской филологии немало. Так, поэмы Эгиля сына Грима Лысого «Утрата сыновей» и «Выкуп головы» лишь упоминаются в древнейших списках саги, но не приводятся целиком, и полные версии этих стихов известны только из бумажной рукописи начала XVII века, так называемой «Книги Кетиля», а «Сага о людях с Оружейникова фьорда» и вовсе известна исключительно по бумажным спискам XVII века, от исходной же ее рукописи сохранился единственный (трудночитаемый) пергаментный лист. (Прим. перев.)
[Закрыть]
Как и саги об исландцах, саги из «Саги о Стурлунгах» повествуют прежде всего о конфликтах и распрях. Однако эти две группы текстов отличаются друг от друга социальной стратой, которой уделяется основное внимание. Саги об исландцах, более многочисленные, рассказывают о самых разнообразных передрягах, выпадавших на долю исландцев из всех слоев общества, особенно о разных мелких проблемах крошечных исландских хуторков, в то время как в «Саге о Стурлунгах» мы видим лишь ссоры между могущественными хёвдингами, – особенно это относится к «Саге о Торде Кудахтало», «Саге о Торгильсе Заячья Губа» и «Саге об исландцах». Повествуя о последних десятилетиях эпохи народовластия, эти тексты в основном затрагивают вопросы политического будущего страны.
Качество саг «Саги о Стурлунгах» как литературных произведений весьма различно. Некоторые из них, включая известные отрывки из самых длинных, представляют собой увлекательные повествования о судьбоносных событиях в жизни колоритных персонажей. Иные, напротив, представляют собой нагромождение не очень увязанных друг с другом мелких подробностей. Зачастую весь рассказ сводится к списку имен и топонимов, словно авторы считали сверхзадачей перенести на пергамент буквально каждую крупицу информации, попавшую к ним в руки по тому или иному поводу. Нельзя отрицать, что в «Саге о Стурлунгах» много, даже чересчур много фактического материала; казалось бы, это рай для историка, и в этом ее преимущество в сравнении с сагами об исландцах – но не все так просто. Читателю следует быть начеку – ибо чего нельзя сказать об авторах текстов «Саги о Стурлунгах», так это что они были беспристрастными наблюдателями. Напротив, их благосостояние порой напрямую зависело от успехов тех персонажей и родов, о которых они рассказывают; порой складывается впечатление, что автор пишет именно затем, чтобы очистить себя от «напраслины», – а если не себя, то друга, родича или предка. Несмотря на это, в целом читатель «Саги о Стурлунгах» не может сдержать восхищения – эти тексты выглядят такими же объективными, как и саги об исландцах. Нельзя забывать и о том, что первыми адресатами «Саги о Стурлунгах» были современники авторов, которые и сами неплохо знали упоминаемые в ней хутора и роды, сами были знакомы с людьми и событиями. Такая аудитория – а из нее происходили позднейшие переписчики – не преминула бы отметить грубые искажения и умолчания.
«Сага о Стурлунгах», насколько можно судить, была составлена на западе Исландии, на хуторе Перевал (дисл. Skarð [233]233
Буквально слово skarðозначает «зазубрина», отсюда переносное значение «перевал» как зазубрина в стене гор. Хуторов и перевалов с таким названием в Исландии немало; хутор составителя «Саги о Стурлунгах», основанный первопоселенцем Гейрмундом Адская кожа (прядь о нем служит зачином «Саги о Стурлунгах»), заселен и по сей день и располагается на северо-западном берегу крупного полуострова (безымянного), отделяющего Лощинный фьорд от северной части Широкого фьорда. (Прим. перев.)
[Закрыть]), где жило очень богатое семейство, знаменитое своим интересом к вопросам права и истории. Составителя, кто бы он ни был, особенно занимала история Исландии двух предыдущих веков, и он решил попробовать описать ее по возможности хронологически точно. С этой целью он обратился к самым разным саговым источникам, которые ему, однако, пришлось нарезать на эпизоды и расставить их в хронологическом порядке, нарушив тем самым повествовательную логику. Этим, впрочем, его вмешательство в текст источников, как правило, и ограничивалось – как это свойственно исландским книжным компиляторам той эпохи, он не старался перерабатывать старинные рассказы наново, а больше копировал. Редакторская его правка весьма скромная: кое-где он решил источники подсократить, кое-где – слить воедино изложения одних и тех же событий в разных текстах, кое-где ему пришлось самому написать те или иные переходные эпизоды, а также добавить кое-что тут и там. Современные исследователи потратили десятилетия, чтобы проделать обратный путь – пожертвовав хронологической последовательностью, восстановить целостность отдельных саг, которые послужили составителю «Саги о Стурлунгах» источниками. [234]234
«Сага о Стурлунгах», т. 2, стр. v-li.
[Закрыть]Поскольку эти саги современны описанным в них событиям, историки всегда считали «Сагу о Стурлунгах» надежным источником информации об эпохе – информации порой несколько субъективной, но все же вполне достоверной. Бытует такое мнение и по сей день – в последнее время появилось несколько новых работ по истории Исландии XII–XIII веков, основанных на этой компиляции. [235]235
См., например, [ Gunnar Karlsson1972; 1980b; Helgi Thorláksson1979a; 1979b].
[Закрыть]Литературоведы же, напротив, всегда считали, что в плане литературных достоинств тексты «Саги о Стурлунгах» в среднем значительно уступают сагам об исландцах.