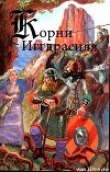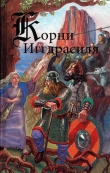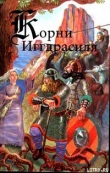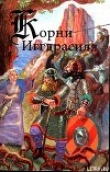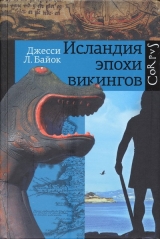
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
В источниках упоминается еще один тип собраний, так называемые тинги четвертей (дисл. fjórðungarþing) – инновация, введенная несколько позднее реформ шестидесятых годов X века. На этих собраниях разбирались исключительно дела соответствующих четвертей. Влияние четырех тингов четвертей было, видимо, незначительным по сравнению с ролью судов четвертей на альтинге, и мы мало что о них знаем. Считается, что тинги четвертей отменили вскоре после учреждения, но некоторые исследователи, например, Олав Лаурусон, приводят аргументы, согласно которым эти тинги работали дольше. [287]287
См. работу Nokkrar athugasemdir um fjórðungaþinginв книге [ Ólafur Láruson1958а: 100–118, особенно 117–118].
[Закрыть]Тинги четвертей не упоминаются в числе «установленных собраний» и в «Сером гусе» обсуждаются в единственном месте. [288]288
«Серый гусь», т. 2, гл. 328 [1879 II: 356].
[Закрыть]
Исландцы вскоре заметили, что суды четвертей на альтинге лучше подходят для решения по-настоящему серьезных споров, чем локальные весенние тинги. Дела обычно слушались в суде той четверти, где проживал ответчик. [289]289
Это положение можно считать древнеисландским эквивалентом презумпции невиновности – ср. выше ситуацию Торда Ревуна. (Прим. перев.)
[Закрыть]Сама идея этих ежегодных судов на альтинге воплощала стремление к непредвзятости, а система была организована так, чтобы направить все силы общества на устранение малейшего шанса на то, что среди судей окажутся заинтересованные люди. В источниках сказано, что судей должно быть тридцать шесть, но непонятно, суммарное ли это число или же в каждом суде четверти имелось по тридцать шесть судей. [290]290
[ Jakob Benediktsson1974а: 180; Jón Jóhannesson1974: 66].
[Закрыть]Обычно считается, что, поскольку в каждом суде на каждом весеннем тинге заседало по тридцать шесть судей (каждый годи, а их было трое, назначал по 12), то и в каждом суде четверти на альтинге заседало столько же.
Люди эти назывались судьями, но на деле они исполняли скорее функции современных присяжных – они имели право изучать факты дела, взвешивать показания свидетелей и улики, а также выносить вердикт. В подборе членов этих судейских коллегий как ни в чем другом проявлялся общенациональный характер альтинга. Владельцы «старинных и полноправных годордов», как стали называться после реформ тридцать шесть дореформенных годи [291]291
Дисл. full goðorð ok forn. Формулировка содержится в «Сером гусе», раздел «Об устройстве тингов» (дисл. Þingskapaþáttr), т. 1, гл. 20 [1852 Ia: 38]. «Старинные годорды» ( forn goðorð) упоминаются также в «Саге о Ньяле», гл. 97, когда Ньяль и законоговоритель Скафти обсуждают пятый суд, и в разделе «Серого гуся» о пятом суде, т. 1, гл. 43 [1852 Ia: 77]. (Прим. перев.)
[Закрыть], назначали судей, каждый из своей округи. В судьи можно было назначить кого угодно при соблюдении следующих условий: человек должен быть мужчиной, свободным, старше 12 лет, иметь постоянное место жительства и быть способным приносить клятвы и отвечать за это. Раз назначенные, судьи затем распределялись по судам четвертей – видимо, по жребию. [292]292
«Серый гусь», т. 1, гл. 20 [1852 Ia: 38].
[Закрыть]Человек, начинавший тяжбу на альтинге или вызванный в суд на альтинг, обращался таким образом к суду одной из четвертей, в судейской коллегии которого, однако, заседали люди из всех четырех четвертей.
Альтинг открывался в четверг вечером, а на следующий день годи назначали судей. В субботу разрешалось давать судьям отвод по тем или иным поводам, например, из-за родства с кем-либо из тяжущихся сторон. Все действия совершались по строжайшим правилам, публично и под открытым небом, и любой человек, прибывший на альтинг, мог наблюдать за ними и тем самым их контролировать. Система распределения судей по коллегиям служила заодно и противоядием регионализму: бонды в рамках судов близко знакомились с делами других четвертей, и благодаря этому дух и качество судебных решений оказывались едиными для всей страны. Таким образом значительная часть политически активного населения получала возможность участвовать в процессе принятия решений. Чтобы дело решилось, требовался почти единогласный вердикт; если шесть или более судей выражали несогласие с решением, тяжба официально объявлялась неразрешимой по закону. [293]293
Судей в коллегии было 36, то есть для вынесения правосудного решения по любому делу требовалось, в современных терминах, квалифицированное большинство в 84 % – сверхжесткое требование для коллегий присяжных. В современных системах обычное квалифицированное большинство составляет 60 % или 66 %, лишь изредка встречаются более жесткие 75 %. (Прим. перев.)
[Закрыть]В этом случае судейская коллегия выносила два вердикта, каждый в пользу одной из сторон, и никакого правового продолжения не могло быть, пока не был учрежден апелляционный суд для судов четвертей. Важно также напомнить, что, хотя в суд мог обратиться любой свободный человек, успех в суде часто зависел от способности тяжущихся организовать себе политическую поддержку. Настоящие, долгосрочные замирения обычно достигались путем переговоров между влиятельными людьми, особенно годи.
Коллегии далеко не всегда могли достичь консенсуса. Поэтому спустя сорок лет, около 1005 года, была проведена еще одна реформа судебной системы, и на альтинге был учрежден новый апелляционный суд, так называемый пятый суд (дисл. fimtardómr). [294]294
Об учреждении пятого суда подробно рассказано в «Саге о Ньяле», гл. 97. (Прим. перев.)
[Закрыть]Как и другие судейские коллегии, судьи пятого суда выбирались из числа бондов. [295]295
«Серый гусь», т. 1, гл. 43 [1852 Ia: 77].
[Закрыть]Нововведение эффективно работало в качестве суда последней инстанции, так как решения в нем выносились простым большинством. Учреждение пятого суда было предпоследней реформой государственных институтов Исландии эпохи народовластия, а последней стало предоставление членства в лёгретте двум исландским епископам, которым, однако, в отличие от годи было запрещено иметь советников.
Регулярность, с какой собирались исландские суды, и их надежность показывают, насколько важным исландское общество той эпохи считало нахождение в кратчайшие сроки решения, приемлемого для тяжущихся сторон и поддержанного всем обществом в целом. У судов была и другая функция, не менее важная: и местные суды, и суды альтинга предоставляли годи и другим людям возможность удовлетворить свои лидерские амбиции. События, происходившие во время этих судов, по большому счету являлись отражением политического климата в стране, а поскольку вердикты выносились на основе единогласия, которое подразумевало и взаимное согласие противных сторон, то они представляли собой разумные и реально осуществимые решения социальных проблем, которые в иной ситуации могли бы привести к взрыву. Бонды и годи встречались на тингах, с тем чтобы замириться, получить возмещение, предложить свои правовые и политические услуги и оказать поддержку тем, кого они представляли. Тинги разных уровней служили аренами политической борьбы, где амбициозные исландцы соревновались за престиж и статус.
Альтернативы: что предпринять в трудной ситуации
Когда исландцу нужно было истребовать возмещение того или иного ущерба, изощренная система тингов и судов предоставляла ему целый набор разнообразных альтернатив. В идеале тяжущиеся стороны разрешали свои частные несогласия путем компромисса, скажем, одна из сторон могла предложить другой самой вынести решение по делу (в сагах используется термин дисл. sjálfdœ́ mi, буквально «самосуд»). Такое предложение делалось, если предлагающая сторона была так или иначе уверена, что оппонент совладает с эмоциями и вынесет разумное и взвешенное решение; одна из сторон могла и прямо потребовать предоставить себе такое право, но получала она его лишь в ситуации, когда другая сторона была политически много слабее. Другим вариантом было вызвать оппонента на поединок – либо на ритуальную дуэль (дисл. hólmganga, буквально «поход на остров»; соперники отправлялись на остров, брали с собой секундантов, размечали поле боя и так далее), либо просто на бой без правил (дисл. einvígi, букв, «единоборство»). Впрочем, столь прямолинейный способ урегулирования конфликтов применялся редко [296]296
[ Вø1969; Ciklamini1963].
[Закрыть], а в самом начале XI века поединки запретили [297]297
Об этом рассказывается в «Саге о Гуннлауге Змеином языке», гл. 11 (Прим. перев.)
[Закрыть]– вероятно, потому, что в них видели рудимент прежних эпох и ценностей, противоречащий духу переговоров и компромисса, прочно укоренившемуся в исландском обществе к этому времени.
Пострадавшая сторона могла выбрать и другой путь, например, перейти к физическому насилию или даже завязать полноценную распрю с кровной местью. Последний вариант, в отличие от большинства других, требовал гарантированной поддержки со стороны кровных родичей или свойственников. Если человек хотел избежать самых серьезных последствий распри с кровной местью или же положить распре конец, он мог прибегнуть к формальной юридической процедуре и отправиться называть свидетелей, вызывать противников в суд, начинать тяжбу и так далее. Можно было заручиться помощью представителей и попытаться решить дело до суда через вмешательство третьих, более или менее нейтральных, лиц. Альтернативы могли объединяться – например, внесудебные замирения оказывались прочнее и эффективнее, если о них публично объявляли на том или ином тинге, а сами суды, как отмечал еще Андреас Хойслер, представляли собой театрализованную распрю. [298]298
[ Heusler1911:103].
[Закрыть]На разных этапах развития распри обе стороны могли поочередно прибегать ко всем вышеперечисленным методам, то применяя насилие, то требуя возмещения в суде, то призывая на помощь посредников.
Тесная связь успеха на политическом поприще с успехами в судах, какую мы видим в средневековой Исландии, возникла, в частности, потому, что в основе исландской системы лежала идея, что государство не обязано наказывать частных лиц за нарушения закона. Можно говорить даже о своего рода социальном институте отсутствия исполнительной власти, в рамках которого преступления рассматривались как частная проблема частных лиц, которую и решать полагается, соответственно, в частном порядке, а для этого лучше всего подходят или сами стороны, или выбранные ими представители. Наказания представляли собой штрафы, то есть фактически компенсации, выплачиваемые выигравшей дело стороне. Долг взыскать в той или иной форме возмещение за убийство лежал не на государстве, а на родственниках убитого, а те, если решали добиваться справедливости, выбирали тот или иной способ ведения своего дела. Важно, что выбор этот был совершенно свободным и ни закон, ни традиция никоим образом не вынуждали прибегать к физическому насилию. Кровная месть была лишь одним из многих вариантов возмещения за ущерб.
Глава 10
Устройство власти: «дружба», институты представительства и родственные связи
Выслушав вызов в суд, Торир Пашневая Борода поехал к Ториру сыну Хельги и рассказал ему новости и попросил о помощи,
– потому, что я езжу с тобой на тинг.
Торир отвечает:
– Не больно-то я хочу вмешиваться в это дело, да еще с тобой заодно, но все же помогу тебе.
И стал попрекать Бороду, мол, кто так себя ведет, ссорится с каждым встречным-поперечным да попирает законы страны. Торир Пашневая Борода говорит:
– Я дам тебе подарки, дабы между нами установилась дружба, если ты согласишься взяться за мое дело.
Преимущество годи перед простыми бондами состояло в том, что они находились ближе к центру юридической системы средневековой Исландии. И система поддерживала это их преимущество. Суды выносили решения, ориентируясь не столько на фактические обстоятельства дела и улики, сколько на положение в обществе участвующих в тяжбе сторон, и важнее всего было не задеть их честь. Исландское общество признавало законные права свободных землевладельцев, однако не предоставляло им независимых исполнительных институтов, которые бы обеспечивали реализацию этих прав. Бонды, втянутые в тот или иной конфликт, не могли надеяться защитить свои права, не обратившись за помощью к влиятельным людям, прежде всего к годи, – именно они располагали властью, силой и возможностями манипулировать правовой системой. Обычный землевладелец не имел шансов выиграть тяжбу у влиятельного человека, если только ему самому не помогал другой, не менее влиятельный человек. Задачей же влиятельных людей было поддерживать статус-кво, с каковой целью годи и занимались политикой, помогая в одних случаях нападать, а в других случаях защищаться и определяя своим участием исходы конфликтов. Годи, выступая представителями интересов других землевладельцев, имели возможность влиять на поведение так или иначе связанных с делом людей, при этом общественное мнение, как правило одобряло действия годи и находилось на их стороне. [300]300
О представительстве и его роли в саге как нарративе см. также [ Byock1982: 37–38, 74–92].
[Закрыть]
Мы уже знаем, что власть годи, в отличие от власти разнообразных конунгов, ярлов, баронов и им подобных, не была связана с управлением теми или иными территориями. Но если годи не конунги и не бароны, то кто же они такие? Ответ на этот вопрос следующий: исландские годи возглавляли группы интересов и сражались друг с другом за социальный престиж. Сражения эти, особенно ярко описанные в «Саге о Стурлунгах», подразумевали и переговоры, и политические маневры, и компромиссы, и ход их отражал некий поведенческий стандарт, согласно которому амбициозные личности и потенциальные лидеры, будь то годи или обычные бонды, добивались своего тогда, когда вмешивались в ход дела как представители чужих интересов. В этом качестве они давали сторонам советы, играли роль адвокатов, а в критических ситуациях были готовы помочь силой оружия (или угрозой его применения).
Представительство
Представительство являлось одной из форм вмешательства в дело третьих лиц. Оно могло осуществляться по-разному и имело как открыто декларируемые, так и подспудные цели. Декларируемой целью представителей было предоставить своим клиентам, группам клиентов или лидерам этих групп возможность и механизм достижения консенсуса – не достигнув консенсуса, нельзя было достигнуть и примирения, так чтобы, с одной стороны, дело разрешилось по закону, с другой – не пострадала честь участников конфликта. Скрытой же, подспудной целью представителей было сохранить или увеличить объем своей власти. Годи имели значительные преимущества перед простыми людьми в деле представления чужих интересов, они лучше других умели играть в эту протодемократическую древнеисландскую игру публичной тяжбы. Представителем, впрочем, мог выступать любой человек, которого об этом попросили, – фокус заключался в том, чтобы быть успешным представителем. Институт представительства, таким образом, служил краеугольным камнем системы взаимной поддержки, в рамках которой участники тщательно следили за тем, кто кому как и в каком объеме помогал и что кому и в каком объеме за такую помощь причитается. Ведение такой социальной бухгалтерии подразумевало, что дебет уравновешивается кредитом, и действия, направленные на достижение баланса между первым и вторым, составляют основное содержание саги.
Представители были не равны – одни умели пользоваться своими преимуществами лучше, чем другие. Слава и уважение к представителю зависели от его способности хитроумно манипулировать законом к своей и к чужой выгоде. За представительские услуги годи и некоторые особенно удачливые бонды получали в собственность землю и богатые подарки. Успех рождал успех, и чем выше была у человека репутация в плане заключения выгодных для клиента соглашений, тем чаще к нему обращались за помощью в истребовании наследства, законном преследовании нарушителей и т. п. Как отмечал Пребен Мойленграхт Сёренсен, «у бондов был прямой интерес делаться тинговыми тех годи, которые лучше других умели защищать интересы своих людей, а чем больше у годи тинговых, тем сильнее его позиция, как в судах на альтинге, так и в случае вооруженных конфликтов». [301]301
[ Sørensen1977:48].
[Закрыть]
Появление годи на тинге в сопровождении большого числа сторонников было не просто демонстрацией его статуса – из этого можно было извлечь выгоду. Так, в главе 14/25 «Саги о людях со Светлого озера» [302]302
Через слеш даны номера глав по двум редакциям саги, соответственно Аи С.
[Закрыть]рассказывается о распре между двумя годи, Эйольвом сыном Гудмунда Могучего с Подмаренничных полей и Торвардом сыном Хёскульда (сына Торгейра годи людей со Светлого озера). [303]303
О Гудмунде и Торгейре см. также ниже. (Прим. перев.)
[Закрыть]Один из соратников Торварда, по имени Халль, убил брата Эйольва, по имени Кодран, и Эйольв готовит тяжбу. Оба годи собирают себе группу поддержки, и каждый готов платить другим годи за помощь. Эйольв очень богат, и он просит своего «друга» (то есть политического союзника, см. ниже о дружбе и «дружбе»), годи Геллира сына Торкеля [304]304
И главной героини «Саги о людях из долины Лососьей реки», Гудрун дочери Освивра. Gellirпо-дисл. значит «ревун», и он был так назван в честь своего прадеда Торда Ревуна ( Þórðr Gellir), о котором говорилось в гл. 9. (Прим. перев.)
[Закрыть], созвать людей и других годи и явиться на тинг Цаплина мыса, обещая ему по эйриру серебра (дисл. eyrir silfrs, одна восьмая марки) за каждого бонда и полмарки за каждого годи (глава 15/25). [305]305
Последующие события, описанные в саге (гл. 17/27), показывают, что Эйольв и Бродди, несмотря на «дружбу», в действительности не доверяли друг другу, – посланникам обеих сторон Бродди обещает, что на суде станет на сторону слабейшего, а им оказывается Торвард. Бродди (представитель Торварда) и Геллир (представитель Эйольва) предотвращают битву на тинге и замиряют стороны; стороны соглашаются, чтобы решение вынес Геллир, и он выносит решение в пользу Эйольва, однако не такое суровое в отношении Торварда, как Эйольву хотелось.
[Закрыть]Другой годи, по имени Бродди Бородач, получает посулы одновременно от Эйольва и от Торварда. Последний, хотя и не так богат, как Эйольв, посылает Бродди золотое обручье, рассчитывая заручиться его поддержкой, а первый посылает золотое обручье Хравну, двоюродному брату Торварда, рассчитывая замириться с ним (его отца Торкеля некогда убили люди отца Эйольва) и уговорить затем отправиться к Бродди с просьбой не выступать в суде против Эйольва. Как видно из этого примера, «дружба» годи и его тинговых могла покупаться и продаваться.
Роль родственных связей
Институт представительства, а с ним и феномены, с одной стороны, легкости и быстроты формирования групп интересов вокруг лидеров и, с другой, недолговечности таких групп, значительно ослабляли прочность родственных связей. Последние зачастую вступали в противоречие с эгоцентрическими устремлениями отдельных членов рода; нередко родичи в одном регионе ездили на тинг или заключали союзы с разными годи, иногда к тому же враждующими между собой. Периодически родичи переходили от одного годи к другому, и вся эта динамическая система союзов заслоняла кровное родство, особенно во время распри. Саги полны примеров, когда кровные родичи поддерживают противные стороны.
Исландские семьи были, как правило, нуклеарными: на одном хуторе жили лишь хозяин, платящий тинговые налоги, его жена и домочадцы. Такая группа представляла собой самостоятельную и независимую социальную единицу как в плане производства, так и в плане потребления. Родственные связи протягивались скорее к отдельным категориям родичей, не сплачивая их всех в единую большую группу. Эта особенность, как мы увидим ниже, самым непосредственным образом влияла на то, какой именно вид распри оказывался возможным в Исландии. Саги различают кровных родичей и свойственников, то есть людей, связи с которыми устанавливаются через брак: первые обозначаются словом frændr(ед. ч. frændi [306]306
Родственно англ. friendи нем. Freund, которые развили другое значение – «друг». Исландское слово для «друга» – vinr, см. ниже. (Прим. перев.)
[Закрыть]), вторые словом mágar(ед. ч. mágr [307]307
Кроме такого близкого свойства (дисл. magsemð) имелась и более широкая категория свойства вообще (дисл. sifskapr, sift, а индивидуально такие свойственники обозначались словом дисл. sifjar). Кровное родство (дисл. frændsemi) контрастирует, как правило, именно с последним.
[Закрыть]); в их число входят зятья, тести, шурья и девери (свойственники-женщины обозначаются словом mágkonur, ед. ч. mágkona). Кроме этого, существовали и «фиктивные» родственные связи вроде побратимства, которое заключалось с помощью специального ритуала, основанного на смешивании крови [308]308
Подробно описан в «Саге о Гисли», гл. 6. (Прим, перев.)
[Закрыть]; побратимы назывались fóstbrœ́ ðr(ед. ч. fóstrbróðir, букв, «братья по воспитанию» [309]309
Поэтому слово fóstbrœ́ drравным образом употребляется по отношению к людям, выросшим вместе в одном доме, но не родственникам и не заключавшим формального побратимства.
[Закрыть]), а также (реже) svarabrœ́ ðrили eiðbrœ́ ðr(букв, «братья по клятве»). Эти связи, несмотря на свою «фиктивность», были куда прочнее уз настоящего кровного родства и налагали на побратимов долг кровной мести друг за друга.
В исландском обществе, в высокой степени индивидуалистическом, вышепоименованные типы связей обеспечивали существование латентной сети отношений, которую индивидуум мог при необходимости активизировать – в меру своих способностей и ресурсов. Исландец в первую очередь мог рассчитывать на поддержку родителей, детей, братьев и сестер, дядьев с отцовской и материнской сторон и шурьев со свояками. Родство, таким образом, если дело не касалось внутрисемейных проблем (вроде инцеста), было в Исландии довольно гибким понятием – так, например, не было никакого закона или правила, запрещавшего совместные действия людей, связанных только через брак, и зачастую свойственники выступали против кровных родичей в судах и распрях. В других обществах, где кровное родство представляло собой фундамент, на котором строятся политические и правовые отношения (примером могут служить так называемые патрилинейные общества), подобные ситуации были крайне необычны и редки.
Любопытно при этом, что исландские законы о вире – материальной компенсации за убийства, – собранные в «Сером гусе» в разделе под красочным названием «Счет обручий» (дисл Baugatal [310]310
«Серый гусь», т. 1, гл. 113–115 [1852 Ia: 193–207]. Название раздела образовано от слов дисл. tal«перечень, список, счет» и дисл. baugr«обручье, браслет». Последнее имело также значение «деньги», поскольку из золота и других драгоценных металлов в древности делали спиралевидные обручья, от которых можно было отламывать куски нужной длины и веса и использовать их в качестве оплаты. Далее, уже в древнеисландском правовом узусе, данное значение сузилось до «вира, плата за убийство»; отсюда и название раздела «Серого гуся», где перечислены различные виры, которые полагается выплачивать за убийства различных категорий (за убийства свободных людей полагаются одни суммы, за убийства рабов – другие и так далее). Более точный, но более сухой вариант перевода был бы «Перечень штрафов».
[Закрыть]), отражают именно патрилинейное устройство общества. Положения «Счета обручий» являются для Исландии фактически архаизмом, наследием древних времен, и находятся в противоречии с данными саг, ибо предполагают сферой своего действия общество вроде норвежского, где социальные группы формируются вокруг родственников по отцовской линии. Тот факт, что мы обнаруживаем в исландском праве положения, свойственные обществу более архаичному, нежели исландское (и в социальном, и в политическом, и в родственном плане), не должен нас удивлять. Эти идеи и положения были вывезены в Исландию первопоселенцами и послужили точкой отсчета для развития нового общества. В известном смысле они продолжали действовать вплоть до конца эпохи народовластия и даже позднее; однако новые формы социальных отношений, возникшие в Исландии, не могли быть прямым отражением норвежских – какую социальную группу норвежского общества ни возьми, из нее эмигрировала лишь часть, а не вся группа целиком. Кроме того, первопоселенцы «брали землю» индивидуально, в личном, а не сословном качестве. И следующим поколениям, дабы защитить недвижимое наследство от посягательств, приходилось обращаться за помощью к любому, кто был готов ее оказать: к родичам обоих родителей, к шурьям-зятьям и так далее, да и просто к знакомым землевладельцам, с которыми нет ни свойственных, ни родственных отношений, но которые думают извлечь из оказания помощи выгоду. В Исландии эпохи заселения, в этой стране на краю света, было критически важно заручиться поддержкой для защиты своей собственности. Политические союзы были в этом плане куда эффективнее родственных связей. Взаимная поддержка считалась обычным делом, и так постепенно сформировался институт представительства с его правилами и традициями. Во время кризиса именно умение найти союзников определяло, сохранит ли тот или иной индивидуум собственность и положение (а порой и жизнь), а опора на «абстрактную» силу закона, выраженную в родственных связях или в отношениях «годи – тинговый», играла лишь второстепенную роль. Так выглядела социальная подоснова системы накопления богатства и власти в средневековой Исландии, и вознаграждала она прежде всего людей с политической жилкой.