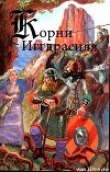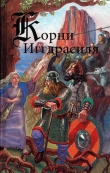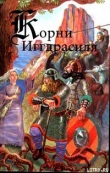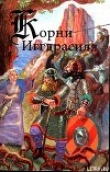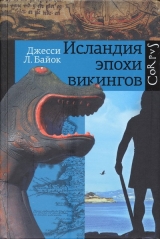
Текст книги "Исландия эпохи викингов"
Автор книги: Джесси Байок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
«Экономика неурожаев», или Трудности североатлантической жизни
В первые века после заселения страна процветала, если все шло хорошо, но если год был неурожайный, то держись! Саги полны рассказов о таких временах, благодаря чему мы в подробностях знаем, какие именно напасти угрожали исландцам в «плохие года». Поскольку напасти случались регулярно, те исландцы, кто доживал до старости, проходили за свою жизнь через несколько таких трудных периодов. Природные ограничения Исландии во многом определили социальное развитие ее общества. Косвенные данные источников позволяют утверждать, что к концу X века нагрузка на природные ресурсы из-за численности населения опасно приблизилась к критической отметке. В XIII веке чрезмерная нагрузка на ресурсы очевидна, о чем можно судить по росту числа арендуемых (а не принадлежащих живущей там семье) хуторов и возникновению рыболовецких артелей как альтернативного способа выживания.
Последствия воздействия человека на экологию острова стали заметны вскоре после заселения. Уже в начале X века эрозия почвы и интенсивный выпас скота резко снизили плодородность лугов, из-за чего ценность (и стоимость) хороших низинных земель значительно возросла. Исландия все же – большой остров, и в самые первые годы его биомассы, вероятно, хватало, чтобы прокормить стада. [96]96
Выражаю благодарность Яну Симпсону за его разъяснения в связи с этим обстоятельством, данные мне на конференции Североатлантической биокультурной организации в Акурейри, Исландия, в июле 1999 г.
[Закрыть]Проблемы из-за чрезмерного выпаса скота были связаны не столько с недостатком пастбищ – их-то вполне хватало, – а с тем, как именно их использовали. Животных отправляли на хрупкие альпийские луга ранним летом, и получалось, что скот выходил есть траву в тот самый период, когда она еще не успела ожить после суровой зимы, а почву поэтому было легче всего повредить, такая она была тонкая. Последствия раннего выпаса скота были катастрофическими – он-то как раз и привел к сокращению луговых площадей. Эрозия на высокогорье и затем на возвышенностях, запущенная в результате такой практики и помноженная на ограниченную площадь лугов в низинах, сделала Исландию разительно непохожей на большинство современных ей европейских стран. На континенте экология была в целом менее хрупкой, и расчистка лесов и осушение болот не уничтожали старые, а создавали новые земли, куда могло мигрировать растущее население.
Надежных данных касательно исландского климата в Средневековье мало, но имеющиеся свидетельства позволяют предположить, что примерно с 870 по 1170 год климат в Северной Атлантике был необычно мягкий. [97]97
[ Páll Bergthórsson1987; Gerrard1991; Grove1988; Grove and Switsur1994; Lamb1995; Ogilvie1984,1990].
[Закрыть]В течение этого периода, так называемого Малого климатического оптимума, средние температуры были на градус выше, чем нынешние средние +4 °C. Можно сказать, что норвежцы выбрали идеальное время для морской миграции в Исландию, так как в этот период, помимо прочего, в море встречалось куда меньше плавучего льда и айсбергов, несущих смертельную опасность для мореплавателей. Однако к середине – концу XII века теплый период, современный эпохе заселения, сменился устойчивой тенденцией к похолоданию, одним из последствий которого стало более частое появление у северных берегов Исландии плавучих льдин. Сам по себе климат, однако, не слишком испортился, и периоды относительного потепления еще случались. Один из них пришелся на самый конец эпохи народовластия и длился примерно с 1200 по 1260 год – время, которое принято называть эпохой Стурлунгов.

Рис. 6. Последствия эрозии
Эрозия радикально изменила внешний облик Исландии. Ландшафт IX века разительно отличался от современного (и даже от ландшафта XII в.): с тех пор исчезли практически все леса и кустарники, а площадь лугов сократилась более чем наполовину. Источник: Исландское управление геодезии и картографии( Landmælingar Íslands).


[Рис. 7 и 8.] Эрозия в горах, возвышенностях и низинах с 870 г. до середины XIV в.
На диаграммах показаны этапы эрозии в районе Островной горы (дисл. Eyjafjǫll, последнее извержение в 2010 г.), что на юге Исландии. Состояние почвы датируется по слоям пепла от известных извержений (жирные черные линии на диаграммах). Первый слой – пепел эпохи заселения (871 г. н. э. ±2 г.), ниже этого слоя свидетельств обитания человека на острове не обнаружено. В самом начале эпохи заселения горные районы, располагавшиеся выше границы произрастания деревьев, были в основном покрыты почвой – тонким, однако вполне плодородным ее слоем, иначе говоря, там находились альпийские луга. Возвышенности давали приют зарослям кустарников и лесам из карликовых деревьев. В низинах росли настоящие, большие деревья, прежде всего береза.
Выпас скота не замедлил сказаться на состоянии хрупкой приполярной экосистемы, так что к 920 г. н. э. почва альпийских лугов была в значительной мере тронута эрозией. В зависимости от природных условий, эрозия влияла на разные регионы по-разному. В некоторых местах толщина почвы даже увеличилась благодаря ветру, переносившему почву из других мест (так называемая эоловая почва), а также благодаря аналогичному влиянию воды (область А на диаграммах); те же процессы увеличивали толщину почвы на возвышенностях на месте бывших кустарников (область В на диаграммах) и в низинах, где исконные леса вырубались и выжигались поселенцами для обустройства пастбищ (область С).
К середине XIV века в горах почти не осталось почвы, и на месте альпийских лугов воцарилась пустыня (область D), в то время как на возвышенностях толщина слоя почвы значительно увеличилась (область Е). К этому же времени в низинах был уничтожен практически весь исконный березовый лес, и эрозии начала подвергаться уже почва низин (область F); этот процесс продолжается по сию пору. Волнистая линия, обозначающая верхний слой почвы на 1341 г., отражает характерную неровность исландских лугов. Грунтовые воды регулярно замерзают и приподнимают тонкий слой почвы, из-за чего исландские луга сплошь состоят из таких маленьких бугорков. Диаграммы воспроизводятся с любезного согласия Эндрю Дугмора и Яна Симпсона.
Начало многовекового похолодания не могло не сказаться на исландской «экономике выживания»; прежде всего была затронута плодородность земель, особенно тех, что повыше в горах. Предсказывать, какой объем сена удастся запасти, в условиях медленно ухудшающегося или, во всяком случае, нестабильного климата стало куда сложнее. Эти изменения, несомненно, лишь подогрели конкуренцию в обществе частных собственников, и без того на этой самой конкуренции построенном. Влияние климатических изменений при желании можно проследить даже в политической нестабильности, какая возникла в Исландии ближе к концу эпохи народовластия, в XIII веке.
Начиная с X века в Исландии периодически наступал голод. Исландия – едва ли не классический пример страны с «экономикой неурожаев», когда все хорошо лишь в том случае, если не стряслось ничего плохого. [98]98
[ Halstead and O’Shea1989:1–7].
[Закрыть]Нестабильность климата играла тут самую серьезную роль. В иные годы погода бывала великолепной – после хорошего лета и осени богатые зеленые долины и сочные луга позволяли сделать огромные запасы сена. Если же с субарктической погодой не везло, все шло с точностью до наоборот. Особенно плохие времена наступали, когда выпадало несколько холодных и дождливых лет подряд. Еще хуже становилось, когда у северных берегов появлялся лед, в силу чего температура падала еще ниже. Подобные флуктуации климата были краткосрочными, и если вызывали известное падение численности населения, то не сразу, а через несколько лет после серии плохих урожаев.
Если лето выдавалось холодное и дождливое, ни собрать, ни высушить сено было невозможно, а значит, у хозяев не хватало корма для скота на зиму. В такой ситуации землевладельцы первым делом обращались за помощью к особой местной общинной организации, так называемому хреппу (дисл. hreppr), о котором мы подробно поговорим в главе 7. Хреппы через своих представителей контролировали летние выпасы, организовывали общинный труд и в известной мере служили местными страховщиками. Они позволяли снизить риски, однако если проблемы затрагивали регион в целом, ресурсы хреппов быстро истощались. В такой ситуации у хозяев не оставалось иного выбора, кроме массового забоя скота; в результате в округе появлялось очень много мяса, колбасы и съедобного жира, так что жители, как ни странно, тучнели – меню в первую зиму после плохого лета оказывалось куда изобильнее, чем обычно. Но второе плохое лето подряд означало настоящую катастрофу, и хозяева уже лезли из кожи вон, лишь бы прокормить за зиму возможно большее число оставшихся голов скота. Если добавить сюда болезни скота, недостаток кормов и избыток голодных домочадцев, станет ясно, как непросто было делать запасы и тратить их по минимуму, чтобы дотянуть до следующего лета.
Под угрозой голода и мора население обращалось к дополнительным ресурсам, которые, вероятно, не так страдали от переменчивости климата. Начинали есть «неприкосновенный запас» – то есть пищу, которую в обычные годы не трогали, например съедобные лишайники, активнее занимались охотой и собирательством: куда больше обычного ловили рыбу (чаще выходили в море, а на доступных в Исландии лодках это было весьма небезопасное предприятие), охотились на тюленей, собирали съедобные водоросли (дисл. sǫl) в пищу людям [99]99
Эпизод с поеданием съедобных водорослей есть в «Саге об Эгиле», гл. 78. (Прим. перев.)
[Закрыть]и на корм скоту и искали прочий провиант на общинных землях. Почти всегда популяция довольно быстро восстанавливалась. В живых оставалось достаточно молодых женщин детородного возраста, и детей после голодных лет, как правило, рождалось много.
Однако, каким бы крепким ни был народ Исландии в целом, плохие времена отрицательно сказывались на поведении индивидуумов. Судя по сагам, хуторяне делались куда раздражительнее обычного. Сплошь и рядом в сагах встречаются пассажи, подобные следующему, из гл. 5 «Саги о сыновьях Дроплауг» [100]100
Русский перевод саги см. в [Саги-3, 215 след.] (Прим. перев.)
[Закрыть](дисл. Droplaugarsona saga): «А как прошла зима, погода стала хуже некуда, и много скота погибло. Много скота потерял и Торгейр, хозяин со Дворов Хравнкеля». Впрочем, в этом случае виной была не только погода – Торгейр вскоре выяснил, что восемнадцать его овец прибрал к рукам один из соседей. [101]101
Торгейр находился в союзе с Хельги сыном Дроплауг, а Торд – сосед, укравший у него скот, – в союзе с местным годи, Хельги сыном Асбьёрна, сына Хравнкеля годи Фрейра из одноименной саги. Этот инцидент послужил поводом для конфликта между Тордом и Торгейром, а затем стал одним из этапов в длинной распре между двумя поименованными Хельги, о которой см. ниже в гл. 10, а также в работе [ Byock1982: 39–46].
[Закрыть]Аналогичным образом следующий эпизод из гл. 4 «Саги о Курином Торире» [102]102
Русский перевод саги см. в [Саги-3,15 след.] (Прим. перев.)
[Закрыть](дисл. Hœ́ nsa-Þóris saga) предшествует описанию распри за сено: «В то лето урожай травы выдался скудный и вдобавок плохой, оттого что она совсем не сохла, и поэтому людям почти совсем не удалось запасти сена». Подобные истории ясно показывают, что если выдавалось несколько плохих лет подряд, то лишь самые богатые хозяева могли рассчитывать, что запасут нужное количество провианта на зиму.
В числе угрожающих исландцам напастей следует назвать не только относительно частые неурожаи, но и относительно нечастые, зато мощные вулканические извержения, естественные на геологически молодом острове. На исландские вулканы приходится ни много ни мало треть общего объема лавы из всех извержений на планете с 1500 года до настоящего времени. Вулканическая деятельность с эпохи заселения до 1500 года была примерно такой же интенсивности, и слои пепла, лежащие в толще почвы по всему острову, свидетельствуют о регулярных извержениях в этот период. Каждые десять с чем-то лет в какой-нибудь части острова обязательно случалось извержение, впрочем, между повторными извержениями в одних и тех же местах, как правило, проходило много лет – успевали смениться два, а то и три-четыре поколения. При подобной частоте извержений – высокой с точки зрения геологии, но очень низкой с человеческой точки зрения – как-либо готовиться к этим катастрофам не имело ни малейшего практического смысла.
Хороших описаний извержений самого раннего периода у нас нет. Лучшее – описание крупного извержения, потрясшего в 1362 году юго-восток Исландии, из «Анналов епископства в Лачужном холме». Извергался один из вулканов, накрытых сверху гигантским Озерным ледником; в результате несколько десятков хуторов, расположенных на побережье непосредственно к югу от ледника, были попросту стерты с лица земли; очень серьезно пострадали и другие регионы по всей стране, особенно на юге. Огонь и пепел несли смерть и разрушения:
Из-под земли пошел огонь в трех местах на юге страны, и так продолжалось от Дней перехода [конец мая. – Дж. Б.] до самой осени, и вот какие страшные вещи случились: опустошена вся Малая округа [103]103
Современная Пустыня (исл. Öræfi), представляющая собой пески южнее совр. Пустынного ледника (исл. Öræfajökull), южной оконечности Озерного ледника.
[Закрыть], большая часть Рогатого фьорда и Лагуна [104]104
Имеется в виду область восточнее Рогатого фьорда и современного городка Гавань ( Höfn), на юго-востоке Исландии. (Прим. перев.)
[Закрыть], так что все те места превратились в пустыню протяженностью в пять дневных переходов [105]105
Дневной переход равнялся примерно 20 милям, то есть извержение уничтожило область примерно в 160 км в поперечнике.
[Закрыть], а вдобавок весь целиком Ледник Шишковатой горы [106]106
Современный массив Пустынного ледника, в котором находится высшая точка Исландии, вулкан Гора Дягилевой долины ( Hvannadalshnúkur). (Прим. перев.)
[Закрыть]взял да и сполз в море и навалил туда камней, глины и земли, и где была вода глубиной в 30 саженей, там теперь песчаная равнина. Сгинули также без следа два прихода, Капище и Ржавый ручей. Песок [т. е. вулканический пепел. – Дж. Б.] засыпал равнины, так что людям доставало до колена, а ветер надувал из него сугробы, да такие, что за ними едва виднелись дома. А потом пепел стало сносить на север, и насыпало столько, что скот и люди оставляли следы, а потом еще в Западных фьордах видели такое: небывалое количество пемзы в море, так что корабли едва могли проплыть сквозь нее. [107]107
[ Storm1888,226].
[Закрыть]
В зависимости от направления ветра при извержении пепел и камни могли засыпать луга, находящиеся очень далеко от эпицентра. В такой ситуации скот не мог больше там пастись – слишком болезненно для зубов и слизистой оболочки рта животных. Как обычно, от следовавших за подобными событиями неурожая и голода в первую очередь страдали бедняки, арендаторы, безземельные работники и мелкие землевладельцы.
Глава 4
Эволюция и деволюция социального устройства
Кроме того, можно говорить также и о деволюции, то есть об эволюционном движении назад, обратно к ранговому или эгалитарному обществу, а равно о циклах эволюций и деволюций, когда в обществе не возникает ни стабильной стратификации, ни государственных структур. Деволюция – исключительно важное явление, так как в действительности человечество во все времена прилагало значительные усилия – культурные, организационные – к тому, чтобы социальную эволюцию остановить.
Майкл Манн, «Источники власти над обществом»
Многие так называемые «автономные» вожди и племена могут на деле являться обществами, претерпевшими деволюцию вследствие того, что были временно отрезаны от более крупной социальной системы, частью которой некогда являлись.
Тимоти Эрл, «Вожди и ведомые ими общества: власть, экономика и идеология»
Не так-то просто дать определение государственному устройству Исландии эпохи викингов. Историки обычно пользуются термином «народовластие», полезным в силу своей неточности. Ряд подходов, разработанных в рамках антропологии, позволяет уточнить значение термина «народовластие» для Исландии и понять, что у исландского общества общего с другими, относящимися к традиционным типам, и в чем его отличие от них; эти подходы, однако, редко использовались учеными. [108]108
Типологический подход имеет свои недостатки и не всегда применим, однако оказывается полезным, если пользоваться им аккуратно: сравнительно-типологические исследования исландского общества, гибридного и иммигрантского, не вписывающегося ни в какие обычные категории, позволяют многое о нем узнать.
[Закрыть]С самого начала, впрочем, нужно сознавать, что стандартные эволюционные категории плохо описывают это общество, составленное из викингов-эмигрантов. Поэтому в настоящей книге я использую именно нечеткий термин «народовластие», рассматривая особенности исландского общества как антрополог.
«Народовластие» в применении к государственному устройству Исландии эпохи викингов означает независимое общество, гибко организованное и находящееся на некоей догосударственной стадии развития, но обладающее при этом известными элементами государственности, в частности осознающее самое себя именно как «государство». Это очень верное описание исландской ситуации той эпохи. Говоря коротко, «народовластие» означает в данном случае две вещи: Исландия была независима от других стран, а сами исландцы осознавали себя частью единого общества с единым устройством.
Исландцы основали общество без главы, общество, которое во многом отлично обходилось без государства – в том смысле, что в Исландии эпохи заселения лидеры общества, годи, не обладали практически никакой исполнительной властью и не правили территориями. Нельзя, однако, сказать, что государства в Исландии вовсе не было, – напротив, в стране имелись вполне определенные атрибуты государственности, а именно национальное законодательное собрание лёгретта (дисл. lǫgrétta, букв, «законоправильня») и прозрачная судебная система, охватывающая всю страну. Социальная стратификация хотя и существовала, была ограниченна – на острове не имелось ни королей, ни даже местных царьков или вождей. Землевладельцы, конечно, отличались друг от друга богатством и известностью; существовала и большая разница между ними и людьми, землей не владеющими, а также между свободными людьми и рабами. Несмотря на отсутствие системы исполнительной власти и ее главы, в Исландии мы несомненно видим некую эмбриональную стадию развития государства. Но как объяснить столь странный набор качеств? Ответ заключается в том, что исландское общество, как мы его знаем, сформировалось в результате весьма специфических и сложных эволюционных изменений. Исследователи, как правило, проходят мимо этого обстоятельства, однако здесь-то и кроется ключ к пониманию средневековых исландских общества и культуры.
Эта уникальная смесь государственных и догосударственных черт возникла потому, что в Исландии действовали две противоположные тенденции. С одной стороны, иммигранты привезли с собой норвежскую традицию и норвежский набор понятий о государстве. С другой стороны, классовые ценности иммигрантов не позволяли зародиться институту исполнительной власти. Оказавшись на гигантском, но изолированном от соседей – и поэтому защищенном от внешней агрессии – острове, иммигранты воспользовались возможностью отказаться от властной иерархии и налогообложения, которые их современники на континенте, носители той же культуры позднего железного века, вынуждены были ввести для защиты от внешних врагов. В результате этого отказа исландское общество упростилось и сделало пару шагов назад по лестнице социальной эволюции.
Именно тот факт, что в Исландии эпохи заселения колесо эволюции во многом крутилось в обратную сторону, определяет ее специфику – что не мешает ему и по сию пору ускользать от внимания специалистов. Исландское общество – вовсе не результат прогрессивной эволюции от простого к сложному. Наоборот, с первых же лет своего существования оно двигалось от более сложного устройства к более простому, деволюционируя и избавляясь от целого сословия – викингской аристократии. Первопоселенцы ставили себе вполне четкие, но очень ограниченные законодательные цели. Сосредоточившись на правах свободных землевладельцев, они изменили социальное устройство, упростив его по сравнению с норвежским, где были и конунги, и аристократы, и региональные военные вожди, и законодательно определенные понятия о людях лично свободных и лично несвободных. Отражая желания и интересы землевладельцев, исландские государственные институты организовались таким образом, что целый ряд социальных ролей, исполнявшихся на континенте элитой и военными вождями, оказался не нужен и исчез. Избежав создания самовоспроизводящихся структур исполнительной власти, землевладельцы вручили последнюю самим себе как классу и тем самым лишили потенциальную элиту возможности заполучить монополию на легитимное насилие. Лидеры в обществе не могли играть иную роль, нежели роль «уважаемых людей», чье влияние часто ограничено незначительной территорией и чья «власть», таким образом, лишь временна.
Сложившийся в Исландии социальный порядок, его странная смесь свойств отражает именно эту начальную деволюцию. Порядок этот необычен – в нем тенденция ко всеобщему равенству и отсутствие государственной машины сочетаются с наличием некоей социальной иерархии, в нем просматриваются черты одновременно ранговых и стратифицированных обществ. Исландия, конечно, не была демократией в современном смысле слова, но там действовали мощные протодемократические тенденции. Столь богатая картина делает Исландию эпохи викингов идеальным полигоном для проверки различных теорий социальных и культурных изменений. Исландцы эпохи народовластия последовательно, на протяжении веков избирали – и вводили в действие силой закона – такие виды государственного устройства, которые исключали возможность возникновения подлинной исполнительной власти. В этом смысле траектории развития общества и государства в Исландии разительно не совпадали с аналогичным траекториями, наблюдаемыми в континентальной Скандинавии.
На континенте конунги расширяли свою власть именно за счет традиционных прав свободных землевладельцев, и исландцам это было хорошо известно. Не стоит, вероятно, утверждать, что первопоселенцы и их потомки в точности знали, чего хотят, – но зато эти люди очень четко понимали, чего они не хотят; источники не позволяют усомниться в этом. Прежде всего исландцы как общество выступали против свойственной государственной машине централизации, во всех ее видах. Эта позиция вызывала к жизни ряд социальных и организационных экспериментов, о которых подробно рассказано в сагах и законах. С точки зрения социологии и антропологии Исландия дает идеальный пример такого способа формирования государства, в котором изначально заложены механизмы его самоограничения.