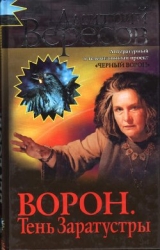
Текст книги "Полет ворона"
Автор книги: Дмитрий Вересов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Елена вскочила и вприпрыжку помчалась через прихожую, помахав по пути своему отражению, через гостиную, в кабинет отца. Решено – она вывезет и продаст. государственную тайну! Родину продаст! Кто носит майки «Адидас»., . Должны же у такого большого начальника храниться дома государственные тайны. Ну, хоть маленькие...
Она стала один за другим открывать ящики стола Дмитрия Дормидонтовича, выгребать оттуда папки и разрозненные бумаги, раскладывать по кучкам. Печатные и рукописные слова плыли у нее перед глазами... Постановления ЦК по промышленности. Тут все вырезки из газет, это не пойдет... Закрытые постановления... А вот это интересно, надо только отобрать что-нибудь позабористей, про диссидентов там, или по еврейскому вопросу. И куда это добро потом сдавать? В «Фигаро»? Ну, дадут тысчонку-другую, и все. Мелко плаваете, Елена Дмитриевна... Надо бы что-нибудь капитальное, чтобы ихнее «Сюрте Женераль» расколоть по полной программе. Скажем, агентурные списки, чертежи атомной подлодки... Хотя откуда у секретаря обкома такие списки и такие чертежи?.. Сводки о выполнении плана на предприятиях Ленинграда и области. Что тут? «Арсенал», Кировский завод, Петрозавод, Адмиралтейские верфи... В сторону! Нет, это же оборонка! Пригодится... Ну куда ты полезла листочки вырывать, дура? Он же хватится. Это мы потом, поближе к отъезду выберем денек, придем сюда с фотоаппаратиком, все щелкнем аккуратненько...
Средний ящик стола не открывался. Заперт на ключ. Подумаешь, секрет Полишинеля! Она распахнула шкаф, где висел повседневный костюм отца, бесцеремонно залезла во внутренний карман, достала оттуда ключ... Помнится, в детстве он нередко показывал ей свои ордена, которые как раз хранил в этом ящике, ключик же всегда доставал из внутреннего кармана. А он не из тех, кто меняет привычки... Нет, ей положительно повезло, что сегодня отец, как и положено, облачился в костюм парадный, с орденскими планочками и звездой Героя Труда. Говорят, она из золота высшей пробы... Слушайте, а может, какой орденок слямзить и загнать потом в антикварную лавку из тех, что подороже?
Она открыла ящик и потянула за край плотной красной папки с красочным гербом СССР. Папка оказалась пустой, но зато вслед за ней из глубины ящика вытянулось такое, что Елена тут же забыла о своем намерении стащить орденочек. Пистолет! Настоящий тяжелый пистолет в пупырчатой черной кобуре. Елена нетерпеливо вытащила его из стола, расстегнула кобуру, взяла за рукоятку, подержала на ладони... Мата Хари!.. Вот она уходит через норвежскую границу, унося с собой выкраденный портфель с бесценными сверхсекретными документами, отстреливаясь от погони... Визжа от восторга, Елена выскочила через гостиную в прихожую, к зеркалу, и навела пистолет на свое отражение, держа его двумя руками, как в западных боевиках, которых она до тошноты насмотрелась во Франции.
– Один унижение – и ты труп! – крикнула она, ловко, как в кино, передернула затвор, целясь в зеркало, чуть согнула колени и сделала вид, будто нажимает на спусковой крючок. – Пух-пух-пух!.. А-а!
Она основательно глотнула из горлышка.
– За процветание будущей мадам Ленуар! – Взгляд ее упал на помадные каракули, которые она с трудом разобрала. – И за погибель Воронова! Пух-пух-пуХ! – Она опять как бы выстрелила в зеркало и расхохоталась. – А ты что ждал? Что я заплачу и вот так сделаю? – Она поднесла пистолет к виску и тут же отдернула.
Господи, какая идиотка! Внимательно рассмотрев пистолет, Елена отвела рычажок внизу рукоятки, и на ладонь ей выпала обойма с патронами.
– Вот так-то лучше, – заметила она, положила обойму на полочку рядом с бутылкой и вновь шутя поднесла пистолет к виску.
Звякнул дверной звонок. От неожиданности палец на крючке дрогнул. Оглушительно хлопнул выстрел. На мгновение увидев в зеркале чье-то безмерно удивленное лицо,
Елена рухнула на пол. Гейм, сет и матч.
VIII
Павел взбежал по лестнице широким шагом, перемахивая через две ступеньки. Дыхания не хватало, сердце отчаянно колотилось в груди, его судорожные ритмы отдавались в ушах несказанными словами: «мать-отец? мать-отец? мать-отец?..» В хаосе мыслей, не оставлявшем его того момента, как он снял телефонную трубку, этот двойной вопрос всплывал неизменно, терзая неизвестностью. Такой вызов мог быть обусловлен только самой серьезной причиной. Так с кем же из них произошло это? Мать или отец? Несколько раз он ловил себя на позорной мысли: «Лучше бы мать...», но мгновенно пресекал ее. Опомнись, это же мать, не кто-нибудь. Господи, сделай так чтобы это был не кто-то из них. Только не отец... и не мать...
Задыхаясь, он остановился перед закрытой дверью квартиры, по краям которой стояли двое – один в милицейской форме, другой в штатском.
– Нельзя сюда! – сурово сказал милиционер, а штатский одновременно произнес участливым голосом:
– Вы Чернов? Павел Дмитриевич?
– Да...
– Проходите! – Штатский широко распахнул дверь. В прихожей толпился народ: милиция, соседи, видимо, понятые, люди в штатском. Павел рванулся на вспышку фотоаппарата, осветившую место в дальнем конце прихожей, в нескольких шагах от него. Люди расступались, и Павел оказался один на один с неестественно растянувшейся на полу фигурой. Ноги подогнуты. Удивленно смотрят в потолок огромные, застывшие глаза. Руки раскинуты в стороны, одна сжимает отцовский пистолет. Под головой темная лужица, а в виске – черная дыра с остановившейся, остывшей кровью. Елка. Вымолил! И тут на Павла обрушился шквал звуков, нестройных, нескоординированных , перекрывавшийся нечеловеческими воплями из спальни, в которых он с трудом узнал голос матери и выхватил слова: «Леночка... о-о-о!.. Леночка, родная... о-о-о!» Кто-то тихонько тронул его за плечо.
– Павел Дмитриевич?
Павел обернулся. Перед ним стоял невысокий крепкий мужчина в штатском, лет сорока на вид.
– Старший следователь прокуратуры Чернов Валерий Михайлович, – представился мужчина. – Ваш однофамилец. Пойдемте в комнату. Несколько вопросов, если позволите...
– Как... как это произошло? – спросил Павел.
– Пойдемте, – повторил следователь.
– Я хочу видеть отца, – сказал Павел. – Пожалуйста, – кивнул следователь. – Он у себя в кабинете. Лучше бы его не тревожить сейчас, но вам можно... Потом выходите сюда. Я жду вас.
Павел вошел в гостиную, где за столом сидело несколько мужчин с бумагами, чемоданами, двое из них были в белых халатах. Он прошел мимо и открыл дверь в кабинет.
Отец, прямой как палка, сидел за столом и застывшими, почти как у Елки, глазами смотрел в никуда. Ящики стола были открыты, на полу валялись бумаги, папки, но крышка стола была чистой. На ней прямо перед Дмитрием Дорми-донтовичем лежала одна-единственная бумажка. Павел заглянул через плечо отца и прочел написанные четким отцовским почерком слова:
«В Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза. В Ленинградский областной комитет КПСС. От Чернова Дмитрия Дормидонтовича. Заявление. В связи с преступной халатностью, проявленной мной при хранении личного оружия, прошу освободить меня от обязанностей второго секретаря Ленинградского областного комитета КПСС. 7 ноября 1979 года. Чернов».
– Отец! – позвал Павел.
Тот не шелохнулся. Павел приблизился еще на полшага, положил руку на неподвижное плечо отца, постоял так. Отец поднял руку, положил ладонь на руку сына и слегка сдавил ее пальцами.
– Спасибо... – чуть слышно прошептал он. – Теперь иди.
Павел молча, на цыпочках вышел и вернулся в гостиную, где ждал его однофамилец-следователь. Они прошли в комнату, которая когда-то была его, Павла, комнатой, потом Елкиной, потом была частично переоборудована Лидией Тарасовной под свой уголок.
– Здесь нам никто не помешает, – сказал следователь, уселся за резной чайный столик и жестом пригласил Павла присесть напротив.
– Как это произошло? – повторил свой вопрос Павел.
– Откровенно говоря, это еще предстоит выяснить, – ответил следователь. – Есть некоторые странности... На данный момент у меня есть две версии происшедшего. Скорее всего, смерть вашей сестры наступила в результате неосторожного обращения с оружием. Она пришла сюда, открыв дверь собственным ключом, выпила бутылку кагора и примерно две трети бутылки ликера или как его там... в общем, «Дюбонне». Залезла в ящик стола Дмитрия Дормидонтовича, нашла там пистолет, стала баловаться с ним перед зеркалом и...
– Чушь какая-то, – сказал Павел. – Это так не похоже на Елку... на Елену.
– В том-то и дело, – согласился следователь. – Пока мне удалось опросить только соседей, свекровь потерпевшей – впрочем, от нее было мало толку – и некоторых прибывших на место происшествия... скажем так, коллег вашего отца, и на основании их показаний у меня тоже сложилось несколько иное представление о личности потерпевшей. Скажите, Павел Дмитриевич, летом одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года с ее стороны имела место попытка самоубийства?
– Да, – прошептал Павел.
– Причина?
– Личная. – Павел сжал губы.
– Понятно. А скажите, пожалуйста, она знала, что у Дмитрия Дормидонтовича есть именное оружие?
– Наверное. Не знаю. Мы эти вопросы не обсуждали. Я знал.
– Давно знали?
– Пожалуй, с детства.
– И?..
– Простите?
– Не возникало желания... ну там, пострелять по банкам или перед сверстниками похвастаться?
– Нет. Вещи отца были для нас неприкосновенны. И потом, сколько себя помню, я никогда не любил оружия.
– Но пользоваться приходилось?
– Да. В экспедициях.
– Итак, насколько я понимаю, вам неизвестно, знала ли потерпевшая о наличии в доме оружия?
– Неизвестно.
– Так... А скажите, какие отношения были у Елены Дмитриевны с ее мужем, Вороновым Виктором Петровичем?
– Не знаю. Понимаете, последние годы мы были не особенно близки с сестрой. А Воронова я видел всего один раз – на их свадьбе, год назад. И сестру я с тех пор не видел. Завтра собирались встретиться... А вышло сегодня.
Павел замолчал. Следователь не торопил его. Лишь когда Павел достал из кармана сигареты, однофамилец из прокуратуры щелкнул зажигалкой, давая прикурить, и спросил:
– Она не могла повторить попытку самоубийства... по личной причине?
От неожиданности Павел поперхнулся дымом. Откашлявшись, он сказал:
– То есть из-за Воронова? Я сомневаюсь.
– Почему?
А что толку отмалчиваться... теперь? Елке все равно не поможешь.
– Понимаете, тогда, после первого случая, она сильно переменилась. Мне кажется, что она вообще утратила способность чувствовать. Любить, во всяком случае... Впрочем, я не знаю, что с ней было во Франции...
– А вы обратили внимание на зеркало? – неожиданно спросил следователь.
– Нет, а что?
– Там была надпись, сделанная губной помадой.
– Надпись?
– Да. «Прощай, изменщик коварный!» Павел невольно улыбнулся.
– Это из какого-то мещанского романса. Елка... то есть Елена могла такое написать только в шутку.
– Хороша шутка! Однако же мать Воронова показала, что по возвращении из Парижа ее сын несколько дней отсутствовал, а потом пришел и заявил Елене Дмитриевне, . что уходит к другой женщине.
– Вот как? Я не знал. И как она к этому отнеслась?!
– Спокойно собрала мужу чемоданы и выставила его за порог.
– Вот видите! Даже если Воронов и ушел к другой, стреляться из-за этого она не стала бы.
– Я тоже склоняюсь к такому выводу. Тем более что ваша сестра, прежде чем воспользоваться оружием, вынула из него магазин с патронами.
Павел изумленно посмотрел на следователя.
– Тогда как же?..
– Видимо, до того она случайно передернула затворную раму и послала патрон из магазина в патронник. Потом она вынула из пистолета обойму, но не учла, что один патрон остался в стволе...
– Значит, все же неосторожное обращение? А может быть, был еще кто-то, и она не сама?..
– Теоретически не исключено. Однако ваши родители услышали выстрел, входя в квартиру. То же услышали и соседи. Некоторые даже выскочили на площадку. В это время или после никто не мог выйти из квартиры незамеченным. Конечно, гипотетический убийца мог, к примеру, сделать выстрел через подушку и уйти, оставив капсюль с детонатором в стенных часах или, скажем, под дверным ковриком. Но это уже из области детективной фантастики... Разумеется, мы проведем тщательную экспертизу вещ-доков, но убежден, что никаких следов присутствия второго лица обнаружено не будет...
Их разговор прервался диким криком из прихожей. Оба вскочили и выбежали туда. Трое здоровенных ребят – один в белом халате, один в милицейской форме, один в штатском – из последних сил удерживали извивающуюся всем телом Лидию Тарасовну, в лице которой не осталось ничего человеческого. Четвертый стоял у стенки, согнувшись и держась за живот. Ближе к дверям лежал неизвестный Павлу оборванец с разбитой головой. Рядом с ним валялась тяжелая стойка для чистки обуви. На шум выбежали люди из гостиной. В прихожей стало тесно.
– Спокойно! – крикнул следователь и протиснулся к группе, держащей Лидию Тарасовну. – Что тут произошло? Насибов? – обратился он к штатскому.
– Да вот, – начал он и тут же взвыл от боли. Вопрос следователя отвлек его внимание, он ослабил хватку, и Лидия Тарасовна, изловчившись, ударила его ногой.
– Что стоите столбами?! – заорал следователь на столпившийся народ. – Кто-нибудь, смените Насибова, подержите ее! А к этому врача, срочно!
Ближайший к группе милиционер схватил Лидию Тарасовну за руку и лихо заломил за спину. Мать Павла согнулась и зашипела.
– Осторожней, дуболом, руку сломаёщь! – крикнул следователь и вновь обратился к Насибову, потирающему коленку. – Рассказывай!
– Ну, мы, в общем... После уколов она вроде успокоилась, стала просить вывести ее сюда, посмотреть на дочь, проститься... Ну, она встала, мы вышли, а тут как раз открывается дверь и на пороге этот. Мы и глазом моргнуть не успели, а она вырвалась, схватила подставку и зафигачила ему в голову...
– Молодцы! – саркастически заметил Чернов-следователь. – Увести ее в комнату! – крикнул он, пробираясь вместе с Павлом к дверям. – Врача туда, укол посильнее, чтобы вырубилась!.. С этим что? – спросил он, показывая на лежащего возле входа мужчину.
– Без сознания, – сказал врач, сидящий на корточках возле неизвестного. – Сильная травма головы, кровотечение. Возможно повреждение черепа, сотрясение мозга наверняка. Пульс, дыхание есть... Пьяный он, Валерий Михайлович.
– Понятно, – сказал следователь. – Перевязать, ну и все, что полагается... Вызвать третью «скорую».
– Зачем третью? – спросил врач.
– Этого в травму, Чернову в психиатрическую, и глаз с обоих не спускать. Воронову – к нам, в прозекторскую... Извините, – сказал он, обращаясь к Павлу. – Недоглядели, козлы! Народу столько, путаются только под ногами, мешают работать... Подойдите сюда, пожалуйста. Узнаете его?
– Нет, – сказал Павел, но подошел, пригляделся. – Хотя стойте, это, кажется, Воронов... Надо же. А год назад был такой холеный...
– Вы уверены, что Воронов? – пристально глядя на Павла, спросил следователь. Павел пожал плечами.
– Точно Воронов, – подтвердил стоящий у двери милиционер. – Он сам так назвался. Говорил, что муж, просил пустить...
– Разберемся, – хмуро посмотрев на милиционера, сказал следователь. – Еще раз извините, Павел Дмитриевич, сами видите... Голова кругом... Вы можете идти.
– Как это идти? – не понял Павел.
– Домой. Завтра-послезавтра продолжим разговор в прокуратуре. Или могу к вам заехать...
– Да как же я пойду? А отец?
– Тогда пройдите к нему, пожалуйста, – сказал следователь. – Надо здесь заканчивать поскорее, протоколы составлять, всякое такое. А то еще что-нибудь произойдет... Где этот... ну, гэбист, Фролов? – спросил он какого-то молодого человека, выходящего из гостиной.
– Там. – Молодой человек показал себе за спину. – Бумаги пишет.
Следователь вздохнул.
– Пойду... вопросы согласовывать. А вы идите, Павел Дмитриевич.
– Я на кухне посижу, можно?
– Эй, с кухней кончили? – крикнул следователь в пространство.
– Кончили, – ответил стоящий рядом молодой человек. Следователь вздрогнул и укоризненно посмотрел на него.
– Можно, – сказал он Павлу.
Павел вышел на кухню и закурил. Ну вот! Собственная семья не состоялась, а теперь и родительская рухнула. Ушла Елка. Одного взгляда на мать достаточно, чтобы понять, что и она уходит безвозвратно. Отец... он остается. Но одному Богу известно, каким он будет теперь, без работы, без семьи...
– Ну уж нет! – прошептал Павел. – Его мы с Нюточкой вам не отдадим...
И погрозил кулаком в ночную темноту.
Он и не заметил, как опустела квартира. Кто-то совал ему на подпись какие-то бумаги – он подписывал, не читая. В прихожей шумели, топали, переговаривались. Сознание его безучастно отмечало: вот выносят Елку, вот – мать, обездвиженную, вырубленную лошадиной дозой какой-то гадости, вот хлопают двери. Раз, другой, третий. И стало тихо. За пределами кухни громоздилась тьма, обволакивающая, приглушающая звуки.
Павел вышел в темную прихожую, щелкнул выключателем. Из зеркала на него глянул бледный, тощий сутулый су ъект средних лет с черными мешками под глазами. авел поспешно перевел взгляд выше, прочел корявую красную надпись: «Прощай, изменщик коварный!», вздохнул, сделал два шага в ванную, сорвал с вешалки банное полотенце, занавесил им зеркало и отошел за меловую черту, обозначившую контуры совсем недавно лежавшего здесь тела. Тела...
Павел рванулся к телефонной тумбе, распахнул дверцы, вытащил старую, истрепанную записную книгу и раскрыл на букву "Р". Есть! Он набрал давно забытый номер. Трубку сняли после первого же гудка.
– Рива Менделевна! Здравствуйте, это Павел Чернов. Поздно? Извините, что разбудил... Вы не спали? Будьте любезны, адрес Лени и телефон, если есть... Да, очень срочно.
Павел записал адрес – своего телефона у Рафаловича не было. Он хотел сразу позвонить на телеграф, но передумал. Лучше сходит завтра утром, с бумагой, подтверждающей... Нет, все-таки не укладывается в голове. И что с того, что в последние годы сестры в его жизни как бы и не было? От этого только хуже. Если бы чаще был рядом, старался помочь, понять, может быть, и не было бы сегодняшнего... Ладно, что теперь толку.
Павел расправил плечи и через темную гостиную прошел в отцовский кабинет. Дмитрий Дормидонтович сидел все в той же позе. Но папки и листочки были подобраны с пола и аккуратно разложены на столе, рядом с заявлением.
– Чай будешь? – спросил Павел. – Я поставлю. Дмитрий Дормидонтович будто и не слышал его вопроса. Павел терпеливо ждал. Прошло минуты две, потом отец медленно-медленно поднял голову, посмотрел на него.
– Чай? – переспросил он чужим, сиплым голосом. – Чай не буду.
– Тогда иди спать. Прими радедорм или реланиум и ложись.
– Спать, – повторил отец. – А ты?
– Я тоже, – сказал Павел. – Дам тебе лекарство, покурю и лягу.
– Да. А Лида?
– Мама в больнице. Ей так лучше.
– Лучше...
Дмитрий Дормидонтович поднялся. Павел подхватил его под плечо, желая помочь, но отец отвел руку.
– Сам, – сказал он. И вышел на негнущихся ногах. Павел посмотрел ему вслед, послушал шаркающие шаги потом шум воды из ванной.
Вот черт, забыл, где в этом доме держат лекарства... В спальне, наверное.
Похороны, как и свадьба, с которой минул год и десять дней, были скромными и малолюдными. Не было ни оркестра, ни скорбных речей. Собравшиеся помолчали перед раскрытой могилой, кинули на гроб по горстке земли, украсили холмик цветами и венками, постояли еще немного, глядя на увеличенную старую фотографию улыбающейся Елены, и разошлись, кто на поминки к Чернову, а кто по домам. Кроме Дмитрия Дормидонтовича и Павла Пришли две приятельницы Елены по институту, человек шесть соседей, горько причитающая мать Воронова в черном платке. Обком был представлен верной Мариной Александровной, которая пришла с мужем, – оба выглядели постаревшими, растерянными, – несколькими машинистками, буфетчицей, уборщицей и двумя офицерами Девятого управления, которым присутствовать здесь полагалось по должности. Никто из чинов, несмотря на то что отставка Дмитрия Дормидонтовича еще не была принята официально, не приехал. С комбината, где работала Елена, прибыл главный технолог Левский, месткомовский деятель, явившийся с казенным венком из пластмассовых цветов, и неприметная старушка Хорольская. Больше из отдела не пришел никто, хотя о трагической гибели их сотрудницы извещало траурное объявление в холле комбината. Таково было коллективное решение работников отдела, потрясенных сначала жалким видом вернувшегося из Парижа Воронова, а потом и рассказами Кузина, которому Воронов незадолго до неожиданной смерти жены два дня подряд изливал душу за бутылкой. Лидию Тарасовну, находившуюся в невменяемом состоянии в больнице, врачи категорически запретили везти сюда. И еще рядом с Павлом и Дмитрием Дормидонтовичем стоял неизвестный никому более морской офицер, третьим, после отца и брата, бросивший на гроб горсть земли.
Даже Марина Александровна узнала в нем Рафаловича только на поминках.
Леня заматерел, сильно раздался вширь, начал лысеть. Телеграмма Павла застала его за очередным сбором чемоданов в Москву, по казенной надобности. В Ленинград он вырвался уже из столицы, всего на день. Помянув Елку вместе со всеми, он извинился и пошел одеваться – перед отъездом надо было еще заглянуть к родителям. Павел проводил его в прихожую.
– Знаешь, Поль, спасибо тебе, – сказал Рафалович на прощанье. – За все эти годы я старался забыть Елку и, как мне казалось, забыл. Но все равно что-то такое скребло в душе. Теперь этого нет. Простившись с Елкой, я с прошлым простился, освободился от него. Спасибо. И извини, что в такой день я о себе...
– Это нормально, – сказал Павел. – Скажи хоть кратенько, как ты вообще?
– Нормально. Служу.
– Не женился еще?
– На грани... Кстати, она из нашей школы. На два класса младше нас.
– Совсем мелюзга. – Павел грустно улыбнулся. – Наверняка не помню.
– Училась вместе с Таней, сестренкой Ника Захаржевского. Ее-то ты помнишь, надеюсь?
Павел сглотнул. Хороший вопросик, ничего не скажешь... Да, но ведь Ленька три года жил на Севере, ни с кем из старых друзей не общался и не знает ничего.
– Смутно, – ответил он, отводя взгляд.
– Да-а, – протянул Леня. – Вот так оно все и забывается, и друзья, и любимые женщины. Даже Елку помянуть никто не пришел... Кстати, я понимаю, что сейчас не подходящий момент об этом говорить, но почему бы нам в следующий мой приезд не собраться всей компанией?.. В смысле, кто остался, – смущенно добавил он.
– Да для меня, в общем-то, никого и не осталось, разве что ты снова появился... Леня моргнул.
– Как же... как же так? Вы-то никуда не уезжали. И Ванька здесь, и Ник, кажется, тоже – я его имя в титрах одного фильма видел, ленинградского...
– Так получилось, – помолчав, сказал Павел. – Ни того, ни другого видеть я не хочу... Потом расскажу, ладно?
– Ладно. Родителей береги... Скоро увидимся – у меня следующая командировка в январе намечается. Тогда и поговорим, добро?
– Добро, – сказал Павел и крепко пожал протянутую руку. – Будь счастлив, Фаллос!
Ленька притворно нахмурился, потом подмигнул Павлу и вышел.
Нет, в следующий приезд надо, обязательно надо поднять старых друзей. Если вместе не хотят, то хотя бы поодиночке. Узнать, как они теперь – Ванька, Ник... Сестренка его, красотуля рыжая... И Таня, Ванькина жена – лучшее, пожалуй, воспоминание в его жизни. И самое сокровенное. Нигде и никому – ни в кругу друзей-офицеров, боготворивших, актрису Ларину и смотревших фильмы с нею по несколько раз, ни многочисленным своим дамам, ни, упаси Боже, Лиле – не говорил он, что знаком с ней лично, что даже... Впрочем, тогда был случай совсем особый. Если бы не Таня...
Рафалович уходил с поминок первой своей любви, едва не погубившей его, с воспоминаниями о любви второй, воскресившей его, – любви потаенной и заветной.
«Нехорошо, – внушал он себе, кутаясь в воротник от пронизывающего ноябрьского ветра. – Я простился с Елкой, с Елкой... Вот в этом дворике мы сидели, болтали, обнимались... Вот у этого метро так часто встречались и расставались... А дальше будет мост, и если за мостом повернуть направо и пройти до Крестовского – там упрешься в забор больницы, где мы с Таней... Нет, нельзя о Тане...»
Но в душе он похоронил Елену уже давно, навсегда простился с нею в ту ночь, когда сам надумал уйти из жизни – а вместо этого воскрес для новой жизни. Благодаря Тане Лариной...
Люди потихоньку расходились. Соседки собирали со стола посуду, относили на кухню, мыли. Павел помог вытирать тарелки и рюмки, пока Вероника Сергеевна, одна из соседок, не отправила его в гостиную, к отцу. Дмитрий Дормидонтович сидел за чисто прибранным столом, на котором остались лишь прикрытая кусочком хлеба рюмка водки и старая фотография юной, улыбающейся Елки. Павел сел рядом.
– Вот так-то, – вздохнул Дмитрий Дормидонтович, не отводя глаз от фотографии. – Эх, Ленка, Ленка, не думал я, не гадал, что ты первая из Черновых ляжешь в землю ленинградскую... Кто следующий? Мой черед, наверное...
– Это ты брось, отец, – сказал Павел. – Нас, Черновых, голыми руками не возьмешь. Помнишь, ты же сам говорил так? Мы еще повоюем.
– Повоюем... – повторил Дмитрий Дормидонтович и только затем поднял глаза на сына. – Ты вот что, Павел... Хватит тебе по чужим квартирам мыкаться. Перебирайся-ка с Нюточкой ко мне. Места хватит. И няне тоже. Да и я хоть с внучкой повожусь вдоволь на досуге-то. Все веселее будет, чем одному век доживать. Лида-то, как я понимаю, теперь уж не скоро из клиники выйдет. Да и выйдет ли вообще?.. Хоть и не было никогда между нами любви, а все же без году тридцать лет с ней прожили, привыкли...
Павел изумленно посмотрел на отца.
– Как это так не было любви? Что ты говоришь такое?
– Ну-ка посмотри там, водочки после гостей не осталось? Налей мне...
– Стоит ли?
– Сегодня можно.
Дмитрий Дормидонтович выпил принесенную Павлом рюмку, на закуску понюхал сигарету, закурил.
– С Лидкой познакомились мы в сорок девятом, зимою. Я тогда первый год на Уральском Танковом директорствовал. Случилась у нас тогда большая беда – в литейном печь взрывом разнесло, газами, мастер недосмотрел. Шесть человек погибло. Приехала по этому поводу из Москвы комиссия. Важная комиссия. Во главе ее был полковник МВД, фамилию не помню, да и неважно это, не он все решал, а его заместитель, майор внутренних войск Чибиряк Лидия Тарасовна. Фигура по тем временам легендарная. Молодая, гонкая, ретивая. Сколько людей по этапу отправила , на верную смерть, загубила по пустым наветам... У самого генерала Мешика в боевых подругах ходила. Слыхал про такого? Правая рука самого Берии, их потом вместе и расстреляли в пятьдесят третьем. Знающие люди мне тогда сочувствовали, говорили что если уж в комиссии сама Чибиряк, то головы мне несносить. Полковник-то, формальный начальник ее, на заводе и вовсе не показывался, зато она расположилась, как нынче говорят, с комфортом, в моем кабинете. Туда и тягала людей по одному. Они с этих допросов возвращались не в себе. Мне тоже несколько раз довелось – приятного мало. Короче, под конец следствия вызывает она меня. Сидит, развалясь, в моем же кресле, перед нею на столе наган, а по бокам – два протокола лежат. Одинаковые две бумажки, только написано в них совсем разное. В одной все как есть: преступная халатность мастера, перегревшего пустую печь после плавки, формулировка, статья. А в другой – акт саботажа со стороны главного инженера с попустительства директора. Страшная бумага. По тем временам по четвертаку обоим, не меньше. А главный у меня – из старых спецов, пожилой, больной, но голова золотая... Читаю я, значит, а Лидка смотрит на меня, усмехается. Ну, говорит, который из двух к делу приобщать будем? Этот, говорю, и на первый показываю. Там все правда, от слова до слова. Можно, говорит, и этот, только при одном условии. И излагает все открытым текстом – как сразу на меня глаз положила, молодого-неженатого, как появилось у нее желание из генеральской любовницы стать директорской женой, как не любит она, когда ее желания не исполняются... А сама то один протокол к себе придвинет, то другой. Думает как бы – и вслух. Если, говорит, вот этому ход дать, то отъедет наш директор на чудную планету Колыма за казенные харчи золотишко мыть, а если вот этому – останется он при своих, но недолго, потому что скоро в гору пойдет, и всего-то у него в избытке будет... И все на меня косится... Не выдержал я тогда, подписывай, говорю, тот, в котором правда. Сдаю вашей конторе мастера, сам виноват, раззява, а тебе – себя сдаю, со всеми потрохами, на растерзание. А Лидка смеется... Короче, вышел я оттуда женихом, и первым делом помчался к невесте своей любимой...
– У тебя и невеста была? – с беспредельным состраданием глядя на отца, спросил Павел.
– Была. Молоденькая совсем, красивая, умница.. Я ведь на завод-то прямо с институтской скамьи попал в самом начале войны. Тогда там, в Нижнем Тагиле, танковое производство только разворачивали, на базе Уралвагон-завода и эвакуированного Сталинградского тракторного. Одни цеха полностью переколпачивать приходилось, под другие чуть не голыми руками котлованы в мерзлой земле рыли. Тогда не до любви было, а потом – и тем более. Это уже позже, много после войны, стал я на женщин засматриваться. Самому тогда уж тридцать стукнуло. Господи, думаю, а машинистка-то у меня до чего же славная... Ну и пошла у нас любовь, и было все хорошо, пока Лидка не появилась... В общем, прибежал я в домик к зазнобе моей, все ей выложил. Она, милая, все поняла, простила меня, только всплакнула немножко. Хоть ты, говорит, и чужой теперь будешь муж, я все равно не брошу тебя, с тобой останусь до гроба. Не Прогоняй меня, говорит, хоть глядеть на тебя буду на работе – и то счастье. Знаю же, что не по своей воле ты к другой уходишь... Короче, мастера арестовали и увезли, а через месяц вызвали меня в Москву, с Лидкой расписываться. Начальство по плечу хлопает, молодец, говорит, из-под самого Мешика бабу вынул, теперь . непременно жди повышения. И точно – я на Урал, а за мною следом бумага из Центрального Комитета: возвращаться за новым назначением в Москву, а оттуда отбыть в Ленинград. Не захотела, видишь ли, Лидка на Урале жить, а с Москвой не вышло что-то... Вот так я тут и оказался. Поначалу была не жизнь, а каторга – на работе все кланяются, стелются до земли, а домой пришел – сам изволь стелиться, а чуть что не по ней, кричит, Павлику отзвонюсь, он тебя в бараний рог. Это она про Мешика своего всемогущего. И тебя, кстати, в его честь велела Павлом назвать, а прежде того не было у нас в роду ни одного Павла. Потом, правда, после известных событий, присмирела. Я тогда даже разводиться хотел, но тогда уже новое место держало – разведенных на таких постах держать не любили, – да и пообвык уже, притерпелся. К тому же был ты, да и Ленка в проекте. Надо было семью сохранить. Одну только поблажку дал себе – выписал с Урала ненаглядную мою, устроил к себе в секретарши, а чтобы кривотолков каких не возникло, замуж ее определил за хорошего человека, инженера нашего, он давно по ней сох... Так что и с ней, милочкой моей, тоже почти тридцать лет не расставался, с Мариночкой...








