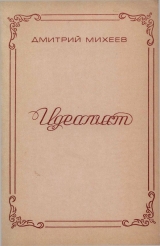
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Нет, никакой, – холодно отрезал Илья. – Зато будущие будут жить дольше и счастливее нас, они не будут умирать насильственной смертью, мучиться от голода и делать тупую работу, они будут творить.
– Знаешь, как страдали великие творцы – Леонардо и Микель Анджело? Только из страданий вырастает большое искусство.
– Нет, они были, были счастливы, как никто другой!..
– Так, пусть будет так, – бесцветным голосом сказала Анжелика и, поеживаясь, добавила: – Пожалуйста, я замерзла, пора домой.
Илья спохватился, засуетился, поймал такси. Всю дорогу они молчали, усталые и опустошенные.
Глава XIV
Двенадцать часов спустя Илья лежал на диване и глядел в потолок. Всю ночь он спорил и проснулся с ощущением полнейшей опустошенности. Не только не хотелось за что-либо браться, подташнивало от одной мысли о каком-либо занятии: такими бессмысленными и суетными были все они до единого. Даже музыки не хотелось, ни будоражащей, ни грустной. Хотелось… нет, ему ничего не хотелось, разве тишины и покоя. Поэтому он встал, запер входную и комнатную двери и снова улегся на диван – прямо в леденящие объятия мертвецкой апатии. Она навалилась своей вязкой тяжестью на его вялое податливое существо, выжимая последние жизненные соки, разъедая остатки воли. Растворилась цветная обманная дымка и обнажилась серая неприглядная сущность вещей: бессмысленность и нелепость его желаний и устремлений, вздорность и напыщенность его проповедей…
Час-другой он лежал в каком-то странном, тупом небытии – без цвета, без боли, без вкуса, без муки… пока не просочилось откуда-то и не растеклось по телу густое, ядовитое слово «ничтожество!» Он вздрогнул от боли и начал жить. Теперь, когда он начал ощущать боль, удары посыпались один за другим: «краснобай, позёр, бездарь, пустышка…» Но чем старательнее уничтожал он что-то в себе, тем явственнее возрождалось и крепло оно.
Под вечер схлынула, притупилась боль, и на очищенном пространстве возникли первые мысли: почему он так безнадежно, фатально одинок? Почему те, чьим мнением он дорожит, от которых он вправе ожидать поддержки, все до единого не понимают его? Почему он должен вечно спорить, бороться с ними? Даже с ними! Именно с ними! – с шефом, с другом, с учителем, с… человеком, который мог стать самым близким…
К ночи депрессия выродилась в тоску, в тягучую и сумрачную тоску по родственному существу. Впервые за двадцать четыре года душа его ощутила свою ущербную неполноту, свою заброшенность и человеческую ненужность.
Он не включал лампы и с терпением тяжелобольного следил за тем, как смыкаются над ним густые подвальные тени и разгораются полосы уличного фальшивого света. Иногда он ускользал из своей темницы в мягкий и ласковый мир видений, где кто-то прижимал его голову к груди и гладил, и шептал утешенья…
Сутки Илья не выходил из комнаты, не спускался обедать. Кто-то звонил, стучался – он не открывал. На вторые сутки он захотел есть, спустился в столовую, плотно пообедал и снова заперся в комнате. Впрочем, мысли его несколько окрепли. Неужели он так слаб и уязвим, что нуждается в поддержке женщины? Неужели слабое, хрупкое существо способно укрепить его против мира? – спрашивало Я, и вопросы заключали в себе ответ и признаки выздоровления. Однако, понадобились еще сутки, чтобы пережевать его последние разговоры и прийти к заключению: нет, он был прав. Он не нуждается в чьем бы то ни было одобрении или поддержке. Он принимает, и весьма охотно, все упреки в невежестве, но он никогда не закрывал глаза и уши для Хиндемитов, Шенбергов и… как его там… Бердяевых.
Илья взял небольшую книжку в мягкой обложке: эмигрант, издана в Париже – любопытно, он никогда не читал эмигрантов… и вдруг поразительная мысль: «Россия пала жертвой своей необъятности»! Какая точная, ясная и верная формула! Ну, конечно – отсутствие сильных соседей на востоке позволяло бесконечно расширяться, подменять качественный рост количественным: зачем удобрять и холить почву, если можно распахать соседний, не истощенный участок?.. Мысль Ильи обгоняла строчки и торжествовала, находя себе подтверждение. При этих пространствах и тех средствах связи изолированность была неизбежной, и управлять приходилось жестко, жестоко… Но были ведь и другие нации, практически неограниченные территориально – американцы, австралийцы? Нет, эти пришли со сложившимися национальными чертами…
Он проглотил книжку за несколько дней, если «проглотил» уместно для книжки в сто шестьдесят страниц. Он вообще читал медленно, а тут его буквально распирало от идей, примеров и аналогий. Он размышлял, записывал, конспектировал, и вдруг опомнился – надвигался «великий праздник», надо было звонить, писать открытки и письма… Четверть страны сидела на тысяче заседаний и собраний, тысячи ораторов сцепляли в строгой последовательности два десятка словосочетаний в успокоительную восточную мелодию… И ни один из них не скажет, что возвращение столицы в Москву – великая славянофильская идея, поворот от Запада к Востоку, заколоченное окно… Надо было срочно писать «поздравляю, желаю…» – здоровья, счастья в личной жизни? Нет, к черту, никогда! Он порывает с рабством казенных слов, казенных восторгов!
Оставалось договориться с Анжеликой насчет вечеринки у Андрея восьмого числа. Нет, ему не хотелось ее видеть, к тому же он, видимо, опоздал – шестое число! У них, разумеется, все расписано, и прекрасно – пусть помучается сомнениями; он хочет только покоя и одиночества…
Дозвониться было не так просто, и, когда он все-таки услышал ее «Аллоу, кто меня спрашивает?», разговор сам собой принял не то направление. Он вообще не умел трепаться по телефону, – ему всегда казалось, что у собеседника жарятся котлеты или сидит гость, поэтому он торопился кратко и точно изложить суть дела, чем частенько ставил собеседников в тупик. «Боюсь, что теперь ничего нельзя изменить – завтра у нас концерт, после него банкет для участников самодеятельности, а послезавтра мы идем в университет Лумумбы», – ответила Анжелика на его предложение, и он неожиданно для себя начал уговаривать ее отказаться от приглашения. Анжелика мягко, но решительно отклонила его попытку и в свою очередь пообещала билет на праздничный концерт. «Спасибо, я достану», – сухо сказал он и пожелал им веселых праздников. Положив трубку, каждый досадовал на себя и сердился на другого.
В сущности, она могла бы отказаться от вечера в университете, но дьявол нашептывал, что делать этого не стоит. Пусть будет внимательнее. Зачем он заставил ждать своего звонка?..
Итак, один, – попробовал он трагическую ноту, но депрессия его кончилась, и мысль сделала героический поворот: – «В стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей; со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость»; они будут веселиться, а он думать об истоках и смысле революции.
Нельзя не отметить, что празднование пятидесятилетия советской власти в МГУ весьма стимулировало подобные размышления.
Оно поразило бы каждого, кто встретил в его стенах хотя бы один, самый заурядный юбилей – сорок седьмой, или восьмой (сорок девятого не было, он превратился в предпятидесятилетний). Если в рядовые праздники, – рассуждали студенты, – здесь можно было потанцевать под индонезийский, венгерский и даже африканский ансамбли, увидеть последний крик моды, завезенный африканским миссионером прямо из Парижа, купить западногерманские сигареты, выпить чешского пива, посмотреть конкурс самодеятельности из ста стран мира, то в полувековой юбилей!.. Да что там говорить – полстолетия нового летоисчисления! Светлый праздник всего прогрессивного человечества!.. Воображение их срывалось с цепи всех законов сохранения сразу и рисовало… если и не бал у сатаны, то, во всяком случае, что-то такое!..
Через все четыре двери главного входа шествуют с радостной улыбкой на лицах профессора, в вестибюле их встречают взволнованные студенты и братаются с ними, фонтан у входа фонтанирует шампанским, в воздухе парят дельтапланеристы, сигающие со шпиля (мемориал неизвестного зека), в фойе актового зала наяривают Битлз, а в клубной части – Роллинг Стоунз, побратавшиеся студенты под руку с профессорами идут в профессорскую столовую – ба! да это шикарный ночной бар со стриптизом филологинь, а в диетической (кормят не здесь – внизу, в студенческих, притом, разумеется, бесплатно, с неограниченной добавкой) – зеленое сукно, приглушенный Армстронг, одним словом – Монте Карло! В аудитории № 1 конкурс порно-фильмов, в аудитории № 2 – фильмов ужаса, в клубе – Лебединое Озеро из Большого (зал, правда, пустой), а в актовом зале – костюмированный бал… – у входа человек с ружьем, костюмы революционные, есть и знакомые лица, но мало, преобладает маска «старый большевик» (по пятой редакции истории КПСС), но и здесь народу не густо, несмотря на огненный темперамент Краснознаменного имени Александрова. Главное же, главное – у входа в женскую зону нет вахтеров… вообще нет ни одного вахтера!., открыты все двери…
На этом фантазия студентов иссякала, достигнув недозволенных высот, в этом пункте, столкнувшись с суровой действительностью, она потерпела самое постыдное, унизительное фиаско. Еще шестого в МГУ было введено своего рода осадное положение: все внутренние переходы перекрыты, контроль на проходных удвоен, повсюду дежурили дружинники и царил неестественный порядок. Вечером, когда сотни прожекторов вокруг здания осветили его, в высотной части не светилось ни одного окна, тревожная тишина вползла и расположилась в пустом, брошенном небоскребе. Попасть из одной зоны в другую теперь можно было только через улицу, поэтому простое посещение магазина или столовой (все прочее – сберкассы, аптеки, киоски были закрыты) вдруг превращалось в полуторачасовую экспедицию. Поскольку у студентов не было холодильников, а столовые перешли на столь усложненный график, что его никому не удавалось усвоить, студенты стали больше гулять и меньше есть. Большинство обитателей здания, однако, не смогло оценить преимуществ нового образа жизни и разбежалось по Москве. Откуда-то снизу повеяло леденящим слухом о каких-то листовках, которыми в противном случае могли бы с тридцать второго этажа злоумышленники забросать Москву и испортить светлый праздник всего прогрессивного человечества…
Зато снаружи, на большом удалении, Храм Науки светился как никогда – настоящей хрустальной мечтой юного поколения.
Илья пошел на второе отделение концерта, пренебрегши тем самым ораторией «Партия наш рулевой» в исполнении сводного университетского хора, египетской интерпретацией поэмы «Хорошо», ангольской песней протеста и вьетнамским танцем с бамбуковыми шестами. Однако и второе отделение продолжалось в том же духе. Кругом откровенно скучали. Поэтому, когда две красивые девушки с гитарами подошли к микрофонам, а в глубине сцены расположились с аппаратурой «бело-розовые», зал возбужденно зааплодировал. Пока настраивали гитары, деловито переговариваясь, публика стихла и притаилась. Наконец, одна из них, это была Барбара – он узнал ее, несмотря на совершенно одинаковые одежду и прически– улыбнулась мечтательно и без сопровождения пропела: «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет». Пропела высоко, медленно, невероятно растянув последнее «ё-о-т», сделала огромную, изнурительную паузу, глубоко вздохнула и еще мечтательнее пропела: «лучше нету той минуты, когда милый мой придет». При этом Анжелика тронула несколько первых аккордов. Казалось, они не могут решиться, сомневаются, стоит ли продолжать. Зал не смел шелохнуться. Взглянув на улыбающуюся в себя сестру, Барбара, держась за щеку и тихонько покачиваясь, призналась: «как увижу, как услышу, все во мне заговорит», и в тот момент, когда отчаянное «ну, давай же!» едва не вырвалось из рядов, махнула рукой… оркестр взорвался и обрушился на истомленных зрителей всей своей электронной мощью. Иногда вступала Анжелика, чтобы взвинтить конец фразы, иногда не выдерживал и рассыпался нервной дробью ударник, соперничали саксофон и гитара-соло, но властвовал над всем высокий замодулированный голос Барбары.
Илья изнывал от восторга: русская песня и какой soul! Самым постыднейшим образом он колотил в ладоши и разве что не топал и не свистел. Они исполнили еще две вещи – польскую и английскую. Зал неистовствовал, кто-то сказал рядом с Ильей: «девки в порядке!», он вознамерился вскинуться, но тут же опомнился – разве не своеобразный комплимент? Кто-то спрашивал, кто-то авторитетно врал: «чешки с филологического», он не выдержал и поправил, тот отмахнулся: «не надо спорить, моя знакомая с ними в одной группе учится». Он вскипел от несправедливости, однако смолчал и, уязвленный, распираемый тайной, начал выбираться. Его пропускали, не скрывая своего раздражения, ругая про себя «дубиной». В дверях он обернулся: сестры, счастливые и благодарные, приветствовали публику. Мелькнула мысль: пойти к ним за кулисы? Но тут же он отбросил ее, представив, как он смешается с толпой поклонников…, и пошел к себе.
Позвонил Андрей, спросил, чем занимается, пригласил к себе на «забавную компашку». Илья отказался, сказал, что увлекся Бердяевым. Андрей поспешно перебил его: «Тогда приезжай завтра днем, поболтаем; наивность Ильи выходила за безопасные рамки.
В тот же день Илья сделал в дневнике запись, которая начиналась так: «К своему пятидесятилетию здание империи имело чрезвычайно помпезный вид. Оно возвышалось над темным миром и выглядело, в особенности на большом расстоянии, хрустальной мечтой юных народов. Стоило, однако, подойти поближе, и вы замечали, что светится оно фальшивым светом спрятанных в кустах прожекторов, что окна его мертвы, а внутри не слышно смеха, возгласов, музыки – вообще праздничного оживления…» Он продолжал развивать аналогию, однако общая краткая характеристика ситуации в стране никак не давалась ему: ну, живут, работают, не понимают и плевать им?
А что Анжелика? О, она закружилась в гораздо большей степени, чем ожидала и почему-то считала для себя полезным. Концерт кончился их выступлением, но им не давали уйти, за кулисы набилась публика, приглашали, просили и давали телефоны, дарили цветы, сыпали комплименты… А Илья не шел, хотя она заметила его в зале, когда он стоя аплодировал, и готовилась пошутить на этот счет. Их пригласили выступить на телевидении в молодежной программе, а напористый режиссер в кожаном пиджаке вырвал обещание сняться в эпизодах какого-то фильма. Потом был банкет в танц-зале. Его зеркальные стены неприятно действовали на Анжелику – мир казался чересчур огромным, пустым и однообразным. Впрочем, кроме бесшабашной самодеятельной братии тут оказались имеющие не совсем понятное отношение «наши дорогие гости из Милана и Турина», и банкет получился достаточно сумасшедшим, чтобы занять в воспоминаниях отведенное ему авансом место. Она кокетничала на ужасном французском с секретарем молодежной организации Милана, изображала с сестрой умирающих лебедей…
Восьмого они слушали «потрясающий, настоящий» негритянский джаз и танцевали под индонезийскую бит-группу. Большой, сверхделикатный Джеймс из Ганы весь вечер опекал ее и был главным партнером. Он же отвез их на такси домой. Смертельно усталые, они цеплялись, дурачась, за Карела, и вдруг странное предчувствие укололо ее: он сидит у них, поднимется навстречу, начнет подшучивать над собой…
Глава XV
Только во второй половине ноября Илья привез Карела и сестер Стешиньских к Андрею. Дверь открыла Инна Грейцер, миниатюрная еврейка лет двадцати пяти. Не выразив ни радости, ни удивления (экое диво – поляки!) она поздоровалась, показала, куда повесить одежду и исчезла в комнате так быстро, что даже сестры едва успели отметить ее некрасивое лицо и угловатую фигуру, не лишенную, впрочем, своеобразной мальчишеской грации. Потом на крик ее: «Ну иди же, Андрей!» явился красивый, бледный бородач, вытирая о джинсы руки, и повел их в комнату. Там, кроме Инны, были Игорь и рослый светло-кудрявый парень. «Давай, Илья, представь людей, ты тут знаешь всех, кроме Володи», – сказал Андрей. «Ладно, – согласился Илья и, коварно улыбнувшись, выдвинулся вперед. – Прошу любить и жаловать: это Барбара, нет, Анжелика, впрочем, я был прав, это все-таки Барбара, а это Анжелика… Но, если я и ошибся, для вас пока не имеет особого значения. Это, без всякого сомнения, Карел. Все из Речи Посполитой, все филологи. Русская поэтесса Инна, у которой Бэлла Ахмадулина мечтает брать уроки изящной словесности. Игорь… Андрей, лучший из здравствующих русских художников и…» «Володя из «Современника», – подсказал Андрей. «А еще Илья Снегин – болтун – находка для врага», – добавила Барбара, и все рассмеялись.
Андрей тут же заторопился на кухню, и Анжелика вызвалась ему помочь. Барбара, Карел и Володя под предводительством Инны принялись осматривать мастерскую, а Илья подсел к Игорю и затеял разговор о Бердяеве. С пристрастием первооткрывателя он выводил русские национальные черты из географического и климатического факторов: лень и склонность к авралам объяснялись слишком длинной зимой и коротким летом, пьянство – холодами и вынужденным бездельем бесконечной зимой, пресловутая широта характера и экстенсивный стиль ведения хозяйства – беспредельными пространствами, доброта и неосновательность – тленностью деревянного хозяйства… Игорь заметил, что влияние географического фактора на формирование этнических различий было глубоко исследовано в XVIII веке Гредером, разделялось Кантом и русскими историками прошлого века, вообще – знаменует научный подход к истории. Сейчас несколько устарел (Илья отчаянно покраснел), так как не объясняет, по-видимому, русскую подозрительность, первобытную жестокость, органическую ненависть к иностранцам, шовинизм и полное отсутствие инстинкта свободы… Карамзин, Татищев, Соловьев, Ключевский… Он подавлял своей эрудицией, говорил остро, зло – в общем, довольно убедительно, но что-то щемило, восставало, противилось в душе Ильи. Он не хотел, не мог согласиться с безысходностью, с отсутствием какой-либо надежды, перспективы, и мозг его лихорадочно искал ответ, искал выход.
– Со многим нельзя не согласиться, но характер народа продолжает меняться, – возразил он. – Сама география меняется, так сказать: пространство сокращается благодаря средствам связи, зимы, образно говоря, стали короче и теплее, во всяком случае, не сказываются на производстве…
– Ни черта не меняется! – грубо перебил Игорь. – Вы читали Чаадаева? А маркиза де Кюстина? Почитайте. Сто тридцать лет назад они писали о современной России! Не было паровозов, самолетов и телевизоров, но все та же гнетущая атмосфера застоя, апатии и страха…
Илья впервые как следует присмотрелся к Игорю. Для Орлова у него было удивительно смуглое, скуластое, не правильное лицо. И без того маленькие глаза постоянно щурились, в осанке, в одежде чувствовалось глубокое безразличие к своему внешнему виду. Он никогда не смотрел на собеседника, но в этом была не застенчивость, а внутренняя углубленность и, пожалуй, – горьковатое высокомерие: «все равно ведь ты не поймешь меня!» – …Да, внешние черты эпохи изменились, нельзя не измениться, ежели весь мир изменился. Но суть, дух и дистанция – все те же! На Западе – динамика, перемены, борьба партий, здесь – застой, изоляция, враждебность ко всему иностранному, непомерные претензии учить других, бряцанье оружием, все так же топим в крови непокорных… все так же на целую страну десяток честных – их объявляют сумасшедшими и уничтожают, а масса все так же жрет и размножается.
Игорь внезапно умолк и окончательно отвернулся. Он смотрел туда, где раздавались смех и восклицания Барбары, но ясно было, что они нисколько не привлекали его внимания. «Ему плевать на красивых женщин, на свою внешность, на красивые вещи, – подумал Илья, – даже музыка, которую извлекает его прекрасное изделие, не трогает, по-видимому, его. «Одна, но пламенная страсть» сжигает его».
– Мне кажется, – сказал Илья, – что вы сгущаете краски. Этот народ грамотен, он читает и ходит в кино, он слушает радио и смотрит теле… – Илья осекся, ибо Игорь повернулся, и в щелках его сверкнуло, «в самом деле, что они читают, что смотрят!» – И на реформы грех жаловаться в последние десять-двенадцать лет, и оттепель, в конце концов…
– Когда я слышу слово оттепель, мне хочется истерично смеяться, – заерзал на стуле Игорь. – Давно уже мороз, вьюга воет, а они мечтают об оттепели. Неужели вы все не видите, как процесс сталинизации набирает силу, идет уже полным ходом?
– Странно, впрочем, может быть… – сказал Илья, вспомнив праздничный университет. – Тем не менее, я полагаю, есть более важные и объективные обстоятельства, против которых бессильны субъективные глупость или тщеславие. Мы покончили с натуральным хозяйством, вступили в индустриальную эру, мы втянуты в мировой процесс производства, в НТР. Теперь мы не изолированы огромными пространствами от остального мира, более того – мы тесно связаны с мировой экономикой, поэтому законы и требования ее неизбежно приведут к перестройке и нашей экономики. Возьмите новую экономическую реформу: им пришлось предоставить директорам предприятий большую свободу действий, от лозунгов и «надо!» обратиться к «материальному стимулированию», и это только начало. Увидите, в ближайшие годы последуют демократические реформы, ибо без них невозможно реализовать – экономическую.
– И тогда… – Игорь потер руки и хитро улыбнулся, – возникнет свободная печать, расцветет оппозиция, коммунистов покритикуют, и, устыдившись, они уступят власть технократам. Да? Вначале оттепель, а затем мы как по маслу соскальзываем, конвергируемся в плюралистическое, постиндустриальное общество? Коммунисты уходят в оппозицию и по всем демократическим правилам борются за каждого избирателя. Happy end!
Илья покраснел и насупился. В сущности, он так и думал.
– Все хорошо, все прекрасно… одна только неувязочка, – продолжал Игорь, ядовито улыбаясь, – коммунисты давно-о-о, еще, когда не только нас, родителей на свете не было, поняли, что экономика – это власть, и никому – ни кулаку, ни непману, ни технократу, ни тем более иностранцам – ее уступать нельзя. Поэтому вначале они забрали ее полностью в свои руки, а затем сделали замкнутой, независимой от внешних рынков и превратностей. Смотрите, производительность труда в три-четыре раза ниже европейского уровня, половина предприятий нерентабельна… а система держится, как по-вашему, почему? Да потому, что Россия никогда не была так замкнута, как нынче, «в стороне от мировых событий» – словами Чаадаева.
В этом пункте Илья чувствовал слабинку в позиции Игоря.
– Нет, нет и нет! – возражал он. – Ни экономически, ни в культурном отношении наша система не замкнута. Русский мужик времен Николая I собственного барина годами не видел, а сейчас сельский парень записывает Битлз и сам на электрогитаре учится… Сейчас Россия стянулась до размеров московской губернии, до любого конца можно добраться за сутки-двое… Моды, стиль жизни передаются очень быстро, притом – западные…
Они не заметили, как стол усилиями Анжелики и Андрея был накрыт. Надо сказать, скудость сервировки с лихвой компенсировалась разнообразием бутербродов. В искусстве приготовления бутербродов Анжелике, пожалуй, не было равных, она изобретала (или знала) самые неожиданные, пикантные сочетания, и Андрей охотно подчинился ее диктату.
Только взглянув на Андрея, она прониклась симпатией и доверием к нему и без всяких колебаний обращалась на «ты». Разговор, как всегда в таких случаях, начался с общих знакомых – Анжелика попросила его рассказать о знакомстве с Ильей. Андрей рассказал о выставке в МГУ, о дискуссии, о молодых технарях: «они терпеть не могли соцреализма, их привлекала сугубо внешняя новизна – разные там фиолетовые деревья и зеленые облака – и вместе с тем они были всецело детьми соцреализма: терзали меня вопросами о том, какую идею я вложил в тот или иной образ; я отвечал, что мыслю не идеями и категориями, а образами, и этого они не могли понять».
– А Илья?
– Он был главным и самым страстным апологетом логики, смысла… Но что меня поразило – он отметил две работы из трех, которые я и сам считал приличными. В нем странно сочетается природная чувствительность и убийственная аналитичность. Иногда после его анализа мне хочется разорвать работу, я ненавижу его, суждения кажутся топорными и позитивистски-варварскими. Он пропадает на месяц-два, приходят другие, все, конечно, высказываются и некоторые – очень профессионально, а мне не хватает Ильи – я не могу того, что он.
Андрей намазывал и подавал ей ломтики хлеба. Очередной повис в воздухе – она засмотрелась в окно, но тут же спохватилась:
– Хватит, другие будем поджаривать с сыром. Правда, удивительно, когда дружат совсем разные люди?..
– Значит, они где-то соприкасаются… Такие или потоньше?
– Так, хорошо. Но, это страшно, когда разные соприкасаются, как думаешь?
– Страшно, если вынуждены соприкасаться, – улыбнулся Андрей и, взяв с подоконника сигарету, затянулся, – а если соприкосновение внутреннее, если тянет, то о чем же еще мечтать? Посмотри на нас – он собранный, аккуратный, организованный, целеустремленный, я – типичный шалопай, – Анжелика укоризненно взглянула на него, – я верующий, он атеист. Он фанатик прогресса, я – «старины: земли и лопаты»… а вот дружим уже пять лет.
Перетащив с кухни тарелки с бутербродами, поставив две бутылки сухого, бутылку полусладкого (для дам и Ильи) и бутылку водки, Андрей придвинул три стула, две табуретки, расставил чудесные, голубого хрусталя, рюмки и начал звать всех за стол. «Экскурсанты», однако, не шли, застряв у его последнего приобретения – большой иконы «Отец, сын и святой дух». Более того, к ним присоединились и Игорь с Ильей, которых удалось поднять. Икона была красивой, хорошо сохранилась, только глаза Отца и Сына зияли страшными провалами. Барбара заметила, что можно, наверное, реставрировать, Игорь нервно дернул плечами: «Дичь, варварство!», а Илья сказал, что вырванные глаза эти очень символичны. При этом Андрей быстро взглянул на Анжелику и затем пояснил для всех:
– Девятнадцатый век. Плохое, светское письмо, эклектика: тени, полутени, с элементами канонического письма, рука Христа на книге не живая, не символическая… короче, художественной ценности не представляет. А вот пустые глазницы… тут чувствуется талантливая рука соавтора.
– Пришел как-то пьяный Ваня домой, побил жену и детей под горячую руку, глядь, а боженька смотрит – ну и взял ножичек в сердцах… Вот тебе и соавтор, – красивым, обкатанным баритоном изложил свою версию Володя.
– Может быть, дети баловались? – спросила Анжелика.
– Какие там дети! – хмуро возразил Игорь. – Комсомольцы надругались над «суеверием».
– Не думаю, они бы скорей изрубили, сожгли, – сказал Илья.
– Да, уничтожить рука не поднялась – больно красива, – усмехнулся в бороду Андрей. – Принес кто-то из церкви, поставил у себя, а глаза мешают.
– Да, пьянствовать мешают, – подсказала Барбара.
– Пить что! Не сказано ведь: «Не пей!». Красть не могли! А как тут проживешь, ежели не красть? – продолжал Андрей. – Приносит домой ворованное… насчет власти совесть спокойна – «все наше», а по Господу – украл! Украл, и все тут, как не крути. Ну, мучает совесть, душа болит. В один прекрасный день не выдерживает душа Ивана, и по пьянке…
– Думаешь, все-таки по пьянке? – перебил друга Илья. – Мне кажется, что Иван вообще никогда в Бога не верил.
– Почему же выколол, если не верил? – гнул свое Андрей.
– Не понимаю; потому и выколол, что не верил в его существование и не боялся… – Илья пожал плечами.
– Вот тут тебя и подвела твоя логика! – явно торжествуя, воскликнул Андрей. – Ежели Бога нет, ежели не смотрит, и бояться некого, так зачем глаза выковыривать?! Нет, старик, он боится! Они глядят на него из другого мира и травят душу!
Его внимательно слушали – человек явно развивал наболевшую тему.
– Не так себе, не с кондачка он решился. Годами копилось. Сколько греха на душу взял: поместий разграбил, церквей и храмов разгромил… Свою власть наконец построил, и у нее воровать пришлось! Такую бездну греха не замолишь. И тогда он решился на последний грех: мол, на том свете, я знаю, мне ничего не светит, так хоть на этом не мешай, не трави душу, дай погулять свободно.
Все-таки, если верил, – Анжелика подала голос, – должен был думать, что Господь может покарать на месте.
– Ну, хорошо, глаза можно в порыве, в ослеплении, – возражал Илья, – но церкви ломать! Ведь это работенка – сломать тысячи церквей! Планомерная, сознательная работа на многие годы с участием сотен тысяч людей. Короче, он никогда не нуждался в церквях и при первой возможности пустил их на кирпичи.
Вдруг горячо вмешалась Инна.
– Нет, Илья, ты невозможный человек! – воскликнула она. – «Кирпичи, необходимость…» Что за вульгарно-учительский подход ко всему! Шла беспрецедентная борьба идей! Идеи – движущая сила истории, а не практическая необходимость, или целесообразность. Идеям православия, царя и отечества противопоставили атеизм, республику и космополитизм. Идею монархии зачеркнули расстрелом царской семьи. Идею отечества подменили идеей мировой революции и интернационала. Но что было делать с верой, чем заменить? Нечем! Вместо вечной жизни и вечного блаженства – короткое неверное счастье здесь? Но и оно, как скоро оказалось, – не для живущих, а для будущих поколений. Вместо великого и вечного предлагать ничто! Очень скоро осознав свое банкротство, они принялись в ярости уничтожать атрибуты веры, иконы, храмы и само духовенство…
– Не атрибуты, Инночка, – святыни! – перебил девушку Игорь. – Во всяком случае, у других народов это принято считать национальными святынями: изображения богов, храмы, в которых они обитают, и кладбища, где покоятся предки. Я спрашиваю: если у этого народа были святыни, как он мог позволить иноверцам и собственным проходимцам разрушить их?! Всего через несколько лет после революции! Спросите поляков, они за двадцать лет советской власти разрушили хотя бы один костел? А ведь у них, помимо прочего, еще и внешний «стимул» был.
Насупленный, ни на кого не глядя, Игорь повернулся и пошел к столу, Инна возмущенно фыркнула, а Илья ревниво подумал, почему же она не взрывается, почему не спорит Андрей, ведь сказать такое… ему, Илье, они бы не простили… Володя хохотнул: «Уел богоборцев!».
– Мне кажется, Панове, – в неловкой тишине раздался голос поляка, – что вы все отчасти правы, что истина, как говорят, лежит посредине. Русский мужик все-таки верил, но верил не в высшую идею, не в Христа-спасителя, а в существование потусторонних сил, добрых и злых. Еще, возможно, он верил в рай и ад, но рай не для себя лично, а для святых. На себя он махнул рукой. Домовые, водяные, русалки, ведьмы, упыри… были реальным содержанием его жизни и подменяли настоящее религиозное сознание. И сам Христос воспринимался не как мученик и спаситель, а скорее как жандарм, вечный укор своей совести. Глаза Господа для него – не путь познания божественной благодати, не окно в божественный мир, а глазок в камеру его земной жизни. Но он все-таки боялся его до тех пор, пока ваша атеистическая интеллигенция не научила его не бояться. И тогда он взял нож и… – все замерли, Анжелика впилась Илье в руку, – и заключил союз с «нечистой силой».








