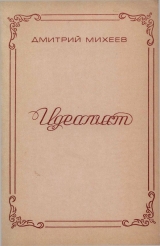
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Ты хочешь сказать… – неожиданно глухо и неуверенно начал Андрей.
– Иначе, зачем раздувать? – перебил Игорь. – Оттепель кончилась, давно уже заморозки. А регулярные чистки необходимы, так как растут новые поколения, не запутанные, не парализованные страхом, как отцы. Эти ленинградцы – все нашего возраста; от двадцати пяти до тридцати. Получили приличное образование…
Игорь неожиданно смолк и залпом выпил свой кофе.
– Извините, насколько я понял, – воспользовался паузой Илья, – вы делаете довольно мрачный прогноз, опираясь на изолированный случай. Мне кажется, вы не учитываете очень важные необратимые процессы и кое-какие закономерности…
Игорь удивленно вскинул брови, Андрей заулыбался, задвигался и налил себе еще коньяка. Они с Игорем всегда обсасывали все мало-мальски заметные политические события и привыкли понимать друг друга с полуслова. Однако сегодня – в присутствии Ильи – их разговор принял необычный характер: они тщательнее формулировали мысли и говорили известные обоим вещи. Илья раздражал и интриговал Игоря своей навязчивой, противоестественной цельностью, своей ненормальной беспорочностью… Этот хороший цвет лица, отлично сидящий костюм, эта одна рюмка коньяка за целый вечер, эта пресловутая «любовь к классической музыке» и тошнотворная воспитанность, его сдержанность и самоуверенность… За всем этим угадывался какой-то жуткий изъян, ущербность, или даже порок, но такой мерзкий, что запойное пьянство, грязное обжорство или сексуальная извращенность показались бы рядом с ним невинными слабостями. Но что бы это могло быть? Карьеризм? Стукачество? Социальная тупость? Его подмывало сдернуть эту маску образцово-показательного героя «Юности», и, весь подобравшись и еще сильнее жмурясь, он спросил:
– Какие процессы и закономерности надо учитывать?
– Ну, насколько я понял, вы проводили аналогию со сталинскими временами? – осторожно начал Илья, и Игорь почти кивнул. – Однако, насколько оправдана такая аналогия? Ведь ситуация в корне отличается от довоенной и послевоенной.
– Любопытно, чем?
– Как это – чем?! – изумился Илья. И психологически, и политически, и экономически. Если хотите, я поясню вкратце. В политическом отношении страна была за железным занавесом, действия правительства не подвергались моральной оценке, единоначалие исключало всякую критику даже внутри правительства. Психологически репрессии были возможны потому, что война только кончилась и народу не трудно было внушить, что остался недобитый, затаившийся враг, да и к насилию люди относились довольно легко. Наконец, экономика восстановительного периода носит более экстенсивный чем интенсивный характер, и ее проблемы можно было решать насильственной мобилизацией масс. В то время как сейчас происходит НТР, качественная перестройка промышленности, смена технологии, а их насилием не сделаешь; сейчас нет экономической необходимости сажать миллионы людей, чтобы иметь бесплатную рабскую силу.
– Тем не менее миллионов пять-семь все-таки сидит, – жестко заметил Игорь. – Вы преувеличиваете значение НТР; посмотрите, как строят в столице – как и сто, и двести лет назад, характер труда почти не изменился, потребность в миллионах рабов осталась. Но я говорил не об Иванах Денисовичах… Речь шла о чистках среди интеллигенции. В них тоже вы усматриваете экономическую необходимость?
Илья задумался.
– Трудно сказать, возможно – политическую… консолидировать духовные силы общества перед лицом внешней опасности… Во всяком случае сейчас массовые репрессии против интеллигенции невозможны, – голос Ильи окреп, – экономика невероятно усложнилась, она живет собственной жизнью и диктует свои законы общественным отношениям. Уже нельзя произвольно перебрасывать огромные человеческие и финансовые ресурсы из одной отрасли в другую. Требуется внутренняя перестройка хозяйственных отношений – отсюда и вся эта затея с реформой у нас, в Чехословакии, в Венгрии…
– Экий материалист! – усмехнулся Игорь, поворачиваясь к Андрею. – Предположим, все это так. Но почему, почему невозможны репрессии – убей меня, не пойму.
– Очень просто. Реформа предусматривает либерализацию хозяйственных отношений – директорам больше самостоятельности и т. д. А это невозможно без общей либерализации – без нее реформа захлебнется…
– Н-да-а, чудовищно! – заулыбался Игорь, показывая темные, прокуренные зубы. – Вы рассуждаете, как американские советологи, мечтающие о конвергенции, которым очень хочется верить, что Россия – нормальная, или почти нормальная страна. Они не замечают, не хотят замечать наш звериный оскал, чтобы не потерять аппетит и сон. Они применяют к нам общечеловеческие мерки и совершают при этом грубейшую ошибку – к России неприменимы все эти стадии роста! Им этого не понять – они чересчур христиане даже в своем атеизме, но вы-то русский! Как вы можете быть таким наивным и благодушествующим?! Где вы живете, что вы читаете, слушаете, философ?!
– Илья – оптимист, – сказал Андрей, подливая всем коньяк. – От него всегда веет оптимизмом и здоровьем.
– Ну, хорошо, – проворчал Илья, бросив на Андрея сердитый взгляд, – свою точку зрения я изложил, а вы можете доказать свое утверждение?
– Видите ли, – холодно ответил Игорь, – чтобы понять вашу концепцию, достаточно знать диамат и политэкономию в университетском объеме, а для того, чтобы почувствовать особенность, исключительность России, надо иметь внутреннее чутье и неизмеримо больше знать.
Илья почувствовал, что во рту у него пересохло, и разом опрокинул свой коньяк – Андрей не верил собственным глазам.
– Я охотно признаю свое невежество, ибо никогда не занимался историей, – покраснел Илья, – но ведь можно… вы не могли бы изложить основные факты? Если бы у нас сейчас проводились массовые репрессии, то в университете было бы, вероятно, известно…
– Ну, если вам не известно, то отчасти этому есть оправдание – вы ведь даже приемника не слушаете? – Игорь встал и откровенно посмотрел на часы. – У меня нет ни времени, ни желания заниматься ликбезом. Я пойду, а то мне завтра на службу, – добавил он, обращаясь к Андрею, и, кивнув не столько Илье, сколько столу, вышел.
Андрей последовал за ним, но вскоре вернулся и мягко сказал:
– Ты не реагируй на него, он хороший мужик. Бывает иногда резок, но… видишь ли, ты ему на больную мозоль наступил – его самого год назад за демонстрацию пятого декабря выгнали с истфака…
– И что он сейчас делает? – побледнел Илья.
– На каком-то заводе работает не то наладчиком, не то настройщиком, в общем, что-то там с приборами делает. Он же спец в ентом деле.
«Демонстрация, завод» холодом отозвались в груди – Илья представил себе токарный цех, в котором после восьмого класса проходил двадцатидневную практику: шум, грязь, мат, муки ранних вставаний…
– Он учился в бауманском, но на втором курсе понял, что не туда попал, и бросил, – говорил Андрей, – его загребли в армию, отбухал три года и поступил в МГУ. Так-то.
– А что это за факты, про которые он говорил? Я мог бы с ними познакомиться?
Андрей пожал плечами.
– Ну, это не перечень, разумеется… Он имел в виду, видимо, в основном, советский период. Тут, знаешь ли, забавные казусы случаются. «Мы больше всех в мире читаем» – и в метро, и в автобусах, а спроси нашего грамотея, когда началась вторая мировая война, скажет – в сорок первом. Но это так – к слову, у меня бывают иногда любопытные материалы, беда только в том, что их надо срочно читать.
– Что же ты раньше мне… меня…
– Извини, старик, но ты сам не очень-то интересовался. Но теперь, если что, я буду звонить.
– Черт возьми, как я тебе обязан! – сказал Илья горячо. – Ведь у меня к тебе было два дела, а теперь еще и третье образовалось. Не знаю, чем я…
– До чего ты щепетилен, старина, – прямо тошнит. И откуда ты такой? Никак не можешь по-русски – без церемоний.
– Ну, хорошо. Видишь ли, я хотел бы пригласить, вернее – привести к тебе несколько своих знакомых, показать твои работы… Да и вообще, можно было бы устроить неплохую вечеринку… Дело в том, что двое из них – особы женского пола и весьма очаровательные, насколько я понимаю…
– А что я говорил про блондинку! У меня нюх, я сразу почуял, – рассмеялся Андрей. – Наш друг-философ думает устроить вечеринку с участием очаровательных особ! В чем же дело? Ты же знаешь, меня хлебом не корми, а компанию подай. Кстати, кто они, если не секрет?
– Поляки. Приехали на год изучать литературу, язык… Если бы ты пригласил Инну, или кого еще из поэтов, актеров… Девушки поют под гитару, да еще как!
– Это не проблема, – сказал Андрей, – поэтов у нас как собак нерезаных, хотя я, конечно, рассчитываю на Инну. А когда ты себе мыслишь мероприятие?
– Хорошо бы дней через двадцать.
– Идет, я позвоню тебе после праздников. Кстати, а что ты делаешь шестого-седьмого? Может, придешь?
– Спасибо, но я еще не знаю… Боюсь, что я не совсем свободен…
– Ну, старик, ты меня заинтриговал своими полячками, – сказал Андрей, усмехаясь в бороду.
– Собственно, – продолжал неуверенно Илья, – второе дело тоже связано с ними. У них на днях день рождения – они близняшки, – и я бы хотел что-нибудь такое подарить… Один подарок я уже купил – альбом русской музыки, ну, ты наверняка знаешь, а вот второй… Я буквально с ног сбился – такая проблема, оказалось!
– Что-то мне страшно захотелось взглянуть на них, – хитро прищурился Андрей.
– Да, да, конечно, мне тоже. Но что делать? Я за два дня исходил магазинов больше, чем за всю свою жизнь, а результаты… Такая все пошлость.
– Представляю, представляю. Надо подумать, – посерьезнел художник. – А каковы они по складу, особенно эта, которая?.. Что предпочтительнее – модерновое или… Впрочем, молодые девки…
– Видишь ли, – поспешно перебил друга Илья, – они католички, а она так просто ревностная, да и модернизма у них в Польше хватает… Может быть, что-то из твоих работ?
– А что, меня ты относишь к кватрочентистам? – рассмеялся Андрей.
– Ну, если не к Возрождению, то во всяком случае к классикам, – пошутил Илья, оправляясь, наконец, от смущения, и серьезно добавил: – Твои «Меланхолия» и «Гордыня», да и вся серия настроений – «Грезы», «Воспоминания» – именно то, искусство. Впрочем, не берусь судить о живописи, да и личные симпатии… – говорил Илья, подходя к полотнам.
– И все-таки, я уверен, – немедленно нарушил он обещание, – теперь при всех успехах кино, телевидения и цветного фото, вам, художникам, во внешнем мире делать нечего, надо лезть в подсознание… Однако, замолкаю, пристыженный тенью Инны…
– Валяй, валяй, не стесняйся! И поменьше слушай Инну – она чересчур пристрастна к тебе. Другое дело, художники всегда занимались внутренним миром человека, вопрос скорее всего в том, как они это делали и как надо.
– Не надо, не уводи в сторону, Андрюша. Занимались, конечно, но не специально, не прямо, так сказать…
– А как это прямо? В отрыве от окружения, среды, что ли? Опять ты за свое? Вырвать человека из среды, поместить под стеклышко и рассматривать в микроскоп, да еще и раздражать чем-нибудь?
– Черт возьми, опять мы спорим! Странно, мы всегда спорим, а чувствуем почти одинаково. Например, я чувствую, что именно так тоска должна отличаться от меланхолии, как у тебя.
Илья подвинул картины друг к другу и продолжал рассуждать вслух:
– В самом деле – меланхолия яснее, отчетливее тоски, которая словно затуманена. Но у тоски краски гуще, она раздражает, вызывает неприятное ощущение, в то время, как меланхолия может быть приятной… именно – краски гармоничнее…
– Фу, ты, дьявол! – проворчал Андрей. – Мне не по себе от твоих рассуждений. Все это, может быть, и так, но если в такой степени очевидно, если не остается тайны… тогда, значит, мазня. Ну тебя к черту, ты не представляешь, как больно задел меня!
– Что за чепуха! Ведь это я анализирую мои ощущения, а ты можешь, если уж так боишься, работать слепо, или, как говорят, – по наитию…
– Старик, а почему бы тебе не подарить ей икону, – неожиданно сказал Андрей. – Она религиозна… Смотри, в этом что-то есть.
Андрей достал икону величиной с книгу и протянул Илье.
– Конечно, это не старое письмо, но довольно приличное и в хорошем состоянии. Уральская школа…
Илья посмотрел на икону, и мысль его заработала.
Символ православия! Если она примет ее… это будет значить… Впрочем, ничего определенного – просто доброе предзнаменование. А если отвергнет? Тогда никакой надежды, тогда конец – оставить и все! Она, разумеется, моментально поймет тайный смысл… Боже, не поставит ли он ее в дурацкое положение, когда нельзя ни принять, ни отказаться? Зачем так сложно – она поступит инстинктивно, он подсмотрит ее естественную реакцию!
– Хм, ты, кажется, попал в точку! – сказал Илья. – Лучший подарок вряд ли можно было придумать, если, впрочем… Ну, да ладно.
Глава Х
На стопке книг, прислонившись к стенке, светилась золотом «Божья матерь с младенцем», белые хризантемы с пунцовыми гвоздиками в двух кефирных бутылках источали праздничные флюиды. Провалявшись лишних полтора часа в постели без каких-либо угрызений совести, даже не вспомнив о толике ежедневной пользы для Человечества…
Читатель, я обещал быть беспощадным, и я сдержу свое слово: он потратил на сборы добрых шесть часов! Начал с открыток и убил на них два часа! Пустячное дело, на которое, я уверен, вам понадобилось бы ровно две минуты, он растянул на два часа. И не только потому, что какая-то умственная грань его была безнадежно тупа, но и потому еще, что относился ко всему чересчур серьезно (возможно, для некоторых это свидетельствует все о той же тупости, я спорить не стану). Вначале его потянуло на стихи, и он написал две строчки для Барбары, после чего задался вопросом, что он, собственно, хочет каждой из них сказать. Надписи должны были отличаться в той степени, в какой они не похожи, и отражать его отношение к ним. Все это требовало осмысления, на что и ушла большая часть времени, ибо нежная ткань образов рвалась под грубыми пальцами слов.
Затем он гладил костюм через тряпочку, смоченную в мыльной пене, чтобы не лоснились локти и карманы, изгонял морщины на брюках и рукавах, чистил остроносые легкие английские туфли, утюжил полосатый галстук и приталенную цейлонскую рубашку… Когда все аксессуары, изначально свежие, раскинулись на диване как женщина, ожидающая мужчину, он отправился в душевую мыть, скоблить свою оболочку. И наконец: одевание – этот трепетный ритуал созидания, творения совершенства. Нарастающее чувство чистоты и гармонии, упругой, едва сдерживаемой силы, «небрежное» изящество асимметричного узла галстука и белее девственного снега платочка в нагрудном кармашке пиджака, которое обходится в двадцать минут… Впрочем, на платках стоит остановиться особо. У него их было три. Первый, тот что был в кармане брюк, можно назвать «функциональным», назначение его понятно всем. Второй – во внутреннем кармане пиджака – имел смешанное: «функционально-символическое» назначение – касаться высокого чела, – и еще одно, весьма романтического свойства – ждать, когда он понадобится кому-нибудь из дам. Третий – белее девственного снега – о котором мы уже говорили, имел сугубо символическое назначение, никому, впрочем, не известное. Он был тем последним штрихом, завершающим мазком, который отделяет совершенное творение от несовершенного. Между прочим, именно последний, как самый бесполезный, требовал к себе наибольшего внимания.
Казалось, он хрустел и поскрипывал в своей безукоризненной чистоте, когда, открыв дверь и не узнав комнаты, он хотел отпрянуть и проверить номер, однако во-время разглядел знакомые лица и вошел. Хозяев не было видно, как и в тот раз. Пристроив свои пальто и сумку, Илья присоединился к особняком стоявшей группе, из которой его позвали Карел и Олег. Высокий крутолобый парень с ярко-красным ртом, в замшевой куртке, по-английски рассказывал, чем отличается good girl от pretty girl, сильно щеголяя американским r. Его слушали со снисходительной рассеянностью, но смеялись дружно и громко, бравируя принадлежностью к касте «English speaking people». Илья заразился общим настроением и рассказал длинный анекдот про миссионера. Его выслушали, посмеялись и зачислили не без некоторых колебаний в англоманы. Они все принадлежали к «штатникам», англоманам, италоманам и просто хиппи. Что касается Ильи… – у него было почти оксфордское произношение с некоторой примесью Вылоса Кановера; внешность его была чересчур чопорной для американца, но и не вполне британской: узел галстука асимметричный и небольшой, пуговицы «на четыре боя», но пиджак не твидовый и кончики воротничка не застегивались, зато туфли – английские и платочек вложен небрежно… впрочем, лучше бы его не было совсем… Итак, не без колебаний его зачислили в англоманы; теперь с ним можно было обмениваться язвительными замечаниями по адресу «прочих», а после первой рюмки перейти на «ты».
Илья оглядел комнату. Она была преобразована до неузнаваемости: кровати разобраны, спинки вынесены, а сетки сложены по две, накрыты матрасами и застелены покрывалами; стол отсутствовал, зато кресел было четыре. И освещалась она по-другому – двумя настольными лампами с книжных полок, так что по углам оставались интимные сумерки. Занавеска, прежде делившая комнату, теперь превратилась в гардину и скрывала, казалось, огромное, во всю стену, окно с видом на горы, море… Илья вполне освоился, однако момент, к которому он столько готовился, все не наступал, и, остановив проходившую Таню, он спросил, где сестры.
– Иди сюда, – потянула она его за собой, – они в соседней комнате. Там у нас стол – мы решили разделить стол и танцы.
– Отлично будет плясать рок, – сказал Илья, с удивлением отмечая, как изменилась и похорошела девушка: в прическе и одежде ее ощущалось прикосновение не лишенной вкуса руки.
Переступив порог соседней комнаты, Илья мгновенно забыл свою роль. Барбара воскликнула: «Ах, какой денди, какой пижон!» и чмокнула его в щеку. Он подхватил ее за талию и покружил. «И меня, и меня!» – по-детски завизжала, хлопая в ладоши, Лариса. Он покружил и ее. Анжелика стояла чуть-чуть в сторонке от поднявшейся кутерьмы, и улыбка ее говорила: «Конечно, я не стану так изливать свои чувства, но и я рада вас видеть». Ему показалось, что она задержала его руку в своих холодных пальцах, и надежда теплой волной прокатилась по телу.
– Я вам кое-что принес, – сказал он, поспешно наклоняясь к сумке.
– Потом, потом, нас там ждут, – пыталась остановить его Анжелика, но Барбара притворно захныкала:
– Нет, пусть сейчас, мне спешно хочется знать, что там.
– А мне не терпится воспользоваться своим правом, – говорил Илья, извлекая хрусткие кульки с цветами, подарки, передавая их сестрам и целуя каждую в щеку.
Какими разными могут быть два совершенно одинаковых, невинных поцелуя!
Девушки рассматривали подарки и читали открытки, а он рассматривал их. Барбара, в темном платье, с подкрашенным лицом, казалась ему неправдоподобно красивой – как западная открытка модного курорта. Анжелика, в белом платье, с распущенными по плечам волосами и нетронутым косметикой лицом, – непорочной весталкой.
Барбара, выразив преувеличенный восторг, тут же забыла о своем подарке – вниманием всех завладела икона.
– Matka Boska, как красиво! – воскликнула Анжелика, светясь золотистым счастьем. – Настоящая русская икона.
– Она не старая – XIX век, – пояснил Илья, распираемый гордостью, – но хорошей уральской школы, сохранившей византийскую манеру письма.
– Я увезу ее домой и повешу рядом с распятием, – сказала Анжелика, лаская его бархатистой зеленью глаз.
Потом их надолго разделило застолье. Она оказалась довольно далеко, он ловил ее взгляды, и настроение его поминутно менялось: потихоньку катилось вниз, взмывало и снова падало. Разумеется, именинниц упросили петь. Она пригласила его взглядом, но он отказался – чересчур было много народу, чересчур велика дистанция… Пели они хорошо, но без вдохновения «арбузного» вечера. Илья страдал, когда чувствовал себя «одним из», был счастлив, если различал в ее улыбке личное, и не переставал обдумывать свою речь, то есть повторял первую фразу: «Нечестно было бы скрывать от вас…»
Наконец пошли в другую комнату танцевать, но к сестрам было не так просто пробиться. Илья, выдавив из себя улыбку, указал на это обстоятельство Карелу и очень удивился, когда поляк равнодушно пожал плечами. Особенно усердствовал парень в замшевой куртке. Илья совсем приуныл, и вдруг она сама подошла к нему: «Тебе скучно? Слишком много гостей?» Он мгновенно захмелел и, не ощущая ритма, не слыша мелодии, заговорил:
– Было бы нечестно скрывать от вас… Дело в том, что я вложил в подарок тайный смысл… и, когда вы сказали, что повесите ее рядом…
– А-а-а, понимаю, – бомба с часовым механизмом, – рассмеялась она.
– Я надеюсь, – мягко и серьезно возразил он, – что она не разрушительная, а созидательная.
– Разве бывают созидательные бомбы? Но пусть бывают, але я все-таки боюсь.
Его серьезная настойчивость нагнала легкие облачка на голубое небо ее взгляда, улыбка почти исчезла, осталась слабая тень, омраченная тревогой.
– Нельзя ли извлечь тайный механизм? Он лишит меня покоя.
Он не понимал, что она обо всем уже догадалась, и твердо решил довести свою мысль до конца. Но мысль была такой мучительно сложной, что никак не укладывалась в ясную форму.
– Видите ли, Анжелика, я не религиозен, совсем, даже, пожалуй… воинствующий атеист. Не в том смысле воинствующий, что нетерпим, но я не могу верить, потому что верю в разум… Правда, это не есть вера в теологическом смысле, хотя, конечно, в своем роде… Впрочем, вы представляете мои взгляды… Я хотел только добавить, что не верю в Творца, в нематериальную субстанцию… Хотя, должен признать, очень трудно обосновать всеобщность нравственных принципов, не ссылаясь на их надчеловеческое происхождение… пока, я уверен…
Вначале улыбка ее растаяла, превратилась в слабый отблеск и ускользнула куда-то, потом мелькнула тень, легкая, как на лугу от облака, и с нею в лице появились линии, очерченные резче, решительнее. Одно мгновение в нем было все: мягкое и гордое, доброе и упрямое, нежное и жесткое, но уже в следующее – твердые черточки проступили и возобладали. Он заметил и в панике обрел ясную решимость:
– Однако, я могу понять желание иметь над собой могущественную и добрую силу, значит, и во мне оно есть. И вот эта слабая частица моей души хотела бы какого-то таинства, которое связало бы нас… свыше… то есть более прочно… Поэтому, икона эта – не просто произведение искусства… Вы принимаете ее с таким смыслом?
Длинную речь свою Илья начал во время танца, а закончил в одном из сумеречных углов. Анжелика сидела на диванчике, открыто и просто положив руки на колени, а он, придвинув кресло и стараясь не мешать танцующим, оказался совсем рядом. Она подавила как зевок насмешливую мысль: «Объяснение философа» и серьезно покачала головой: «Нет, так не могу ее взять». Он лихорадочно заговорил:
– Но почему?! Разве есть какое-нибудь непреодолимое препятствие? Впрочем, – он замолк и невнятно пробормотал, – на такие вопросы не отвечают…
– Правда, трудно отвечать, але все-таки попробую, – сказала она, и он внутренне сжался, как щенок под замахнувшейся рукой.
– Мы никогда никому не говорим этого, но тебе я доверяю. Тебе это странно покажется, но я католичка и сестра тоже (почему? он давно освоился и даже находил в этом что-то привлекательное), и для меня принципы моей веры важнее всего на свете. В нашей семье все верят, и папа, наверное, сильнее всех; хотя он коммунист и вообще ученый, большой человек, але часто ходит с нами в костел… Вы здесь не понимаете хорошо, какое притяжение имеет для нас церковь, особенно для сопротивления национального духа…
Интонация и взгляд ее умоляли его не сердиться, войти в ее положение; ему же, напротив, становилось легче с каждой секундой, ибо все, что она говорила, означало только одно: он не противен ей!
– Потом, папа… он для нас второй бог на земле, а он… – она сбилась и вдруг положила руку на его запястье, словно предотвращая взрыв возмущения, – а он воевал против вас, и тоже – дед, его отец.
Он накрыл ладонью и сжал ее кисть.
– Это было давно, все так изменилось… – сказал он мягко, почти с укором.
– Так, але мы потеряли поместье, дом, все…
– Мир изменился, сейчас не это главное…
– Он так ревновал, когда мы ехали сюда, и грозился убить, если что-то нечисто… Он ненавидит Россию, говорит, самая большая опасность, хуже Германии, потому что славяне и легче ассимилировать; але тоже невозможно! – в глазах ее вспыхнул вызов, – мы всегда боролись против деспотизма!!
– Но ты, Анжелика? Ведь ты ехала сюда изучать язык, литературу… Неужели ты тоже ненавидишь нас?
– Нет, нельзя сказать… Спокойнее смотрю, чем отец. Але многое плохо влияет на меня: почему так плохо идет почта? Почти месяц не получали. Почему люди очень грубые? И другое, многое… не могу все рассказать, что уже заметила. Могу только ясно сказать, что никогда не смогла бы жить здесь, в России.
Что-то мелькнуло, свистнуло и отсекло ему руку. Он еще не чувствовал боли и тупо смотрел, как на гладком срезе проступает кровь.
– Вы видите, – слабо улыбнулась она, – я не могу принять вашу веру, и хорошо, если вы не искушаете меня…
А боли все еще не было. Мозг механически отмечал и даже восхищался легкими неправильностями ее речи; отметил и то, что она снова сбилась на «вы». Или нарочно перешла? Ну, конечно, – прохладные дружеские отношения. «Никогда не смогла бы!» Зачем так жестоко, резко?! Тут только он ощутил боль; ему по-детски, до всхлипываний вдруг стало жаль себя. Это заставило его открыть рот.
– Да, я понимаю… – с трудом выдавил он из себя, с ужасом ощущая, что сказать ему нечего, что он безнадежно пуст и туп, – но не можете ли вы принять ее в качестве талисмана? Она должна принести вам счастье… потому… потому, что я очень этого хочу.
Скажет сейчас: «Не надо, Илья, лучше не надо», да еще жалостно, и…
– О, конечно, как талисман и прекрасное произведение искусства! – с подозрительной готовностью откликнулась она. – Большое спасибо!
Уж не собирается ли она жалеть его? Илья нахмурился и суше продолжил:
– Я забыл сказать, это был маленький сюрприз: мне удалось достать билеты на концерт, хороший, по-моему: Скарлатти, Корелли, Тартини, Вивальди в исполнении оркестра Баршая… Я надеюсь, это не помешает нам сходить? Жаль только, что два билета…
Он исполнял пустую формальность, ибо приговор был уже известен. Оставалось немногое – с достоинством встретить неизбежное. Он был готов к нему и все-таки с ужасом ждал вежливое: «Я вам очень благодарна, но…»
Что касается Анжелики, она чувствовала большое облегчение, почти гордость, свершив самое трудное, самое болезненное. Предстоял последний шаг, последний жест, но разве он так уж нужен? К чему жестокость? Разве она не заслужила право на великодушие, проявив такую силу, такое самообладание? Как жаль, что отец не слышал ее! Прекрасный концерт, и он купил билеты еще до… Развлечение, в котором она не отказала бы, наверное, никому…
– Да, конечно, с удовольствием! – воскликнула она. – Я слышала этот оркестр в Варшаве, очень элегантный… И программа – хорошо ее знаю, даже играла кое-что. Только Барбару жаль.
Она не сказала «нет». Жалкая, мерзкая жалость! И все-таки ему стало чуточку легче.
– Да, вот еще что, – продолжил натянуто он, – я уже обещал, но вы, разумеется, можете отказаться… Я хотел бы всех вас троих познакомить с моим другом – художником. У него, на мой взгляд, очень интересные работы. Я считаю (не подумайте, будто я хвалю его), что он очень талантлив. Кроме того, у него бывают поэты, артисты, музыканты… в общем, любопытно…
– Заманчивая идея! – живо откликнулась Анжелика. – Сестра примет с восторгом. У нас в Кракове тоже были знакомые художники, але мало – больше скучных ученых…
Он хмурился и покусывал губы: ее энтузиазм отчетливо попахивал фальшью. Для него самого вечеринка у Андрея вдруг лишилась всех ароматов и красок, значит, Анжелика хочет утешить его… Еще предложит дружбу…
Он решительно встал и, пробормотав что-то невнятное насчет дел, распрощался. Несколько танцующих пар как тени расступились перед ним, однако, вызволить пальто с сумкой оказалось не так просто: человек шесть, приколов к дверце шкафа лист бумаги, развлекались тем, что коллективно пачкали его толстыми – с детскую ручонку – фламастерами. У Ильи в качестве отступного потребовали свежую идею. Пока он смущенно поглаживал переносицу, Барбара сняла готовый шедевр и приколола чистый лист бумаги. Илья взял черный фломастер и нарисовал лысую мужскую голову в очках, а сверху придавил ее страшным вопросительным знаком. Идею тут же подхватили. Парень в замшевой куртке нарисовал роскошную машину, кто-то – орден, Олег-филолог – надгробный камень, Барбара – женскую головку, а Карел – розового, орущего младенца и кастрюлю. Поставив затем на свободные места автографы, шедевр торжественно вручили Илье. Он взял, грустно поблагодарил и отправился домой.
Было не так уж поздно, но глухая, захолустная темень безраздельно владела миром. Моросило мелко и подло – не сверху, а откуда-то снизу и сбоку, все время норовя в лицо. Он сутулился, горбился, пряча «шедевр» под полой, и вдруг увидел себя помятым, небритым, опустившимся… Как он мог даже на мгновение допустить, что такая девушка… А эти дурацкие намеки, облеченные в высокопарную форму… Фу, какой стыд! Он попытался даже убедить себя, что не только отвергнут, но и вышвырнут: «тоска, хандра, буду пить, хорошо бы собаку купить», – тихонько подсказало Я, – а через двадцать лет – сцена из «Земляничной поляны»: одинокий, близорукий, дряхлый книжный червь».
Заметив, что попало в нужный тон, Я продолжило: «Темно, холодно, скорбно – совсем как в «Войне и мире» – природа вполне гармонирует с настроением героя, жизнь потеряла всякий смысл, всякое содержание… Впрочем, кое-какие шансы все-таки есть: герой бросает науку, покупает каждый день цветы, встречает у общежития, старается подать что-нибудь, услужить… Со временем он становится другом семейства, преданным, верным, почти членом семьи…»
Илья поморщился: нет, нет, никогда. «Тогда будь мужчиной – порви разом и навсегда», – жестко потребовало Я.
– Глупо. Я хочу видеть ее, слушать вместе музыку, петь… Я не могу без нее!
«Ты просто жалкий, слабый слизняк! Ты не можешь перенести ясного, определенного «нет». Ведь сказано «никогда не смогла бы», так нет, ты готов ухватиться за милость – была бы только надежда на надежду».
– У меня нет никаких притязаний. Только видеть ее время от времени…








