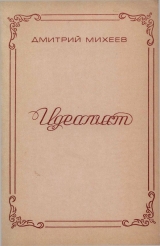
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Они договорились, что Илья приедет завтра вечером, так как днем у него встреча с шефом, к которой надо еще подготовиться.
Глава VII
Научный руководитель Ильи, по-аспирантски – шеф, Артемий Александрович Галин, был профессором кафедры философии естественных факультетов МГУ. Крестьянский сын, он родился уже при советской власти и служил ей, как мог, всю свою жизнь. Семья была огромной, работать начинали с самого раннего детства, ходили в лаптях еще в пятидесятые годы, а голодали и в голодные и в неголодные. Пахать бы землю и Артемию, да умер – сгорел в пьянках – отец, и распалась, разбрелась семья: кто в детский дом, кто умер. Он же пятнадцатилетним подростком пошел в областной город на завод. Там завертело его: работа, учеба, комсомол, субботники, ОСОАВИАХИМ… – жизнь голодная и надрывная, а все-таки жизнь. Он уцепился за нее мужицкой хваткой. Закончил десятилетку, был избран секретарем комсомольской организации цеха, научился говорить хлесткими фразами, научился организовывать, и путь по комсомольской линии открылся перед ним широко и призывно, да началась война. Явился добровольцем в первый же день, политруком прошел войну и вернулся капитаном. Направляли его в академию, да уж больно опротивела ему шинель с сапогами. Была у него сокровенная мечта, и неожиданно для боевых друзей поступил он на философский факультет университета. Учился он изо всех сил, не оставляя и партийной работы, и в середине пятидесятых годов защитил кандидатскую диссертацию. На новой волне диалектического материализма он быстро вознесся в ранг доктора и профессора, но дальнейшее продвижение замедлилось: прошло время лихих кавалерийских рейдов по тылам «буржуазных» наук, прошло время и их реабилитаций. Настала пора подкопов и дальних обстрелов (по всем правилам долговременной осады), и пришлось многим метрам диамата, знакомым с Кантом и Гегелем, в основном, по ремаркам Ленина, хорошо усвоившим их «ошибки», заново штудировать классиков. Приподнялся «железный занавес», пошли контакты, поездки, неизвестно откуда появился и стал играть ощутимую роль новый фактор – «авторитет за границей». Роль партийных добродетелей чуточку ослабла, возникли течения и «школы».
Галин читал лекции и вел семинары по философским проблемам физики в группе физиков-теоретиков – где еще, как не среди них, было искать кадры для собственной «школы». Тут он встретил Снегина, которого частенько видел на философском кружке. Этот кружок возник на физфаке в 1962 году, когда группа молодых философов из разных институтов Москвы пришла к физикам, чтобы в свободных дискуссиях поднять их философский уровень, привлечь внимание к назревшим проблемам и, чем черт не шутит, чему-нибудь научиться у них – на чем-то же зижделось их кастовое высокомерие. Молодые римляне учили сплеча рубить философские узлы, а мудрые греки покачивали головами, разжигали дискуссии и пытались уловить в самоуверенных голосах нотки мировоззрения будущего. Им надоело это довольно быстро – кружок просуществовал около года, однако в летопись филфака он вошел как значительное событие. Дискуссии, в какой бы отвлеченной форме они не проходили, неизменно подрывали монополию любого мировоззрения на единственно верное суждение.
Кружок развил у Ильи вкус к философии и породил твердое убеждение, что в теоретической физике ничего нельзя сделать без основательной философской подготовки: его поразила высказанная одним философом мысль, что советские физики потому и не сделали ни одного фундаментального открытия, что закоснели в своем мировоззрении. После безвременной кончины кружка он стал посещать университетский научный семинар, почитывать философский журнал и штудировать классиков. Таким образом, на пятом курсе, то есть к моменту встречи с Галиным, он мог уже изъясняться на философском языке и понимать трагическую сущность утверждений физики о том, что одно и то же тело может одновременно находиться в разных точках пространства, что одновременности вообще не существует, что в природе совершаются мгновенные скачки из одного состояния в другое, что существуют неделимые порции энергии и т. д. Он единственный на пятом курсе не содрал курсовую работу (благо заниматься этим можно было совершенно безнаказанно) и даже высказал пару оригинальных и безусловно крамольных мыслей. Несмотря на крамолу, Галин счел необходимым поощрить Снегина и вытащил его на университетский семинар. Илья выступил; дискуссия вышла на редкость оживленной – высказались все, даже старик с прозрачным взглядом и вечно плачущим носом. Голоса его никто никогда не слышал, говорили только, что он озабочен возможностью аннигиляции мира и антимира. Илья смущался, путался в терминологии, вообще выглядел неуверенным, но тем смелее и увереннее чувствовала себя аудитория. Участники семинара разошлись в приподнятом настроении, чего нельзя было сказать о Снегине – он был подавлен собственным невежеством и нахальством. Тем приятней и неожиданней оказалось предложение Галина, сделанное ему вскоре после выступления, писать у него дипломную работу, а возможно, и – диссертацию.
Илья пришел после обеда, когда на кафедре можно было спокойно поговорить. Артемий Александрович поднялся навстречу и подал внушительную для своей невысокой, но коренастой фигуры руку. Кивнув на стул, он без единого вступительного слова (и тут в нем сказывался политрук) перешел к делу:
– Ну, как ваши отношения с господином Слитоу?
Илью всегда обескураживал такой подход шефа – ему казалось, что от него ждут какой-то цифры или короткого «так точно!». Поэтому на сей раз он заблаговременно подготовился.
– Ничего, мирное сосуществование при идеологических разногласиях.
– А, хорошо, – улыбнулся шеф, – только надо, чтобы в результате от идеологии этого господина не осталось камня на камне, – перефразировал он модный анекдот.
Мысленно поморщившись, Илья половинчато улыбнулся. Затем он коротко изложил суть работы англичанина, подчеркнул ее слабые места и показал, в каких пунктах теоретическая физика дает основания для других толкований.
– Слитоу считает, – говорил он, – что, поскольку элементарную частицу нельзя изучать, не воздействуя на нее, то мы не можем выяснить свойства невзаимодействующего объекта – в данном случае «частицы самой по себе». Она, таким образом, является «вещью в себе», недоступной для познания, ибо как только мы «беремся за нее», она либо изменяется до неузнаваемости, либо вообще перестает существовать. Следовательно, где-то на уровне элементарных частиц и лежит принципиальный порог познаваемости мира.
– Но, это уже субъективный идеализм, – веско заметил Галин.
– По мнению Слитоу, – продолжал Илья, – существует целый «мир в себе» – мир, в который мы не вторглись своим разрушительным познанием.
– Да, субъективный идеализм в современной личине, – удовлетворенно констатировал Галин и перестал слушать своего аспиранта; он немного устал да и не было особого смысла вникать в детали.
Между тем Илья говорил о том, что правильное истолкование кантовской «вещи в себе» ни в какой степени не ограничивает познание реального мира, поскольку он взаимодействует с нами; если мы и ограничены, так только в познании… собственных фантазий. Более того, кантовский взгляд на пространство-время представляется ему наиболее плодотворным при решении основных парадоксов теоретической физики…
Галин встрепенулся, за стеклами в золотой профессорской оправе вспыхнул огонек классового сознания.
– Нам не выбраться из болота всех этих парадоксов, пока мы не сбросим с глаз своих катаракту единого, объективного пространства-времени. Вы знаете, я попытался ввести понятие собственного пространства-времени частицы… такие захватывающие перспективы открываются! Нелокализуемость и принцип дополнительности как бы выворачиваются наизнанку – совершенно другой подход, и очень плодотворный, как мне кажется. Вот, например, как снимается парадокс…
– Одну секундочку, Илья, – мягко оборвал его шеф. Ему хватило одной минуты для того, чтобы не только распознать надвигающуюся опасность, но и представить себе, какой переполох, какую сумятицу они подняли бы среди философов… Конечно, ничего путного все равно бы не вышло, но голову всем можно было бы заморочить не хуже Татищева. Сенсация, крик… На Западе поддержка, в Академии замешательство – неизвестно, что и делать, как бороться. Чепуха, за три месяца в порошок сотрут, Абрамсону партийное поручение, через два месяца разгромная статья в «Вопросах», а за ней набросятся сворой… Он даже вообразил себя (на одну секундочку) эдаким героем-одиночкой, но тут же отогнал химеру, наваждение. Юношу надо немедленно одернуть, поставить на место, пока не поздно, однако, не убивать, оставить надежду.
– Не хочу сейчас касаться существа ваших заблуждений: время позднее да и вопрос большой, – заговорил он тем убийственным тоном мудрого и доброго учителя, который никогда еще не подводил его, – если хотите, мы встретимся специально в ближайшие же дни, хотя характер они носят, можно смело сказать, классический – во всяком случае, в литературе разобраны довольно подробно. Не думайте, что вы первый – были такие попытки не только за рубежом, но даже у нас, но, надо прямо сказать, заканчивались они неизменным фиаско. Стоит человеку оторваться от основных принципов диалектического материализма, как он начинает беспомощно барахтаться и вскоре тонет.
– Но я могу доказать, – вспылил Илья, – что основные принципы диамата противоречат некоторым основополагающим принципам квантовой механики!
– Я знаю, что вы имеете в виду, – сказал, не дрогнув, Артемий Александрович и, сняв очки, потер щепоткой усталые глаза, – но это только кажущиеся противоречия, вытекающие из незавершенности квантовой механики. Вспомните доклад Телецкого…
Тут Галин просчитался, ибо времена, когда Илья едва лине боготворил вкрадчивого профессора кафедры теоретической физики, всю жизнь штопавшего свое механистическое мировоззрение, давно прошли. Ссылка имела прямо противоположный результат: Илья поморщился и пожал плечами, что не замедлил отметить и исправить Галин:
– …или работы школы Де Бройля. Вы заметили, как усилилось их влияние? В общем, к этому мы еще обязательно вернемся, а в заключение нашей сегодняшней беседы я хотел бы поговорить о делах более прозаических – о вашей диссертации. Все ли у нас тут благополучно? Ведь осталось чуть более года.
Профессор с удовольствием отметил, что вполне достиг своей цели: пятна смущения вспыхнули на щеках аспиранта.
– Разве есть основания для беспокойства? – спросил Илья, чувствуя за собой неясную вину – была какая-то неприятная работа, которую давно надо было начать, а он все откладывал и откладывал.
– Н-нет, пока нет. У вас уже есть две публикации, эта может стать третьей, если все пойдет, как я рассчитываю. Таким образом, материала для защиты у вас будет уже достаточно, и вам останется только написать первую и последнюю главы, в которых вы должны расставить все акценты, подчеркнуть бесперспективность главных идеалистических концепций…
Шеф начал одеваться, продолжая говорить о предстоящем выступлении Ильи, об автореферате, о контактах с оппонирующей организацией и сотне разных формальностей. «Это я возьму на себя, а об этом вам придется похлопотать самому», – говорил он, неспешно надевая пальто с каракулевым воротником и каракулевую же «москвичку» пирожком. На глазах подавленного Ильи защита диссертации разрасталась в грандиозное мероприятие, в которое были втянуты десятки людей, обставленное кучей непостижимых формальностей, полное «общественного звучания»… Оно вползало в его жизнь как бульдозер – в садик разрушенного домика, круша милые, взлелеянные кустики, цветочные клумбы и яблони.
Он проводил шефа до главного входа, где стояла его «Волга», и, несмотря на холод, пошел в обход зоны Г.
Так тяжело, так мерзко было на душе, что не хотелось не только ехать куда-то, а вообще двигаться. Он пришел к себе, бухнулся на диван и лежал без движения час, а, может быть, два, пока не схлынула волна отвратительной опустошенности.
В конце концов Галин не сказал ничего по существу, сплошные намеки и неубедительные ссылки. Он просто трус и консерватор, боится сделать шаг в сторону от догматов. Всю жизнь разрушать чужие конструкции, рыть кому-то волчьи ямы и жевать жвачку противоречий и отрицаний, форм существования и борьбы противоположностей… Нажевать кандидатскую, потом докторскую, учить тому же других… Ужас, ужас! Стоило бросать физику! Как наивен, как глуп он был, вообразил, что все только и ждут, когда Снегин изречет последнюю истину! Но ведь есть же рациональное зерно, значит, надо убедить других, и семинар Астафьева – прекрасная возможность. Если же его поддержат два-три человека, то и Галин прислушается. Ну, а если чушь, «классические заблуждения», «детально разобранные в литературе»? Конечно, будет очень жаль, но, если ему вполне корректно докажут, он… впрочем, нет, не может быть все сплошным заблуждением.
Илья встал и начал собираться к Андрею.
Глава VIII
Андрей с матерью жили в небольшом двухэтажном деревянном доме с гулкими допотопными лестницами и скрипучими перилами. Темные, обросшие какими-то пристройками, скамейками и чахлыми садиками, такие домики жались в толпе серых хрущевских и сталинских громадин как старушки в винном отделе гастронома. Тут пахло Москвой Гиляровского и Булгакова, тут рядом с человеком уживалась вся сопутствующая ему фауна: воробьи и ласточки, скворцы и голуби, клопы и тараканы, мыши и сверчки, собаки и кошки… Дома эти подозрительно относились к прогрессу и впускали его нехотя, отчего его удобства странно деформировались и превращались едва ли не в обузу: кладовка не желала становиться туалетом, а чулан – ванной, и каждый стремился сохранить свои функции.
По этой лестнице Илья всегда поднимался медленно и не столько из-за боязни разрушить ее своими прыжками, сколько… нет, он не мог помнить эвакуацию, маленький сибирский городок, печку, дрова и сугробы, но что-то шевелилось в нем и сладко ныло…
Ему открыл бородатый, плотный, чуть выше среднего роста мужчина совершенно свирепого вида. «Мам, поди глянь, кто к нам пожаловал! Давай сюда пальтецо. Ты, как всегда, пунктуален; а ко мне пришел Игорь сказать, что ты звонил; ну, думаю, паршивец, не может без церемоний; сюда, сюда… ну и румянец… ты что – морковный сок пьешь?» – басил он.
– А ты, как всегда, живописен! – отвечал Илья, окидывая друга насмешливо-восхищенным взглядом. На свету в нем не было ничего свирепого: сквозь буйную растительность пробивался добрый улыбчивый взгляд и белая кожа горожанина. Клетчатая рубашка, потертые, в заплатах джинсы, перепачканные краской, тапочки на босу ногу – все, что Илья никогда не позволил бы себе, было не только позволительно Андрею, но гармонировало с покладистым характером, неорганизованностью и склонностью художника к спиртному.
Поздоровавшись с Игорем, Илья обернулся к Андрею: «Что нового? Не женился?»
– Не понял. Что за странный вопрос, старик! Откуда у тебя такие мысли? Тебя случайно не прижали в автобусе к блондинке? Ха-ха…
Вышла мать Андрея – изящная, удивительно молодая женщина. Илья протянул ей букетик и пожал маленькую руку.
– Ой, спасибо; всегда-то вы меня балуете, Ильюша, а вот Андрей…
– Хм, я люблю их, – заторопился на помощь другу Илья, – потому, наверное, что в моей комнате они – единственное украшение, а у него тут целый музей.
Комната художника в самом деле походила не то на запасник музея, не то – на реквизитную театра: рисунки, акварели, картины, эскизы лежали и висели, громоздились в рамах и подрамниках. На одной стене висела поповская ряса с большим крестом на животе, рядом красовалась композиция из бутылок, сигаретных коробочек, серпантина магнитофонной ленты, наклеек, винных пробок и прочей дребедени. В разных местах по стенам висели большие и малые, темноликие и светлые, в окладах и без – иконы. Тут и там на глаза попадались вещи изысканные, вычурные и просто удивительные: старинный граммофон с вывернутой трубой-цветиком, бронзовые и чугунные подсвечники с оплывшими свечами, статуэтки, вазы, маски… Особенно любил Илья кресло с выдвижным книгодержателем на левом подлокотнике и откидывающейся полочкой – на правом, а также – вазу для фруктов, с длинной, как у мака, ножкой (отчего она вечно путалась под ногами).
Илья уселся в свое кресло и вытащил из сумки пластинки: «Как твоя машина, работает?»
– Ну-ка, ну-ка, что ты там притащил? – спросил Андрей, нависая над Ильей. – Ну, ты моло-то-о-к! Сейчас услышишь, каким стал звук, – засуетился он, – Игорь тут фирменный динамик приделал…
Илью резануло «приделал» – у Андрея была редкостная фонотека почти в тысячу пластинок, но в технике он ровно ничего не смыслил (что было забавно, но нисколько не умаляло его в глазах Ильи) – всем заведовал, то есть попросту изготовлял собственными руками, Игорь. В последние годы художник превратился в фанатика джаза, и Илья доставал ему для записи новинки у знакомых иностранцев. Игорь, небольшой неказистый человек в свитере, осторожно выкатил пластинку из конверта и, держа в ладонях так, чтобы не касаться поверхности, поставил ее на массивный диск проигрывателя.
Комната заполнилась поразительными – какими-то сферическими звуками. Илья невольно заслушался – звуки чистые, выразительные: жалобы, бормотанье, приглушенный восторг и раздумье… Он пытался следить за темой, но она выворачивалась и ускользала, он цеплялся опять – она распадалась: монолог саксофона сменял монолог контрабаса, затем взрывался нетерпеливый ударник… Наконец Илья устал и покосился на Андрея. Тот блаженствовал, томился от счастья. Переворачивая пластинку, он воскликнул: «Вот это вещь! Ты чувствуешь фактуру звука? Как звучит! Сдуреть можно!» Пока музыка звучала, он еще как-то сдерживался, но когда пластинка кончилась, заговорил, теребя одной рукой бороду, а другой – описывая трехмерные фигуры:
– Гигант, корифей этот Колман! Вы чувствуете, он буквально сливается со своим инструментом в единый звучащий органон? У меня такое ощущение, что звучит не саксофон, а какие-то инфернальные звуки самого организма усиливаются и выплескиваются наружу…
– Хм, пожалуй, – органическая, я бы даже сказал физиологическая музыка, – улыбнулся Илья, – все это бульканье, взвизгивание, бормотанье, само по себе интересно, но действительно тут говорит организм, а не душа.
Андрей не слушал его, торопясь сформулировать собственное ощущение:
– Космическая музыка; классика – это земное: леса, горы, ручейки, поп – это ритм, окружающий нас – все эти горизонтальные и вертикальные линии, а джаз, настоящий джаз, это другие миры: элегантные, чистые…
– Не омраченные мыслью, – подсказал Илья. Он встал, заметив новую картину, и пошел к ней, добавив, – скажи, а зачем авангардисты отказываются от четкого связующего ритма? Вещь разваливается на куски как…
– А зачем им внешняя искусственная связь? Звуки связаны своей тональностью, окраской – чистой, внутренней связью, глубинным смыслом.
– Ну, смысла тут как раз и нет, – возразил Илья, не отрываясь от картины. – Более или менее случайный набор символов, образов, лишенный содержания… Голая форма, фактура – как ты говоришь.
– Да, набор символов и образов! А тебе нужен набор идей? Да еще обнаженных? Тебе нужна логика, тебе во всем подавай логику! А логики нет в природе, нет в искусстве. Есть поток символов и образов, а логика рождается в твоей яйцеподобной голове, ты набрасываешь ее на природу как удавку и душишь…
– Заврался, братец! – оборвал друга Илья, отходя наконец от картины. – Я не выдумываю логику, то есть – связь явлений, а ищу ее, ищу смысл и тогда только радуюсь по-настоящему, когда нахожу их. А не найдя, недоумеваю и… мучаюсь.
– Если вам что-либо нравится, – отозвался из своего утла с радиоаппаратурой Игорь, – разве вы всегда видите в нем смысл, логику? Может быть, еще и целесообразность?
– Целесообразность? – переспросил Илья, потирая щепоткой переносицу. «Какого черта он выкает? На пару лет всего старше и знакомы давно… За что он меня так не любит?» – А почему бы и нет? Если глубоко вдуматься, то… во всяком случае, в красивом я всегда чувствую присутствие разума.
– Вы говорите об искусстве? – холодно спросил Игорь, развернувшись к столу спиной и положив на него локти, отчего голова его вызывающе запрокинулась. – А как быть с цветком, или, скажем, птицей?
– Да, старик, о каком разуме ты говоришь? Ведь ты – прожженый атеист, как сам утверждаешь, то есть, не признаешь иного разума, кроме человеческого.
– Ну, братцы, вы загоняете меня в угол, – попытался рассмеяться Илья, – еще немного и вы заставите меня признать творца… Как просто: все создал Бог – и красивое, и дурное, и хаос, и гармонию, и «всякую тварь Божью». Конечно – «истина проста», только это – обманчивая простота…
– Но разве не ты сам только что признал существование разума в цветке? А горы, озера, какие-нибудь сталактиты… ведь они красивы? Так какой в них разум?
– Наверное думаешь, что в самом деле загнал меня в угол? – спросил Илья и, поискав глазами свое кресло, уселся в него. – В сущности, вопрос сводится к различию красоты в органическом и неорганическом мирах. Я не имею готового ответа, однако, попробую рассуждать вслух. В первом, очевидно, доминирует гармония, целесообразность, закономерность, в другом – бросаются в глаза хаос, игра случайных сил. Такое впечатление, что их создавали разные творцы. Я не могу себе представить, чтобы одна и та же рука, бесконечно искусная в одном деле, была столь безнадежно бездарна – в другом. Неужели одна и та же рука встраивала радиолокационную станцию и сложнейший компьютер в ничтожную комаху, а в другом случае она же нагромождала грандиозные, бессмысленные кучи камня, расстилала миллионы квадратных километров песчаных и снежных пустынь? Да что там! – целую планету-пустышку, ненужное, бездарное скопище камней создала? Ни одной правильной линии… хоть бы один куб, или шар! Слепая, грубая, расточительная сила! А рядом – тонкая, изысканная… бесконечная фантазия, изумительная гармония.
Андрей любил Илью в такие мгновенья, когда тот горячился и в полемическом пылу соскакивал с боевого коня своего – логики.
– Уж не отрицаешь ли ты красоту в неживом мире, в первозданном хаосе? – спросил он с подлинным удивлением в голосе.
– Отрицаю! Не может быть красоты…
Илья запнулся – Андрей не мог сдержать улыбки.
– Ни в горах, ни в закатах?! – взвинтил интонацию Игорь.
«Попался? Неужели попался?» – нахмурился Илья и серьезно задумался. – Да, ни в горах, ни в закатах! – наконец твердо произнес он и осторожно пошел дальше. – Они красивы лишь в той мере, в какой мы одухотворяем их – привносим смысл, целесообразность, закономерность. Мы примеряем к ним собственные начала, они падают на хаос и вырывают из его случайных кривых и бликов гармоничные, родственные нашему восприятию.
– А почему, в таком разе, не распространить то же самое на органический мир? Может, мы и в нем видим только собственное отражение? Вы, часом, не соллипсист? – спросил Игорь.
– Я? Пожалуй, только – объективный соллипсист. А вы кто? – парировал Илья.
– А я… э-э-э, субъективный материалист, – осклабился Игорь.
– Ну, Бог с ней, с красотой, – поспешно вмешался хозяин дома. – Меня заинтересовала мысль, Илья, которая просвечивала сквозь твои рассуждения. Не думаешь ли ты, что мертвая материя существовала всегда, а творческий акт состоял в том, что Создатель вдохнул в нее жизнь? Использовал ее для создания некоего подобия себе? Ведь разумное, которое мы видим во всем живом, не могло возникнуть, сколько бы не сталкивались молекулы? Представляю: они сталкиваются, соединяются и рассыпаются бесчисленное количество раз, как вдруг какая-то коалиция не пожелала распасться и наоборот – начала притягивать к себе и пожирать других, организовываться и к чему-то стремиться…. Абсурд? А размножение, воссоздание себе подобных? А старение и смерть! Нет, старик, возникновение жизни я не могу воспринимать иначе, как чудо.
Игорь перешел к Андрею на диванчик, и теперь они сидели равнобедренным треугольником, в вершине которого – Илья в кресле, перед ним на полочке полрюмки коньяка, которую он только двигал и поворачивал двумя пальцами вот уже добрых сорок минут, а в основании – Игорь, подперев голову кулаком и сильно щуря без того маленькие глазки, и – Андрей – самая колоритная фигура. Левой рукой он подтянул джинсовую ногу высоко на бедро левой, а правой теребил и совал в рот кончик роскошной бороды. Иногда он прерывал свое занятие, чтобы помахать, покачать бутылкой и налить в собственную рюмку. Светлые глаза его заволокло знаменитой русской добротой.
– Чудо, чудо и есть! – воскликнул Илья. – Среди бесконечных пространств и каменных пустынь затерялась уникальная лаборатория! Все сошлось как нельзя удачнее – и температура, и кислород, и магнитное поле, и гравитация, и наклон оси, и вода… На других планетах всегда чего-нибудь то ли не хватает, то ли в избытке, а тут сошлось чудесным образом!
– И кто-то же руководил лабораторией, – сказал Андрей, – или она взбесилась, твоя лаборатория? Сумасшедшая материя! Ха-ха-ха…
– Но и Создатель твой большим умом не отличался. Зачем было создавать сотни миллиардов звезд, чтобы заняться экспериментом на Земле, вмешиваться в недостойные мелочи?..
– Тебе, смертному, не понять Божьего замысла.
– Но ведь Он создал меня по подобию своему, значит, и мыслить я должен, как Он… Или Он намеренно ввел меня в заблуждение?
– Дьявол вводит тебя в заблуждение, а Господь испытывает.
Илья встал, потянулся и со смехом сказал, обращаясь к Игорю:
– Всегда этим кончается, с чего ни начни. Кстати, а с чего мы сегодня начали?
– С музыки, – едко улыбнулся Игорь, – оба такие меломаны…
– Ах, да, – кивнул Илья, подходя к полкам с пластинками. – Дело в том, что у Андрюши патологическая страсть к всевозможному авангарду, ко всему темному и непонятному. Вот, например, тоже его любимец, – Илья показал пластинку Шенберга, – а все потому…
– А почему, между прочим, ты не любишь его? Ведь чего-чего, а разума с логикой у него навалом.
– Вот именно – голый разум и голая логика. Возможно, у него и много всего, но музыки и страсти нет.
– Смотря как понимать музыку…
– Ладно, ладно, хочешь эксперимент? У тебя не так уж много его вещей, должен знать их… Так вот, я буду ставить, а ты говори, что это. Идет?
– Старик, сейчас не то настроение, чтобы слушать Шенберга.
– Ах, не то настроение! А у меня никогда нет настроения слушать его или Веберна и иже с ними. Распад, разложение… деморализует… О, у тебя есть Арита Франклин! Обожаю! Можно, поставлю? – спросил он и, не дожидаясь ответа, поставил на проигрыватель с ловкостью фокусника черное зеркало пластинки.
Андрей улыбнулся:
– И как это сочетается в тебе с любовью к Вивальди и Баху – убей меня, не понимаю.
Арита Франклин принялась не спеша накручивать страстную мелодию на нервно пульсирующий ритм.
– А знаешь, между Бахом и этой музыкой нет никакой пропасти. Недаром возникли «Play Bach» и «Swingle Singers». Немного подчеркнуть ритм, и из Баха получается превосходный swing.
– Н-да, однако, если бы сейчас звучал Бах, ты не говорил бы и не делал своих движений пальцами… – заметил Андрей.
– Ужасно нравится, чудесно! – рассеянно говорил Илья, покачивая головой и пристукивая ногой. – У меня определенно есть негритянская кровь. Видишь, видишь, как она повторяет, варьирует тему, – как мы, когда высказываем какую-либо мысль.
В комнату вошла Анна Андреевна, неся на подносе кофейник, сахарницу и чашки. Илья встал.
– Сидите, сидите, ради Бога! Я на секунду, – сказала она, ставя поднос на стол и сдвигая при этом пепельницу – разношенный башмак, зажигалку-пистолет, чей-то острозубый череп, портрет Мандельштама в тоненькой рамке…
– Я вижу, вы в родной стихии, – добавила она, обведя плавным жестом комнату, – да сидите же, я не берусь соперничать с этой мадмуазель…
Илья посмотрел на часы: десятый час, поздновато для кофе, но, вспомнив, что тут, как и во всех московских домах, пьют вместо кофе еще одну разновидность чая, махнул рукой.
Глава IX
За кофе разговор свернул на политику. Начало его Илья упустил, заслушавшись «королевой soul» и засмотревшись альбомом «Африканские маски». Упустил он и короткую пантомиму за своей спиной: Игорь вопросительно поднял брови и посмотрел в его сторону, а Андрей ответил уверенным взмахом руки. Речь шла о каком-то процессе. Слова: «монархисты, православие, организация…» привлекли наконец его внимание. Вначале он пытался делить свое внимание на три равные части, но потом решительно отложил в сторону альбом.
– …при обыске нашли воз литературы: Хомякова, Леонтьева, Владимира Соловьева, Бердяева, программу, устав и какой-то там пистолет, – говорил Игорь.
– Ну, насчет пистолета… ты знаешь, как это делается. На кой черт им пистолет! – заметил Андрей.
– Не скажи, у них не только кабинет министров был, но даже собственная контрразведка и боевая группа. Причем, возглавлял ее, говорят, какой-то ассириец Садо… Фамилия, да?
– Камо, Лазо, Садо… Раздувают, хотят толпу запутать, нагнавши страху, ну, и расправиться под шумок, – проворчал Андрей.
– Тут, естественно, ручаться нельзя ни за что, но дело наделало слишком много шума – только арестовано человек тридцать, информация лезет изо всех дырок… Если бы они действительно занимались философией и только, тогда их просто разогнали бы втихаря, и все дела. Не вижу, какой смысл раздувать…
– А какой смысл создавать заговор врачей, изобретать агентов империалистической разведки? – возразил Андрей.
– Андрей, Игорь! – взмолился Илья. – О чем вы говорите?
– Ты что, не слышал про ленинградское дело? – воскликнул Андрей со смесью изумления и ужаса в голосе. – Твоих собратьев пачками сажают, а ты… Ты что, газет не читаешь? Даже «литературки»?
Газет Илья действительно не читал, но пожалел об этом впервые. Что касается Игоря, он даже не взглянул в сторону Ильи, только передернул плечами и продолжал:
– Любопытная деталь – все, кроме ассирийца, оказались русаками – ни одного еврея. Фамилия руководителя – Огурцов. Говорят, исключительная личность, чуть ли не гипнотическое влияние оказывает.
– Дело начало обрастать легендами, – сказал Андрей, и в черных зарослях его бороды блеснули желтоватые зубы. – Ты что, не знаешь эту породу? Соберутся, потрепятся и разойдутся. Ну, еще статейку в самиздат пустить с обалденными намеками, под псевдонимом…
– А партийный устав, а гимн, а клятва? Нет, вряд ли все так безобидно, как тебе кажется. – Игорь замолк, словно размышляя, достойны ли собеседники столь серьезного откровения, и тихо добавил: – Но если действительно ничего серьезного не было, тем хуже для нас.








