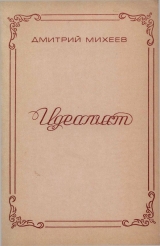
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
«Ты добровольно лезешь в унизительное, постыднейшее рабство. Ты потеряешь достоинство, собственное лицо, превратишься в надоедливого вздыхателя…»
– Я просто не вижу причин замыкаться в себе, в своей узкой и сухой науке.
Спор продолжался весь вечер, всю ночь, ему казалось, что он не заснул ни на минуту.
Глава XI
Семинар члена-корреспондента АН СССР Ф. С. Астафьева собирал едва ли не весь философский цвет Москвы, так как считался в своей области самым серьезным, самым представительным. Этот цвет, в отличие от своих праотцов, имел чахлую растительность, рыхлые фигуры, очки и всех серых оттенков костюмы. Они здоровались друг с другом за руку, грузно усаживались в первых двух рядах, солидно переговаривались, показывали журналы, статьи, и самым молодым, сидевшим на почтительном расстоянии, казалось, что именно там живет большая наука. За «Олимпом» следовало заметное разрежение – третий и четвертый ряды наполовину пустовали; за ними, как бы демонстрируя свое почтение, свое презрение, свою непричастность, размещалась гораздо более молодая, волосатая и пестрая «серая масса». Отсюда изредка раздавались дерзкие голоса, заставлявшие «олимпийцев» скрипеть креслами и напрягать тугие шеи. Самая молодая и смирная часть аудитории ютилась в задних рядах и никогда не подавала голоса, зато вынашивала самые честолюбивые замыслы относительно «Олимпа».
Снегин, имевший свое место в средних рядах, на сей раз, как докладчик, оказался на короткое время среди «олимпийцев». Галин с подчеркнутой значительностью пожал Илье руку и представил кое-кому из первого ряда как своего способного ученика. За прошедшие три дня он несколько переоценил ситуацию и нашел занятую им позицию недостаточно гибкой, если не сказать глупой. В конце концов, времена меняются, поводок ослаб, и никто не может сказать, сколько новых шагов позволено делать. Отчего же не запустить пробный шар? Доклад – не публикация, а молодым сам Бог велел ошибаться; он заставит о себе говорить, он заставит кое-кого в Академии прислушаться к нему, даже если… В крайнем случае, Илья достаточно честен, чтобы подтвердить полученное от него предостережение. Надо ободрить юношу.
– Волнуетесь? – спросил он Илью. – Напрасно. В таком виде, как вы его изложили мне, ваш доклад безусловно привлечет внимание. Так что не робейте, смелее!
Когда все уселись, наоглядывались и накивались со знакомыми, вошел Астафьев, эдакий седогривый лев, в сопровождении людей помоложе и поплюгавее. Он кивнул аудитории, победно окинув ее взглядом, поздоровался с несколькими из первого ряда и коротко переговорил с секретарем семинара – молодым, но уже «заметным», в силу своей приближенности к «Олимпу», философом. Затем он обратился к аудитории.
– Сегодня на нашем триста восемьдесят восьмом семинаре вашему вниманию предлагается доклад…
Он наклонился к Илье и попросил расшифровать его инициалы. «Илья Николаевич», – ответил Илья, краснея и на секунду теряя только что обретенную уверенность в себе. Галин заметил это и шепнул: «Насчет времени не беспокойтесь: часа полтора говорите смело».
– …доклад Ильи Николаевича Снегина из МГУ «Критика современного неокантианства». Прошу вас, – широким жестом пригласил он Снегина к доске. – Мы все приблизительно на час в вашем распоряжении.
Светским тоном Астафьев привлекал и укреплял срединную часть аудитории, которая в наибольшей степени формировала репутацию семинара как серьезного, в то время, как плотность лысин в первых двух рядах была как бы овеществленным, численным выражением его «представительности».
Илья вышел к доске, положил тезисы на стол, взял зачем-то мел, повертел его в пальцах и вернул на место, затем сложил руки на груди и для пробы произнес первую фразу: «Известный английский философ…» Убедившись в том, что все еще владеет своим бесценным даром речи, он заговорил свободнее. Он не различал ни одного отдельного лица – все они смазались и слились в единое многоглазое существо, которое шелестело, покашливало и превращалось то в Галина, то в Астафьева, то в Абрамсона.
Внимание аудитории, эта жар-птица, которую легко поймать, но трудно удержать, рождается из любопытства, из того самого любопытства, которое мы, к счастью, захватили с собой, расставаясь с хвостом и клыками наших предков-приматов. Каждому, кто решится на публичное выступление, гарантирована, таким образом, некая изначальная доза внимания, пропорциональная его видимым отклонениям от нормы. Горе докладчику, которого Создатель не наделил ничем примечательным. «Как, – негодует слушатель, – этот осмелился взойти на кафедру и ничем особенным от нас не отличается?! Каково нахальство – ничего особенного! – руки, ноги, уши… великоваты, впрочем, но ведь не настолько, чтобы лезть на кафедру. Нос… да и нос не чересчур длинный, а вылез! Так, пожалуй, и я мог бы, однако не лезу же, и другие сидят себе спокойно… Хоть бы ростом был гигант или карлик…» Такому докладчику, чтобы компенсировать врожденную недостаточность, надо особенно тщательно готовиться к докладу. Желательно еще за год-полтора начать отращивать экзотические усы или бороду. Последняя исключительно эффектна, ежели обрамляет яйцеподобную лысину – дар, на который Создатель не скупится для подвизающихся в науке. Беда большинства ученых в том, что они пренебрегают заблаговременной подготовкой. Трудно представить, какой в связи с этим урон несет Мировая Наука. Но немало можно сделать и накануне выступления. Следует открыть платяной шкаф и выбрать именно тот костюм, которого вы больше всего стесняетесь как чересчур старомодного, модного или слишком дурно пошитого. Носки! Казалось бы, такой пустяк, такая мелочь, а какое неотразимое впечатление производят они на слушателя, если правильно подобрать расцветку и укоротить сантиметров на десять брюки! Мелькая тут и там, они буквально завораживают аудиторию, притягивают к себе ее внимание, отблески которого могут пасть и на вас.
Яркие, невероятно яркие, даже крикливые рубашки и галстуки почти перестали в наше время воздействовать на умы. Уж лучше явиться вовсе раздетым, или – на худой конец – босым, как сделал один математик из всем известного математического колхоза на конгрессе 1966 года. Заметим кстати, что раздеться лучше уже в институте, иначе рискуешь не попасть на собственный доклад. Впрочем, если на такой шаг у вас не хватает гражданского мужества и преданности Науке, можно рекомендовать и другие методы возбуждения у аудитории внимания к собственной персоне.
Например, другой, еще более известный математик перед каждым выступлением молча и сосредоточенно закатывал обшлага пиджака, опасаясь, якобы, меловой пудры. Согласитесь – человек, который на ваших глазах засучил рукава, внушает уважение и надолго приковывает внимание к каждому своему движению.
Положим, в том или ином виде, но вы оказались на кафедре. Не стоит начинать с покашливаний и наливания в стакан воды. Очень устаревший прием, создающий впечатление, будто вы волнуетесь, или, что еще хуже, боитесь аудитории. Для внимания нет ничего гибельнее страха, ибо, если я знаю, что меня боятся, я могу спать спокойно.
Надо ясно сознавать, что первоначальный запас внимания катастрофически быстро тает с каждой минутой. Слушатель торопится вынести на ваш счет окончательное суждение, и когда он это сделает… Можно оттянуть этот момент, сказав несколько невнятных фраз – это насторожит его, но, уловив несколько знакомых слов, он тут же воскликнет про себя: «Да нет же – как и все мы, по-русски и без малейшего акцента! И голос так себе – не визгливый, не громоподобный». Это значит, что он созрел для окончательного приговора: «Просто выскочка и карьерист!» и готов погрузиться в полудремотное состояние, вывести его из которого практически невозможно. Ловите мгновение, это ваш последний шанс. Вы должны, вы обязаны озадачить, ошарашить аудиторию! Отступать вам некуда, ведь не пришли же вы сюда ради внимания нескольких въедливых умников, которые и не свистят-то никогда, не аплодируют. Нет, это не то внимание. У него нет аромата славы, оно может быть даже губительным, как радиация.
Наилучший способ ошарашить аудиторию – задать ей очень трудный, желательно неразрешимый вопрос. Делается это так. Подойдите к самому краю кафедры (либо сцены), устремите вглубь аудитории тяжелый взгляд и сурово спросите: «Вы когда-нибудь задумывались о том…?» В зале воцарится гробовая тишина – поверьте, за долгие годы учебы страх перед преподавателем въелся во всех присутствующих. Некоторое время они будут просто парализованы страхом. Им будет казаться, что вы вот-вот протянете руку и пронзите их вопросом: «Вот вы, например, что…» Теперь можно повернуться к аудитории спиной, нести любой вздор и вообще делать все, что заблагорассудится, но лишь до тех пор, пока аудитория не вышла из оцепенения. Вы сразу почувствуете это по шороху, скрипу и шепоту. Можно еще разок угрожающе обернуться… Лучше, однако, не повторяться. Существует достаточно много приемов парализовать аудиторию и держать ее в этом состоянии.
Американцы, между прочим, практикуют другое начало публичных выступлений – с анекдотов. Что поделаешь, они только что отпраздновали двухсотлетний юбилей. Когда им исполнится пятьсот, они поймут, что подлинное уважение внушается не юмором и оригинальными идеями, а страхом. Во-первых, рассказывая анекдот, вы полагаетесь на чувство юмора аудитории, что рисковано во всяком случае. Во-вторых, никто в наше время не верит, что вы сами придумали анекдот – даже наивные американцы знают, что для этого есть специальные фирмы. Анекдот хорош только в той степени, в какой он порождает страх (заметьте, опять же страх) проспать следующий и с ним упустить возможность блеснуть вечером перед друзьями, а завтра – доказать начальству свое серьезное отношение к науке.
Упомянем еще некоторые приемы. Если у вас монотонная дикция, неплохо время от времени делать неожиданную паузу – внезапно наступившая тишина встряхивает заснувших; иногда они вскакивают и начинают аплодировать. Если у вас слабый голос, хорошо применить громкое сморкание или эпизодические вскрикивания. Один профессор вытирал белоснежным носовым платком сперва лоб, а затем, якобы по-рассеянности, – доску. Студенты, разумеется, смеялись, перешептывались и толкали в бок задремавших. Вместе с тем, у них складывалось убеждение, что их профессор – чрезвычайно увлеченный наукой человек. Тот же профессор пользовался затем тряпкой вместо носового платка, однако такой уровень жертвенности по плечу лишь подлинным рыцарям науки.
Последние десятилетия все больше применяются технические приемы – демонстрация слайдов, фильмов и пр. Вряд ли они рациональны с точки зрения затрат времени и сил. Гораздо проще и эффективнее приобрести сногсшибательный парик. К тому же, когда свет гаснет и на экране появляются какие-то фигуры, вы в полном смысле оказываетесь в тени…
Наконец, последний совет – на тот крайний случай, если кому-либо взбредет в голову задать вам вопрос. Повернитесь к нему всем корпусом, скажите как можно убийственнее «Хм!», улыбнитесь и покачайте головой. Можете не сомневаться – вопросов больше не будет, а репутация умного и бесконечно эрудированного ученого вам обеспечена.
Илья Снегин по молодости не знал этих приемов. Он наивно полагал, что может завоевать аудиторию свежими идеями и ясностью изложения. Однако, его молодость в сочетании с приятной наружностью отчасти искупали недостаток природных данных и опыта. К тому же, участников семинара, привыкших к округлостям диалектической софистики, невольно задевали шероховатости языка и напористость молодого варвара.
В сорок минут покончив с доброжелательной критикой Слитоу, он предложил аудитории взглянуть на проблему с совершенно иной позиции и в первую очередь – перестать навязывать микромиру модели и причинные связи макромира.
– Давайте рассуждать следующим образом, – говорил он. – ОТО утверждает, что реальные свойства пространства-времени тем сильнее отклоняются от эвклидовых, чем сильнее гравитационное поле. Отчего же не допустить, что другие поля, в частности, электро-магнитные и ядерные, также воздействуют на свойства пространства-времени? Например, ядерные силы, возможно, столь сильно меняют пространство вблизи ядра, что поведение электрона в атоме не описывается ни одной механической моделью, созданной без учета этих сил, – ни колебательной, ни вращательной.
Шел второй час. В отличие от Ильи, который все больше увлекался, которому казалось, что еще немного, еще несколько неотразимых аргументов, и он убедит аудиторию, Галин внимательно следил за реакцией первых двух рядов. От него не ускользнуло недоумение на лице Абрамсона, перешептывание двух зубров во втором ряду и чересчур сосредоточенное внимание Астафьева.
– Положим, частица имеет собственное пространство, – продолжал Илья, – которое никак, в сущности, не соотносится с нашим, или столь же мало, как межгалактическое, и пространство не только искривлено, стянуто к ней. Когда же мы для измерения импульса уничтожаем ее в результате столкновения, пространство распрямляется, лишая нас возможности судить о ее локализации…
Кто-то обронил: «идеализм», и слово поползло по рядам. «Да-а, чистейшей воды…» – довольно громко сказал Астафьев, явно рассчитывая на ухо Галина. Абрамсон ерзал, очевидно, предвкушая скандал, молодой секретарь что-то быстро писал, вскидывая на Снегина жадные взгляды… Н-да, надо было спасать положение, и Галин, не дожидаясь перерыва, подсел к Астафьеву. «Ну, как тебе мой аспирант?» – спросил он со скрытой улыбкой. «Что, лавры Татищева не дают покоя? Смотри, доиграешься, Артюша! – сердито проворчал Астафьев. – И мне свинью подсунул; знаешь, что говорят Яценко и Абрамсон? Догадываешься? Вот именно – субъективный. В общем, расхлебывай теперь, как знаешь, я тебя вытягивать не намерен». Но вытягивать ему пришлось.
Как только Астафьев объявил перерыв, Илья быстренько вышел в коридор и встал у окна. Он был возбужден, предвидел острую дискуссию и болезненно ощущал слабые, непродуманные места своей концепции: что значит «пространство распрямляется»? Как что? Неизмеримо растягиваются координатные ячейки…
– А, вот вы где! – оборвал его размышления Галин. – Что же мы теперь будем делать, Илья Николаевич? Отдаете ли вы себе отчет в том, что своим самовольным выступлением, своей мальчишеской выходкой вы нанесли такой удар по престижу кафедры, что последствия его даже трудно предугадать? И в первую очередь, это удар по моей репутации, поскольку вы – мой аспирант. Вы поставили себя вне моего руководства, то есть, мне просто ничего не остается, как отказаться от вас и предложить вам искать другого руководителя. Разумеется, и защита диссертации становится весьма проблематичной…
О чем он говорит? Какая выходка? Опять это противное слово «защита диссертации»; чего он теперь боится, когда доклад уже состоялся?
– И как вы могли одним махом зачеркнуть наше почти четырехлетнее сотрудничество?! – нажимал Галин, видя отсутствующий взгляд аспиранта.
– Я вас не понимаю, Артемий Александрович, – повернул к шефу нахмуренное лицо Илья. – Что, собственно, я совершил? Изложил собственную концепцию, ну, и что? Не разрушать же нам всегда чужие конструкции! Ведь не этично, в конце концов, только критиковать и ничего позитивного, своего не предлагать?
– Не говорите глупостей, Илья! – поспешно отреагировал шеф. – Мы не только имеем право, мы обязаны создавать собственные конструкции, теории… но – в рамках диалектического материализма. Подумайте, здесь – и вдруг откровенный идеализм!
– Не знаю, лично я не мог бы сказать: идеализм или материализм… Мне начинает казаться, что собственное пространство, независимо от моего желания, оборачивается куда большей реальностью, чем «формы существования», – сказал Илья, и взгляд его снова потянулся куда-то мимо шефа. – В конце концов, плевать на ярлыки, меня может переубедить только логика. Если мне сейчас докажут, что я заблуждаюсь, я охотно признаю свое поражение.
– Вот что, молодой человек, – перешел в решительную атаку профессор, – нам надо сейчас быстро договориться: либо наше сотрудничество продолжается, либо… не будет вообще никакого сотрудничества. Я надеюсь, вы допускаете, что я желаю вам только добра, и выслушаете мой совет?
Илья смутился; голос Отца и Учителя заставил его поспешно кивнуть.
– Ваша концепция еще сыра, недозрела. Вы еще не раз ее пересмотрите. Но для того, чтобы иметь такую возможность, вам надо защититься и, что называется, обрести под ногами почву. Поэтому давайте договоримся, что, если сейчас будут вопросы, вы сделаете акцент на эвристичности ваших гипотез и подчеркнете… ну там, единство материального мира., и что там еще… А Федор Сергеевич и я со своей стороны скажем пару слов…
Ни обсуждения, ни дискуссии, однако, не состоялось. Галин задал вопрос, который больше походил на выступление, в результате чего разорванный Ильей мир обрел должное единство, а аудитория пришла в полное замешательство. Та небольшая часть ее, которая понимала, что происходит, не знала, какую ей занять позицию, пока не выступил Астафьев. Он отдал должное свежести подхода молодого ученого, изящно игнорировал вопрос распространения принципа причинности на микромир и нашел в изложенной концепции доказательства объективности пространства-времени.
Этим выступлением и закончился семинар. Галин предложил обескураженному Илье подвезти его до Университета.
– Вы вели себя благоразумно; нам удалось в значительной степени спасти положение, – сказал шеф, прогревая мотор. Илья молчал, он не мог понять, почему не состоялась дискуссия. – Но смыть пятно будет не так просто: к любой вашей публикации, надо думать, будет очень придирчивое отношение. Н-да, подгадили вы себе, прямо надо сказать…
Галин вел свою «Волгу» очень аккуратно, строго выдерживая скорость в шестьдесят километров и подолгу простаивая на перекрестках. Тут он поправлял очки и, посматривая на притихшего Илью, рассуждал:
– Я знаю, вы привыкли игнорировать слова о классовом характере философии. Вы, молодежь, думаете, что это не более, чем слова, обыкновенная дань прошлому. Вам хочется оторвать, так называемую чистую, науку от идеологии, вы вообще не хотите видеть какую-либо связь между классовой борьбой и наукой. А между тем, ожесточенная классовая борьба в науке составляет едва ли не главное содержание научной жизни.
Илья удивленно взглянул на шефа, полагая, что он шутит.
– Да, да, именно борьба, – подтвердил Галин. Езда настраивала его на благодушно-откровенный лад. – Знали бы вы, что делается в редакциях, какая борьба идет за каждое слово, каждую ссылку, каждую цитату. Кого можно цитировать, кого нельзя, кого надо и сколько раз… о ком вообще упоминать нельзя. Причем, списки тех, кого нельзя цитировать, часто запаздывают, и тут уж самому надо ориентироваться, чтобы не прогореть. Нет, юноша, тут борьба, и борьба самая настоящая! И знайте, что вы не просто пишете, что придет на ум, – вы выступаете от имени партии материалистов. Вы кровно, плоть от плоти, связаны с партией материалистов, и все, что вы делаете, должно принадлежать ей…
Они остановились у развилки возле университета. Илья открыл было дверь, но задержался и сказал: «Я всегда думал, что партии выбирают…»
– Заблуждаетесь, глубоко заблуждаетесь! Партию не выбирают, как и родину. Человек принадлежит им от рождения и до самой смерти!
– Но ведь это ужасно! – пробормотал Илья, захлопывая дверцу.
Он попирал синтетической рубленой подошвой фальшивое золото аллеи и думал, не замечая цветной молодящейся осени: «Почему я обречен, почему я должен любить эту страну? И что именно? Крым? Эстонию? Казахские степи? Подмосковье? Или Кавказ? Или все вместе – столь разное, часто противоположное? Или – то, что объединяет этот конгломерат?» Он сел на скамейку, далеко вытянув ноги, и, закрыв глаза, попытался представить себе все вместе, виденное когда-то: Кенигсберг и деревню под Курском, Приэльбрусье и пыльную казахстанскую тарелку, Гурзуф и Львов… Ничего общего? Нет, есть что-то неуловимое, какой-то покров… общий, на все разное… – тот неприятный грязный налет, привкус запустения и хамства, не всегда заметный, но всегда присутствующий. И конечно – язык, пусть не совсем, но все-таки русский, и военная форма, и новые кварталы, и машины, и лица потухшие, и плакаты… Но это система, экономическая система плюс идеология – нечто наносное, случайное объединяет это этническое и географическое многообразие. «А-а, я должен любить систему! Ну, это чушь, идеологию нельзя любить; разделять или нет, но не любить… И зачем так разукрашивать природу, – без всякой связи подумал он, – чтобы тут же бросить ее красу под ноги? Вот это можно любить, это нельзя не любить».
Глава XII
Перевод статьи Илья отослал, а собственные свои изыскания сложил в отдельную папку с крупной косой надписью «New conception». Папку он убрал подальше, и на письменном столе впервые за долгое время воцарился порядок. Так было спокойней, так было почти легко. Плевать он хотел на партию материалистов, равно как – и на все прочие. Партии, партийная дисциплина, партийный долг – какие жуткие слова! Какая фальшь, какая бессмыслица! Беспокоила непонятная, непостижимая реакция аудитории. Ни вопросов, ни обсуждения, ни похвалы, ни осуждения… Но ведь не бред же, не бред!
Убрав со стола всякое напоминание о докладе, он почувствовал некоторое облегчение и с горьковато-ироническим настроением предался безделью.
Он слушал музыку, посмотрел пару фильмов, играл через день в волейбол, читал Спинозу и Фихте, ходил в «английский клуб» упражняться в языке… а к работе по-прежнему не тянуло.
Он навестил Андрея. Его грустно-скептический тон не ускользнул от друга, и вскоре он все рассказал ему.
– Э-э, старик, – весело заговорил Андрей, – я вижу, реальность сама пришла в твою башню из слоновой кости. А я, грешным делом, недоумевал, как тебе удается в хитром философском море избегать подводных течений и рифов. Завидовал; думал – вот, все мы мечемся между Сциллой и Харибдой (и жить как-то надо, и свое что-то делать хочется), а человеку везет – никакого раздвоения личности.
– Ну, и как же ты лавируешь?
– Кручусь – согласно поговорке: «хочешь жить, умей вертеться». А цо зробишь?
– Неужели портреты вождей пишешь?
– Э-э, брат, такой чести еще удостоиться надо. Я и мне подобные рабочий класс воспеваем – трактора, снопы, подъемные краны и твердый взгляд, устремленный в будущее.
– Н-да, и тебя не тошнит?
Андрей помолчал, роясь в бороде.
– Видишь ли, привыкаешь, стараешься не принюхиваться – делать быстро и механически. А что делать? Жить как-то надо… Работодатель у нас один, и платит он за нужную ему продукцию.
– Боже, как это ужасно! – еле слышно пробормотал Илья. – Ты малюешь мускулы, Инна воспевает их в стихах, Володя изображает – на сцене, я убиваю всякую мысль, а Игорь создает радиоаппаратуру.
Все это гласно, огромными тиражами… Мы оболваниваем народ, а вечерами, урывками кропаем что-то «для себя» и складываем в темные углы, чтобы показать десятку-другому… Жуткая, опустошительная безысходность! И к этому я должен привыкнуть?!
– Ну, а что делать, старик! Хорошо, что еще для себя что-то делаем. Глядишь, когда-то… Ведь на плакаты никто не смотрит.
– Нет, на это, – Илья обмахнул рукой мастерскую, – никто не смотрит. А вся эта мазня по улицам сама лезет в глаза, пробирается в подсознание. Но самое ужасное – твое «привыкаешь». Если вдуматься… ты понимаешь, что значит «привыкнуть»? Если я к чему-то привык, оно не волнует меня, не раздражает, я воспринимаю как нечто естественное; не правда? То есть, меня засосало, скрутило и принизило то, что недавно еще возбуждало против себя, а я не замечаю. Значит, я попросту пал! Сижу в помойке, а вони не слышу!
– Ну, зачем такие крайности. Скажи, если тебя каждая мелочь, каждый пустяк будет будоражить и выводить из себя, долго ли ты протянешь? За год в психопата превратишься. Учись, Ильюша, воспринимать вещи спокойнее, не кипятиться по мелочам. Ну, вот практически: ты выходишь из дома, а возле крыльца многолетняя грязь, приходишь в магазин, а там тебя облаяли, заходишь в химчистку, а заказ не готов и т. д. и т. п. Будешь кипятиться, нервничать – ничего не добьешься, а день убьешь – ничего не сделаешь. Я не говорю: «не надо замечать» – не надо принимать слишком близко к сердцу. Грязь обойди, за костюмом зайди через неделю, а на грубость не отвечай, и, увидишь, в другой раз будут с тобой любезнее.
– Тоска, тоска! Уж лучше засыпать грязь, а? А если сам не справишься – позвать других. Не знаю, как можно научиться, то есть себя, не кипятиться, воспринимать вещи спокойнее. Уговаривать себя, что ли, обманывать? Меня облаяли, а я говорю себе: «Не волнуйся, это нормальное явление, так и должно быть», да? Но ведь я знаю, что так не должно быть!
– Ну, кричи, трепыхайся… Изменить все равно не изменишь, а будешь трепыхаться… впрочем, когда кричишь, вроде, легче становится.
– Какая жуткая безысходность! Ты отдаешь себе отчет?
– Очень даже. Вся наша история ею пропитана, – ответил Андрей спокойно.
– Утешил, нечего сказать, – нервно рассмеялся Илья. Он встал, прошелся, круто разворачиваясь на каблуках, потрогал одну вещь, другую, затем остановился перед Андреем и в упор сказал: – Если в самом деле помойка, если в самом деле ничего нельзя изменить, тогда надо выбираться из нее!
– Э-э, старик, не дадут, уцепятся за ноги и не дадут, – отмахнулся художник, предпочитая другую тему: – Ты говоришь, «привыкнуть» значит опуститься. А по мне – наоборот: подняться, воспринимать жизненные язвы по-философски спокойно, как уродливый ландшафт. Не станешь же ты психовать из-за того, что на Луне нет порядка?
– Прекрасная мысль! – оживился Илья. – Ты помог мне понять, отчего я психую. От всего неразумного! Понятно, я как атеист не могу прилагать категорию разумного к неживой природе, поэтому и хаос в природе меня не только не раздражает, но даже по-своему нравится. Однако, когда не слепые силы, а люди создают хаос, либо не устраняют его, то есть поступают неразумно, тогда я возмущаюсь и негодую.
– Обрати внимание: для тебя «действовать разумно» означает устранять хаос, – заметил художник.
– Не отрицаю. Когда мы говорим о разуме, то в первую очередь подразумеваем установление различий и выбор цели, а хаос – игра случайных сил. Мы вторгаемся в него, боремся с ним во имя нашей цели…
– А что за цель, не скажешь? – вкрадчиво перебил Андрей.
– Цель человечества – выжить.
– И только-то? – изумился Андрей.
– Мало? О, это колоссальная задача! Пока что мы – лишь ничтожная плесень на рыхлой и влажной поверхности Земли. Плесень, которую Природа может запросто стереть. Пока что она щадит нас, пестует, как любимое дитя. Трудности, которые она подбрасывает (землетрясения, наводнения, ураганы) – не более, чем детские игрушки, призванные воспитывать наш характер. Настоящие опасности могут обрушиться на человечество в любой момент.
– Ты не драматизируешь ситуацию, как это модно сейчас?
– Нисколько. Даже то, что уже происходило с Землей, может повториться в любую минуту. Повышение температуры планеты всего на несколько градусов приведет к таянию льдов и всемирному потопу. Небольшое увеличение солнечной активности способно сжечь все живое и опять-таки растопить льды. Из небольшого похолодания может развиться ледниковый период. Ослабление магнитного поля или изменение его полярности вызовет мощную космическую радиацию и другие, пока непредсказуемые катастрофы. Это только часть, самая очевидная, опасностей. А сколько таких, о которых мы пока даже не знаем! Добавь сюда вполне реальное самоуничтожение, которое висит над нами…
– Слушай, старик, «цинандали» выпьешь? – мягко перебил друга Андрей. Илья рассеянно кивнул, поймав себя на том, что чересчур увлекся.
– Страшноватая философия, должен тебе сказать, – продолжил художник. – Выжить, выжить любой ценой! Скажи, а если для выживания человечества понадобится половину его принести в жертву? или посадить на конвейер? – дисциплинировать, так сказать, чтобы сделать максимально продуктивным? Не обижайся, но ты рассуждаешь в духе всех тоталитарных идеологий.
– Погоди, погоди! Во-первых, я действительно избегаю таких слов как счастье, а во-вторых, я говорил о главной цели человечества…
– Ну, конечно, для тебя счастье – второстепенная цель.
– Да, черт возьми, да! Второстепенная! О каком счастье можно говорить для исчезнувшего человечества? Красивые слова и софистика! – вспыхнул Илья.
– Юпитер, ты сердишься?..
– Да, сержусь, но я прав. Мы все читаем, восхищаемся и переживаем за Анну Каренину, которая, в сущности, бесится с жиру, от безделья. Ничего не хочу говорить плохого о ней, но надо же быть справедливыми. Мы месяцами переживаем трагедию ее и ей подобных, а когда в Индии умирают ежегодно от голода, или в Гондурасе, Китае, Турции гибнут от землетрясений тысячи, десятки и сотни тысяч, мы вздыхаем, посылаем им аспирин, консервы и… забываем! Подумай, что значит умереть от голода – драма, страшная драма, почище каренинской. И таких романов природа ежегодно пишет миллионы!
– Нет, погоди! – Илья поднял руку, останавливая друга. – Я коснусь счастья тоже. Хотя из сказанного, я думаю, видно, что, во-первых, необходимо сохранить людям жизнь, а уж затем делать ее счастливой…
– Счастье не всегда стоит жизни, – скороговоркой вставил Андрей, и Илья замолк, пережевывая подброшенный кусок. Этим воспользовался художник, чтобы добавить: – Если за жизнь надо платить счастьем, для многих это слишком высокая цена – они предпочитают вообще не жить.
– Ты говоришь о тех, кто может выбирать, а я о тех, кто выбора не имеет – по прихоти природы или каких-то сытых людей. Однако, ты дашь мне закончить мысль?! Я скажу про злосчастное счастье, и нам, может быть, не придется спорить.
– Молчу, молчу, валяй!
– Одна твоя фраза поразила меня своей вопиющей нелогичностью. Ты предположил, что гипотетически можно мыслить индивидуума, лишенного свободы, инициативы, в общем, несчастного, который, между тем, максимально производителен. Представь себе, я глубоко убежден, что только счастливый человек может выдавать максимум. Банально? Слава Богу! Идем дальше. И наоборот – если человек что-то создал, он был счастлив, даже если он сидел в тюрьме, голодал и что там еще. Однако, я потерял главную мысль… Так много надо сказать, что теряешь нить.
Илья нахмурился и потер переносицу.
– Счастье – всего лишь средство. Если бы оно было самоцелью, то достичь его было бы не так уж сложно – с помощью наркотиков, химикатов и раздражения центра удовольствия. Например…








