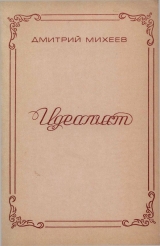
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Илья хотел поймать ее взгляд, но она унесла его быстрым поворотом тела. Он шагнул вслед за ней, едва кивнув Барбаре с Карелом, весь сосредоточившись на поднимавшемся с кресла господине.
Все во внешности пана Стешиньского было чрезвычайно добротным: костюм из толстой серой шерсти, и старомодный шерстяной галстук, и тупорылые с узорами туфли, и то, как он поднялся и подал руку, и как посмотрел на Илью – без готовности, разве что с легким любопытством. Анжелика что-то сказала по-польски, из чего Илья с неудовольствием уловил «пришиятель», и мужчины обменялись рукопожатием. Илья сел рядом с Барбарой на «диван». Звучала «Stabat Mater» Перголези. Слушали торжественно, молча, что вполне устраивало Илью. Он смотрел на твердый профиль пана Стешиньского, вспоминал его крепкую руку и сравнивал себя с Джованни: все сходилось с мистической пугающей точностью. Не хватало только нескольких фрагментов – там, где кончалось настоящее, и предательское воображение уже подсовывало осколки мрачной судьбы Джованни, наспех подкрашенные под двадцатый век… Но взмыло жизнерадостное «Аминь!», лязгнул отсекающий механизм двадцатого века, и грустная, но чем-то прекрасная картина рассыпалась на бессмысленные осколки.
Барбара с Анжеликой принялись разливать по чашкам кофе и угощать пирожными, а пан Стешиньский спросил по-английски Илью:
– Вы говорите по-английски, не так ли?
– Да, немного… во всяком случае, пытаюсь, – неуверенно пошутил Илья.
Был ли он за границей, где он учился английскому языку, какие другие языки знает, где живут его родители? – последовал вполне стандартный набор вопросов. Илья отвечал и быстро успокаивался, с некоторых пор его не удивляло и не шокировало невежество иностранцев. Нет, за границей он не был (в детстве, два года жил с родителями в Венгрии, но это не в счет), у нас не принято ездить, английский учил, как все – в школе, в университете и самостоятельно, других языков не знает (слава Богу один! – сколько трудов ему стоило!..), отца нет, мама учительница, живет в…
– А чем, простите, вы занимаетесь? – допрашивал пан Стешиньский, не догадываясь о том, что наткнулся наконец на больное место Ильи.
– Видите ли, я закончил кафедру теоретической физики – я занимался квантовой механикой – но затем увлекся философией и сейчас занимаюсь философскими проблемами естествознания.
– И как вы теперь себя чувствуете? – почти участливо спросил директор Института прикладной механики.
– Как всякий утопающий, – рискнул отшутиться Илья, но, не встретив отклика, продолжил: – Вы знаете, там трудно в том отношении, что, по сути дела, отсутствует исходная система постулатов… Вернее, их слишком много, и начинать приходится с отброса, с нуля, так сказ ать.
– Вы должны были все взвесить (you had to look round) прежде, чем порывать с физикой, – холодно сказал пан Стешиньский.
– I did but over – notround (я предвидел, но сквозь пальцы) – склеил каламбур Илья, но тут же решив, что наврал, покраснел.
Пан Стешиньский вежливо улыбнулся.
– Но, если говорить серьезно, – продолжил Илья, – меня больше привлекали проблемы, чем отпугивали. Тогда я только чувствовал, а сейчас знаю, что за проблемами теоретической физики стоят более сложные и существенные философские проблемы.
Что-то сковывало Илью. Безукоризненный английский собеседника? Холодный тон его? Или собственные сомнения последнего месяца? Он взглянул на Анжелику – она делала вид, будто поглощена журналом.
– Я чувствовал, что нельзя заниматься частными проблемами, если сами основания нуждаются в пересмотре.
– Это похвальное, но и опасное стремление – пересматривать основания знания. Необходимо обладать колоссальной эрудицией и культурой мышления, чтобы не впасть в бесплодное умствование. Не лучше ли было начать с более ограниченной задачи?..
А ведь он прав, прав, – больно кольнуло Илью.
– Необходимо воспитать в себе культуру мышления, то есть умение концентрироваться на одной единственной проблеме и разрешать ее. Надо научиться удерживать мысль на одном предмете, ибо она склонна блуждать с одной частности на другую и наоборот – впадать в неправомерные обобщения, опирающиеся на поверхностное сходство.
Он прав, прав… но этот противный менторский тон, сухой, не терпящий возражений…
– Но, чтобы создать нечто существенное, помимо дисциплины ума необходима душевная умиротворенность, то есть исследователя не должны мучить вопросы типа: зачем мы живем на свете, он не должен сомневаться в важности и значении своей работы…
Подавленный, Илья молчал. Пан Стешиньский тоже на секунду умолк, рассчитывая решающий удар.
– Кроме того, в вашей ситуации плодотворно работать можно только в очень узкой, специальной области, – спокойно продолжал он. – Наше положение несколько лучше – мы сохранили (в значительной мере) наше культурное наследство и, в частности, – свои религиозные чувства.
– Я ощущаю себя наследником русской интеллигенции XIX века, а она не была очень религиозной, – покраснел Илья.
– Да, вы начали рубить сук еще в конце прошлого века. И хотя в начале века наметилось довольно мощное религиозное возрождение, ваша интеллигенция успела подрубить свои творческие корни. Я думаю, что вы никогда больше не родите ни Достоевского, ни Толстого.
Кто-то поставил Шопена, и серебристые россыпи его на время отвлекли пана Стешиньского – лицо его смягчилось. Казалось, вот-вот оно разродится улыбкой и зачеркнет весь ужас сказанных слов. Но улыбка не состоялась, лишь едва заметно шевелились пальцы, равнодушные к страшному пророчеству.
– Если бы Чаадаев не сказал этого сто тридцать лет назад, – вспыхнул Илья, – если бы мы после этого не создали существенный кусочек мировой культуры, ваше предсказание… после него… надо было бы повеситься. Но я не такой пессимист. Мы переживаем тяжелое время, когда отказавшись от безусловной веры во внешнюю силу, мы не нашли еще (а, может быть, уже растеряли) достойной замены внутри себя. Однако, я глубоко убежден, что мы уже не слепые щенки и можем выработать на основе разума общечеловеческие принципы этики. Они будут иметь много общего с христианской моралью, но в основании их будет лежать разум, а не шаткая вера.
– Шаткая вера?! – покачал головой пан Стешиньский. – Вы поклоняетесь разуму, логике, науке и не замечаете, что в основании последней лежит все та же вера. Разве ваш разум доказал всеобщность тех же законов сохранения? Разве они не покоятся на той слабой опоре, что пока еще не наблюдалось их нарушения? Разве не доказал великий логик бессилие разума?
– Я преклоняюсь перед ним, но он, увы, многого не знал. Законы сохранения, например, являются следствием более очевидных принципов симметрии пространства-времени.
Анжелика, которая не столько вслушивалась в предмет спора, сколько следила за тоном его, уловила нетерпеливо-раздраженные нотки в голосах мужчин, что, насколько она знала обоих, не предвещало ничего хорошего. Она подошла к столу и что-то сказала ему по-польски. Он рассеянно кивнул и снова обратился к Илье:
– Оставьте разуму его сферу – науку. Как только он покидает ее, он превращается в проститутку, продающуюся то страсти к славе, то жажде власти, а то и просто – инстинкту выживания. Заметьте, ни один человек не строил своей этической системы на желании причинить людям зло, все исходили из пользы, то есть из одинаковых предпосылок. Однако, дальше – когда речь заходила о практических рецептах – они расходились и зачастую – в противоположных направлениях. Одни предлагали исправлять его тюрьмами, а третьи – просто ампутировать худшую часть человечества газовыми камерами и атомными бомбами, и надо сказать, весьма в этом преуспели. Вот он ваш логический, скептический великий разум!
Илья хотел возразить, что тут были виновны скорее чувства, чем разум, однако встретил умоляющий взгляд Анжелики… Барбара за спиной отца тоже подавала ему знаки, и он, сделав над собой усилие, промолчал. Поле боя осталось за паном Стешиньским, и он с удовлетворением прошелся по комнате. Сестры готовились петь. Карел придвинулся к Илье: «Ну как тебе отец святого семейства?» Илья неопределенно покачал головой.
Когда девушки спели что-то из польской старины, а затем отрывок из грегорианской мессы, пан Стешиньский обратился к молодым людям по-английски: «Не плохо, правда? Не хватает только мужского голоса… Почему бы вам не поддержать их?» Последнее относилось к Илье. Он немедленно вспыхнул и, проклиная пана, ответил:
– К сожалению, я не знаю ни мессы, ни латыни…
– Но играете на чем-нибудь?
– Нет, – ответил Илья, кусая губы. – У меня не было возможности. Мы часто переезжали с места на место, так как папа был военным, вообще, после его смерти жилось очень тяжело…
– Простите, а что случилось с вашим отцом?
– В Венгрии, в пятьдесят шестом…
– Да? Любопытно… – на мгновенье оживился пан Стешиньский, но тут же принял прежний тон: – Печально, печально…
Извинившись и сославшись на позднее время, Илья начал собираться, и Анжелика, видя его мрачное, почти несчастное лицо, пошла проводить его.
Глава XIX
– Мне кажется, – сказала она, улыбаясь, едва они закрыли за собой дверь, – что вы с ним очень похожи. Смешно, как вы спорили и старались контролироваться. Хорошо видела, как трудно – оба нетерпимые и горячие…
– Да, уж он горячий! – усмехнулся Илья, вспоминая до противного правильный английский пана Стешиньского.
– Правда, очень горячий – как ты, – возразила она, беря его под руку, и со смехом добавила: – Боялась, что будете спорить о национальностях или политике…
Илья молча застегивал пуговицы пальто. И зачем она делает вид, что ничего не произошло? Хочет утешить? Он все время старался поставить его в неловкое положение…
– Что еще хотела сказать. Послезавтра мы все идем в Большой. Конечно, не оригинально: и Де Голль, и Вильсон, все обязательно ходят в вашу Лa Скалу… Для тебя тоже есть билет… Будет Иван Сусанин.
– Спасибо, но… я вынужден… отказаться, – ответил он холодно.
– Что, почему? – встревожилась она. – Это папа доставал билеты и поручил пригласить тебя.
Однако, не удосужился сам сказать об этом, – подумал Илья.
– Спасибо, но я… сегодня, нет – завтра улетаю домой.
Прекрасная идея! И как он только придумал!
– Почему?! Зачем так спешно? Не можешь подождать?
– Не могу… не хочу, – сердито ответил он. – Я так скверно чувствовал себя – ничего не умеющим, ничего не знающим болваном: за границей не был, других языков не знаю, ни на чем не играю, латынь не понимаю и, что еще хуже, занимаюсь бесплодным умствованием… Неужели мои недостатки затмевают достоинства? Или у меня их вовсе нет? – он попытался улыбнуться, получилось что-то горько-кислое.
Она почувствовала, что он подошел к самому краю – еще чуть-чуть, и его страстное, обжигающее признание обрушится на нее, и, желая удержать его, она с мягким укором сказала:
– Зачем так говоришь! Знаешь, что неправда.
Бросив на подоконник перчатки и шапку, он полустоял, полусидел, глядя в сторону и покусывая губы.
– Он все время пытался «поставить меня на место», доказать, что вы это вы, а я это я.
– Не огорчайся, Илюша! Ты очень милый, – сказала она, погладив его по руке.
Эта ласка с привкусом жалости была той горстью соли, от которой раньше времени вскипает жидкость.
– Ах, Анжелика! – он схватил ее руку и до боли стиснул. – Это игра! Я ненавижу! Это игра!
– Какая игра? – обмерла она.
– Бог ты мой, ты лукавишь, ты не хочешь быть искренной! Ничего не может быть хуже!
– Почему, почему я лукавлю?
– Ну, хорошо, Анжелика!.. – он правой рукой перехватил ее талию и без труда привлек к себе. – Ты знаешь, что я… мое отношение к тебе, и ты… я уверен… я не могу ошибаться! – иначе… о! Нет, я не ошибаюсь! Но почему ты такая разная? Что стоит между нами? Неужели это серьезнее и важнее наших чувств?!
Она молчала, опустив голову, свободной рукой сдерживая его, и чем больше он пытался привлечь ее, тем сильнее она откидывалась, изгибаясь в талии.
– Я знаю – религия… национальные предрассудки… все это такая, если вдуматься, чушь!..
– Чушь!? – прервала она его дрожащим голосом. – Может быть, но только для тебя! Для других очень важно – даже не можешь представить как, и тоже очень болит.
– Пойми, Анжелика, ты в плену, ты опутана условностями и предрассудками… в наше время…
– Пожалуйста… мне больно, – высвободила она руку.
На мгновение острый, парализующий стыд пронзил его. Он отпустил ее, но тут же прижался губами к алым пятнам на запястье, бормоча: «Прости меня, ради Бога…». «Неважно». Он снова обнял ее и притянул за плечи. Головы их сблизились.
– Послушай, Джи! Мир пустой и холодный… люди блуждают в нем как обломки планет… и вдруг, когда встречаются две столь родственные… души… что-то внешнее, постороннее мешает…
– Ильюша, – произнесла она очень мягко и, словно устав сопротивляться, склонила голову ему на грудь, – я боюсь, что тебе только кажется, что родственные, потому что очень хочется, чтобы так было. Нас разъединяет очень многое и очень важное: отношение к религии, к Богу…
– Ах, Бог… отношение к Богу… – забормотал он, глупея от ее близости, – нечто внешнее, постороннее… как оно может вторгаться? Посмотри на нас – мы с тобой сами боги, мы созданы друг для друга… Мы так чудесно дополняем один другого – как две половинки целого мира, богатейшего, необъятного…
– Вот, ты настоящий язычник. Ты смеешь себя, нас сравнивать с Богом и подменять любовь к Нему любовью к себе, к… вообще, вот. В тебе слишком много гордыни…
– Ну да – «придите жалкие, нищие духом». Не понимаю, почему жалкие, опустившиеся, спившиеся грешники достойны большей любви? В то время как мы… я… Я тоже не вырос в раю, но всю жизнь стремился к совершенству, к – если уж на то пошло – к подобию Христа. Я закалял свое тело, совершенствовал дух, держал себя в жестокой узде… В то время, как они развратничали и прожигали жизнь. Уверен, что ты тоже, как я… И что же? Теперь они любимые дети Его?!
Илья незаметно для себя ослаблял объятья и только, когда она высвободилась и отступила, спохватился:
– Впрочем, к чему я все это?..
– Нет, пожалуйста, продолжай. Очень интересно. Теперь вижу, что ницшеанский человек уже существует.
– Ради Бога, не издевайся! Ведь я не хвастался, не пускал пыль в глаза. Просто, ты задела меня, упрекнув в гордыне. Я прекрасно сознаю свои недостатки – я не сверхчеловек и даже не половина, однако, э т и, – он показал на проходивших парней, – не составляют даже десятой части его. Разве я не могу взвешивать и сравнивать себя с другими?
Они поднялись на второй этаж и устроились в темном, пустом холле.
– Не то страшно, что чувствуешь себя выше этих, а что не хочешь смириться перед Господом, бросаешь вызов Ему. И меня хочешь вовлечь… Скажи открыто, зачем я тебе? Хочешь… – голос ее дрогнул, не выдержав иронического тона, – хочешь создать сверхчеловека?
– Ах, Анжелика! Оставим все это – ницшеанство, религию, – с новым пылом заговорил он. – Ты мне нужна, – он поднес ее руку к губам и склонился над ней, – потому, что без тебя мой мир сух и бесцветен, в нем нет красоты и гармонии – одни идеи. Я просыпаюсь иногда и спрашиваю себя, зачем все это, кому это нужно, кому нужен я. Я хочу видеть тебя, слушать твой голос, растворяться вместе в музыке и песнях… Я хочу дарить тебе свои успехи… Если ты захочешь, я сделаюсь чемпионом мира по волейболу или по шахматам, хочешь – стану лауреатом Нобелевской премии по философии…
– Matka Boska, какой ты фантазер! Какой нереальный человек! Какой самоуверенный безбожник. Ты живешь иллюзиями, не знаешь, какие проблемы есть и могут возникать…
– Боже, проблемы! Все чепуха! Проблема одна – тут, между нами. Все остальное мы преодолеем с радостью.
– Большой ребенок, идеалист, – шептала Анжелика, в то время, как он касался поочередно всех ее пальцев губами. – Обещай, что придешь попрощаться с папой.
Уходя, он не чуял под собой ног. На следующий день забежал проститься, возбужденный и немного отсутствующий. Ему показалось, что пан Стешиньский не был по-вчерашнему холодно-натянутым, а прощальный жест Анжелики содержал какой-то тайный обнадеживающий смысл.
* * *
Илья Снегин по-своему боролся с парадоксами века авиации. Вместо того, чтобы, как требовала инструкция на билете, ехать за два часа до отлета на площадь Революции, он приезжал прямо во Внуково, за пятнадцать минут, когда посадка уже заканчивалась. Его принимали как долгожданного гостя, формальности сокращались до нескольких секунд, ему не приходилось стоять ни в одной очереди… Но время от времени Аэрофлот жестоко наказывал своего строптивого клиента весьма простым и безотказным приемом: по три, четыре, а то и пять раз задерживая вылет самолета. Именно так он поступил со Снегиным и в этот раз. Толпы измученных, отчаявшихся людей, из которых некоторые провели в аэропорту уже несколько суток, производили удручающее впечатление, но приподнятое настроение Снегина помогло ему стойко перенести шесть часов ожидания – он забился в самый темный угол зала ожидания и там предался безудержным мечтам, окрашенным в розовый цвет, с Анжеликой в главной роли. Однако, схватка возле самолета и перспектива скорой встречи с матерью изменили ход его мысли. Вопли, ругань и потасовки возле трапа навели его на размышления о диких и жестоких инстинктах, таящихся в душах этих «простых» людей вокруг него. Он мысленно представил, что творилось бы в случае пожара… Но вскоре после взлета его мыслями целиком завладела мама. Еще несколько лет назад он рассказал бы ей все и даже просил бы совета. В сущности, его интересовало только одно: чем должна закончиться подобная борьба в душе женщины, и как ему вести себя, чтобы способствовать желанному исходу… «Ах, нет, – ничего конкретного, только в общем, исподволь… Мама тоже хороший орешек – не хуже пана Стешиньского», – решил он.
Глава XX
Он позвонил не как полагалось членам семьи.
– И не пытайся меня обманывать, я все равно знала, что это ты, – говорила Елена Павловна, открывая дверь и целуя сына. Потом, когда вихрь, поднятый младшим братом, улегся, она добавила, – Ты будешь смеяться, но я чувствовала, что ты приедешь сегодня, хоть это и раньше обычного. Боже, какой ты худой! Но цвет лица ничего, впрочем, нет – слишком бледный. Как ты добрался?..
Неизбежная пресс-конференция, во время которой Елена Павловна успешно справлялась с ролью целой толпы корреспондентов, продолжалась на кухне. Насчет диссертации Илье пришлось покривить душой, ибо он уже не считал, что тут все в порядке. Правда, он сказал для очистки совести, что шеф стремится ограничить его слишком узкими рамками, но Елена Павловна, разминая картошку, мимоходом заметила, что в этом, видимо, и состоит смысл научного руководства. Илья мрачно улыбнулся за спиной матери, но спорить не стал. Отвечая на вопрос о его увлечениях, он опять испытал внутреннее смущение, умолчав о главном. Рассказывая о хоккее, театре на Таганке, музыке, он убеждал себя, что говорить о Чаадаеве, Соловьеве и Бердяеве не только не стоит, но даже опасно, так как мама воспримет их как угрозу его диссертации и «всему будущему». Не стоит сеять сомнения в ее представлении о его будущем… «Ложь во спасение?» – поинтересовалось Я, и, не раздумывая, он сказал, стараясь, впрочем, придать голосу интонацию легкого скептицизма:
– Между прочим, я открыл для себя русскую философию… Ты слышала что-нибудь о Хомякове, Леонтьеве, Соловьеве, Чаадаеве или Бердяеве?
– А, ну эти… славянофилы и западники? – наудачу спросила Елена Павловна, накладывая сыну пюре и котлеты. Из всех имен только Чаадаев вызывал у нее какие-то ассоциации с эпохой Пушкина и Грибоедова, далекой и прекрасной как Возрождение.
– И что?
– Ты знаешь, такие баталии, такая страстность…
– Еще бы… Ну, как тебе котлеты? – задала мать риторический вопрос, ибо не помнила случая, чтобы у сына не было аппетита.
Он дал котлетам высшую оценку, поставив их гораздо выше котлет «по-полтавски», которые он всегда берет в университетской столовой. Их разговор еще поплавал в тихом море житейских тем, как вдруг, подхваченный тайной силой, устремился к желанной цели. Началось с того, что Илью повели на балкон показывать елку. Он похвалил ее и сказал, что с этого года передает право наряжать ее брату.
Конечно, он поделится своим опытом, который, кстати, ему недавно очень даже пригодился, когда пришлось наряжать очаровательную девушку. «То есть?» – коротко спросила Елена Павловна, чтобы не выдать волнения, охватившего ее. Сын рассказал, как он подбирал украшения для Анжелики и рассмеялся:
– Представляешь, ситуация? Четыре девушки, на столе куча чего-то вроде елочных игрушек, и одну из них я должен украшать…
– Что я слышу, мой сын начал интересоваться девушками! А я, грешным делом, думала…
– Начал интересоваться! Плохо ты меня знаешь, я всю жизнь ими интересуюсь. Первая моя любовь… знаешь, кто была?
– Танечка Щетинина из восьмого «вэ»?
– Ну, это уже потом. А про первую я тебе рассказывал?
– Как ты влюбился в свою первую учительницу и на перемене уселся к ней на колени? Молоденькая, хорошенькая, она говорит мне: «Понимаете, Елена Павловна, ведь он обнял меня за шею – не могла же я на него сердиться, и как объяснить, не знаю. Поговорите с ним, пожалуйста.» А потом она тебе «изменила» с каким-то офицером – шла с ним по улице и даже не заметила тебя. Каким несчастным ты был, когда жаловался мне.
– Ах так. Я и забыл про эту историю. В таком случае, я хочу рассказать тебе про вторую свою несчастную любовь.
Они всегда для поздних ночных разговоров выбирали кухню. Крошечная, чистая и теплая, она была самым уютным местом их двухкомнатной «малогабаритной» квартиры, которую Хрущев широким жестом дал семье «геройски погибшего при подавлении контрреволюционного мятежа подполковника танковых войск Николая Александровича Снегина». Квартирка не шла, разумеется, ни в какое сравнение с их апартаментами в Дебрецене, но и ей они были до смерти рады, познав за неполный год все радости коммунальной жизни. Уже после первого курса Илья доставал пальцами потолок, едва помещался в «совмещенной» ванной, негодовал на забитые автобусы и унылый вид своих «черемушек», но умел ценить порядок и покой их квартиры.
Елена Павловна медленно чистила и делала вид, что ест апельсины – она уже прикинула, сколько из них оставит себе на Новый Г од, с кем поделится и кого угостит, – а сын, лениво пощипывая домашнее печенье и попивая давно остывший чай, рассказывал, как он в четырнадцать лет влюбился в Анну Каренину и невзлюбил за что-то Вронского.
– Был уже второй час ночи, когда это случилось, – говорил Илья, – случилось неожиданно, несмотря на все мои тревожные предчувствия. Что, собственно, произошло, я сейчас толком не помню. Кажется, Анна упала перед ним на колени, обнимала его ноги… не помню. Но твердо знаю, что мой ангел был в один миг повергнут на землю – под ноги этому ничтожеству и проходимцу. Я был вне себя от горя, отчаяния и ненависти, схватил книгу, швырнул и разрыдался. Помню, ты приходила в два часа ночи успокаивать меня…
– Да, ты отличался излишней впечатлительностью… И почему ты избрал физику?
– Я хотел знать мир, и физика казалась мне той наукой, которая может раскрыть самую суть его.
Через пару дней мать с сыном отправились, как у них давно повелось, в оперный театр. Выехали они задолго до начала, чтобы побродить в старой части города, которая, собственно, и была их городом. Тут у них хранились сокровища – какая-нибудь решетка, балюстрада, портик, портал или целое здание, которые они тайно присвоили и несколько раз в году приходили проведать. Изредка они делали новые открытия и пополняли свою коллекцию. Только в этот раз Илья слишком часто обращал внимание матери на запущенные и убогие места, за что даже удостоился упрека в критиканстве.
В антракте Елена Павловна сказала:
– Я смотрю, девушки не обходят вниманием моего сына… Раньше я все опасалась, что ты со своей влюбчивостью рано женишься, а теперь – ведь тебе уже почти двадцать пять – начинаю тревожиться…
– Будешь торопить меня, – усмехнулся Илья, – привезу тебе негритяночку или вьетнамку, у меня есть на примете…
– Ах, какая прелесть – шоколадный внучек, или раскосая внучка! Мне надоели мои белобрысые сыновья – никакого колорита, – оживилась она.
– А как насчет других? У нас там учится потрясающая шведка…
– Но уж нет! Если жениться на иностранке, так на черненькой, иначе – никакого интереса, одни хлопоты.
– Какие хлопоты?
– Ты с ума сошел – «какие хлопоты»! Тут хлопот полон рот, – воскликнула Елена Павловна.
– А наши – из соц. стран?
– Да все равно. Если говорить серьезно, я никогда не дала бы своего согласия на такой брак, что, к счастью, сейчас необходимо. Не дала бы, несмотря на все ваши чувства, так как наверняка знаю, что брак на иностранке обречен на неудачу, что он может принести только несчастье всем – и супругам, и родителям. Причем, я не говорю про твою карьеру – закрытых тем в философии, наверное, нет – а именно – про семейную жизнь.
– Ты как всегда категорична, и это не так уж плохо… Но на чем основана твоя уверенность?
– На жизненном опыте. Но я могу, если хочешь, дать тебе и теоретическое объяснение. Видишь ли, когда молодые люди влюблены, они не знают трудностей, а собственные силы преувеличивают…
– Вероятно, – согласился Илья, ни на секунду, впрочем, не допуская, что это может относиться и к нему, – только при чем тут национальность?
– А при том, что, когда женятся люди разных стран, обычаев, убеждений, привычек, тогда помимо обычных проблем возникают такие… Да что там! Когда первая жажда утолена, когда молодые супруги, если можно так сказать, насытились друг другом, они впервые начинают смотреть на предмет своей любви в реальном свете, то есть – замечать слабости, недостатки и даже пороки, на которые не обращали да и не могли обращать внимание – в особенности при сильном чувстве…
Звонок заставил их возвратиться в зал. Тут они вполне насладились муками несчастного отца несчастной дочери и отправились пешком домой. Вначале, выйдя из театра, Елена Павловна прошлась по адресу полноты и возраста Джильды, хотя сама вполне могла бы поспорить с ней в этом вопросе, затем сказала:
– О чем, бишь, я говорила в антракте?
– Ты развивала мысль о том, как смешанный брак усугубляет неисчислимые проблемы молодой семьи.
– И напрасно, вы, юный философ, иронизируете…
– Ну, ну, прости меня, мне очень даже интересно…
– Быть замужем, потерять мужа, вырастить двух сыновей, прожить несколько лет за границей – поверь, это немалый опыт, к которому стоит прислушаться. Ты даже теоретически не можешь себе представить, какая это трудная задача – построить настоящую семью, способную выдержать все прихоти судьбы. Знаешь, даже самые любящие люди иногда просто ненавидят друг друга. За что? За совершенно ничтожную слабость, привычку… А когда разные национальности, жизненные уклады… Ты был еще маленьким, да и прожил с нами в Венгрии всего два года, поэтому не помнишь, как все наши понятия отличаются от европейских… Пойми, женщины там не привыкли таскать после работы сетки с провизией, жить в одной комнате семьей, стоять в очередях… Оторванная от семьи, родственников, от языка… – нет, нет, это невозможно…
Центр города походил на один большой и запутанный пассаж. Люди, нагруженные сумками и сетками, выходили из дверей магазинов, чтобы под носом тяжелого, перегруженного транспорта перебежать на другую сторону, в другой магазин – вдруг попадется ветчина рубленая или хороший торт. Едва не от самых дверей, вцепившись в хвост очереди, они спрашивали, что дают и, толкаясь, изредка извиняясь, спешили занять очередь в кассу. Нервничая и разрываясь меж двух очередей, прикидывали с точностью до ста грамм, сколько взять и чего, проталкивались к прилавку, доказывая свое право, и, урвав добычу, торопились дальше. Эта предпраздничная лихорадка грозила вовлечь в свой круговорот и Снегиных, но слишком важную тему развивала Елена Павловна и настойчиво тянул мимо сын. Ладно, этим они займутся завтра, решила мать и продолжала.
– Любящие так же склонны не замечать недостатков, как, став супругами, через некоторое время – преувеличивать их. И как тут кстати окажутся национальные легенды, чтобы объяснить собственное раздражение! Шотландцы скупы, англичане спесивы, поляки – тряпичники, немцы – зануды и педанты, русские – лодыри и пьяницы… Предрассудки? Согласна. Но они существуют и выползают на свет Божий в «нужный момент».
– Мне кажется, достаточно знать об этих предрассудках, чтобы…
– Видишь ли, можно все знать, понимать, но, когда речь идет о чувствах, обо всем забываешь. Посмотри, посмотри, какая милашка… – зашептала Елена Павловна, – и зачем тебе какие-то иностранки?..
– Ты говоришь об одуревших от чувств людях, пристрастных, почти ненормальных, – предпочел не заметить последнего замечания матери Илья, – все преувеличивают, цепляются за идиотские формулы… Какие-то мнительные психопаты, а не нормальные, разумные люди.
– Нет, именно о нормальных людях я говорю! О людях, которые страстно увлекаются, ревнуют, сомневаются и живут нормальной человеческой жизнью. Кстати, и ты к ним принадлежишь, твоя теоретическая жилка – так себе, налет, появившийся за многие годы учебы. Тебя если поскрести, обнаружится мальчонка, который влюбился в свою учительницу… Просто, ты жизни не знаешь…
Они шли уже темными, безлюдными улицами своих «черемушек», когда Илья попросил мать рассказать подробности гибели отца. Она удивилась его вопросу и без видимой охоты поведала о страшных днях, когда они сидели в осаде и «даже не имели права отвечать на огонь», о том, как отец вышел на встречу с «этими бандитами» для переговоров, и его в упор застрелили, как потом, когда пришел приказ, «им дали жару»…
– Да уж представляю – регулярные части против гражданского населения, – хмуро заметил Илья.
– Не волнуйся, не такие они овечки – страшно вспомнить, сколько наших полегло, – горячо возразила Елена Павловна, и вдруг сын огорошил:
– А зачем вообще надо было вмешиваться!
– Ну, знаешь! Как это зачем! – вскипела Елена Павловна. – Что же, надо было сложа руки смотреть, как их прибирают к рукам недобитые фашисты?
– Ты знаешь, мама, я испытываю стыд, когда думаю о венгерских событиях. Неужели у нас не нашлось никаких аргументов, кроме грубой силы, чтобы переубедить их, если они заблуждались? Раньше я испытывал гордость за отца, а теперь думаю, что он был, видимо, таким же ограниченным догматиком, как многие – эдаким нерассуждающим военным…
– Он был профессиональным военным и коммунистом, и кому другому, а тебе стыдиться нечего. Он, конечно, был строг, но ты должен благодарить его за то, что он воспитывал в тебе дисциплину, чистоплотность и любовь к порядку.








