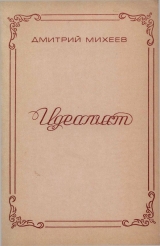
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Н-да, я помню, как он муштровал меня… – сказал задумчиво Илья и неожиданно добавил: – сейчас была бы проблема «отцов и детей»…
Глава XXI
Гости, разумеется, опаздывали. На этот счет существовала негласная договоренность: вы приглашаете на восемь, мы придем к девяти – все равно ведь вы к восьми не управитесь. Илья, в рубашке с галстуком и, по-домашнему, без пиджака, принимал на себя первые эмоции, восклицания, пальто, шубы, сапоги, шапки, сумки, коробки и бутылки шампанского. Первые – они же самые сердобольные – отправлялись на кухню предлагать свои услуги хозяйке, которая в это самое мгновение восклицала: «Боже, гости! А у меня еще ничего не готово!». В числе последних приехали Дроновы: простоватый с виду архитектор, его миниатюрная черноволосая жена и огромноглазая, с детски округлым лицом, дочь их – студентка консерватории. Илья их не знал, а между тем, именно с ними были связаны некоторые тайные надежды Елены Павловны. Поэтому, сбросив передник, она сама вышла их встречать.
– Так вот он, старший Снегин, – улыбаясь, говорила Аурика Мирчевна, отдавая Илье каракулевую шубку, – и вовсе он не заморенный, на спортсмена похож…
– Это признаки вырождения философии, – смеясь ответил Илья, сразу же почувствовав расположение к еще молодой женщине со странным именем.
Зато с Дроновым он очень скоро столкнулся на почве архитектуры. Начался спор с вполне невинного вопроса. Зачем, спрашивал молодой философ, надо было ломать красивое четырехэтажное здание с богиней Никой в нише второго этажа и строить вместо него пятиэтажную казарму. Архитектор отвечал, что в городе есть еще одно такое здание: А таких бараков, вспылил Илья, понастроили уже тысячи. Однако, заметил архитектор, вы вряд ли променяете свой барак на коммунальную квартиру с высокими потолками…
Неизвестно, чем закончился бы этот спор, если бы их не позвали к столу. Задиристый молодой человек, впрочем, понравился Дронову, и позже – во время «всеобщего разброда и шатаний», уже в 1968 году – он вполне примирительно и толково, несмотря на затрудненную речь, доказал ему, что строить высотные здания нам нет никакого резона – пока построишь его, сколько жилья будет простаивать, за это время десяток пятиэтажных заселить можно. Земля, слава Богу, ничего не стоит. Снегин и тут пытался возражать, говоря об эстетике и растянутой безликости городов, но архитектор только улыбался и уговаривал с ним выпить, нисколько не сомневаясь, что молодой философ возражает из упрямства.
За столом по левую руку от Ильи оказалась Маша Дронова, по правую – занятная старушка, которая «знала его еще в-о-т таким», не имела права ни есть, ни пить, но «плевать хотела на всех врачей-дураков». Он принялся помогать ей сводить счеты с диетой и так увлекся, что на время совсем забыл о своей милой соседке слева. Маша, с ее тугой черной косой и невероятно тонкой талией, показалась ему чересчур застенчивой провинциалочкой, и он сразу принял с ней шутливо-покровительственный тон.
– Хочу предложить вам вот этот паштет, но заранее предупредить, – серьезно говорил он.
– О чем?
– Человек, однажды попробовавший его, уже не может остановиться.
– Ну и что? – спрашивала она со сдерживаемой улыбкой.
– Как что! Разве вы не знаете? – он заговорщически наклонился к ней и доверительно зашептал. – Посмотрите на мою маму. До сорока лет она была стройной, изящной женщиной, пока не эта злополучная страсть…
– А я все-таки попробую, – смеялась Маша, – ваша мама такая чудесная!
– Что ж, дело ваше, – вздохнул он, – только, когда будете менять скрипку на виолончель, вспомните, что я предупреждал вас.
Было тесно, изобильно и шумно. Произносили немудреные тосты, предлагали грибочки, рыбку, помидорчики, просили передать горчицу и хрен, советовали запасаться хлебом, так как хлебные тарелки не помещались на столе, подливали вино, коньяк и водку, хвалили заливное, восхищались кроликом, хлопали шампанским и заливали им холодец… Безраздельно господствовали «старики». Они шумно подымались, просили тишины, требовали, чтобы у всех было налито и после долгой подготовки произносили тост за здоровье хозяйки, затем начиналось чоканье… наконец, стыдили всех, кто не допил, и на время сосредотачивались на закусках…
Настал момент, когда кто-то из них затянул «На позиции девушка провожала бойца…» Тогда молодежь, снисходительная и сдержанная, начала потихоньку собираться в другой комнате возле радиолы. Столичные новинки Ильи вызывали любопытство, но начать танцы никто не решался. Однако и «старички» еще не созрели для смачного пения, поэтому хор их быстро выродился в женский дуэт, а затем и вовсе умер вместе с ямщиком. Они перешли в комнату к молодежи и заполонили ее своими телами и темпераментом.
Кремлевские куранты сменились выстрелами шампанского, криками молодецкого «ура» и визгом, которые напрочь заглушили звон хрусталя. Это был апогей, но и начало настоящего веселья. Опять посыпались бесхитростные тосты, и вдруг кто-то из дам предложил выпить за то, чтобы не было войны. Призрак «желтой опасности» заглянул в комнату, но его тут же изгнали дружным хором: «не посмеют, наших старых винтовок на всех не хватает, а водородная бомба зачем!..» Он пытался еще раз – с чьим-то замечанием: «а все-таки, ведь, почти миллиард», но не выдержал едкого: «а для нее все равно сколько», и больше не показывался.
Никто не умел танцевать рок-н-ролл, но чуткая гибкая Маша, преодолев смущение, подчинилась Илье, и он был вполне счастлив. Когда же она по настоянию всех исполнила пару пьес на скрипке, он едва не расплакался, то ли от усталости, то ли от выпитого, и жаловался Маше, что не умеет играть ни на одном инструменте. «Но если меня посадят в тюрьму, – добавил он неожиданно, – и там будет пианино, я обязательно научусь». Девушка звонко смеялась, забавно обнажая голубоватые зубки, – Илья уже не казался ей слишком взрослым и серьезным. Тут к ним подошел ее отец, без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки и сбившимся галстуком; она сделала недовольное лицо и не на шутку разобиделась, когда он увел Илью «на разговор». Молодой философ нехотя поднялся и, желая одним ударом разделаться с хмельным оппонентом, сказал:
– Ну, о чем тут говорить! По-моему, у нас вообще нет архитекторов – одни домостроители… Я, например, могу назвать полдюжины западных архитекторов: Ле Корбюзье, Ван дер Роэ, Райт, Джонсон… а советских ни одного не знаю. Даже кто строил МГУ, не известно.
– То-то и оно, что вы перед Западом преклоняетесь, – рассеянно отвечал Дронов, подводя тем временем Илью к столу и наливая две рюмки коньяка.
– Вот она, проклятая и вечная русская формула! – вспыхнул Илья и от коньяка отказался. – Как можно поклоняться западу, северу или северо-востоку? Поклоняются красоте и разуму! Мне тошно смотреть на свой город, на его серую барачную безликость. Я до боли хочу видеть здесь оригинальные, стройные, светлые здания, я хочу видеть город, а не пятиэтажную деревню. Посмотрите на этот солдатский строй – здесь всякое разнообразие, всякая индивидуальность задушены… Более того, ваши дома внушают людям ежедневно, ежечасно, что они такие же одинаковые, серые пчелки, как эти соты. Страшная, преступная мысль!
Дронов прикончил бутерброд с ветчиной, вытер платком губы и вполне дружелюбно, что даже поразило молодого человека, сказал:
– А вы взгляните на дело с другой стороны. В таком районе живет десять тысяч семей, и у каждой семьи есть своя ванна, кухня, туалет – пардон – а скоро и телефон будет. Тысячи семей, живущих в подвалах, в коммунальных квартирах и просто по нескольку в одной комнате – а, для вас это открытие – мечтают о таких сотах! Где уж тут дворцы строить.
– Ну хорошо, но зачем строить так бездарно? Почему не построить вместо десятка этих коробок один небоскреб в сорок этажей, а вокруг не развести сад, не оборудовать спортплощадки, бассейны?..
– Объясню, охотно объясню, – улыбался Дронов. – Если задаться целью построить во что бы то ни стало, как, скажем, МГУ построили…
И архитектор весьма точно и исчерпывающе изложил молодому человеку, каких затрат, какой перестройки всей промышленности потребовало бы нетиповое высотное строительство…
– И прекрасно, должна же она перестраиваться, – пожал плечами Илья.
– Вы не поняли меня, молодой человек, – все, все: и стройматериалы, и лифты, и система снабжения, и подъемные средства, и методы строительства… – буквально все должно измениться. Такая перестройка длилась бы не меньше десяти лет, так как понадобилось бы развить целые новые отрасли промышленности, а нас и так жилищный вопрос поджимает – дальше некуда…
Илью уже не тянуло назад к Маше. Этот мужиковатый, изрядно захмелевший человек, без сомнения, знал свой предмет – от деталей до самых общих аспектов.
– А как же у них ТАМ?
– Э-э! У них земля дорогая! Он купил себе клочок земли и хочет выжать из нее максимум выгоды, да побыстрее. А у нас что – у нас земля ничего не стоит, да и хватает ее… – Дронов рассмеялся, отчего Илье сделалось как-то не по себе. Он извинился и вышел на балкон.
Направо была стройка: забор, развороченная земля, блоки, кучи кирпича, песка – все небрежно припорошено снегом и освещено болтающимся светом. Слева из пятиэтажки доносилось крикливо-пьяное «на простор речной волны». Дальше чернели и разрозненно мигали домишки «частников». «Ужасно, как это ужасно – «ничего не стоит»! – думал Илья, – «…пала, пала жертвой своей необъятности».
Седьмого – в воскресенье – Дроновы приехали на своей «победе», чтобы вместе со Снегиными идти кататься на лыжах. Рождественский день был морозным и солнечным. Родители отправились в лесок, а Маша, Женька и Илья затеяли катанье на склонах большого оврага. Тут тон задавали местные мальчишки – невозмутимые и дерзкие, они спускались самыми немыслимыми трассами, заражая пришельцев из города. Эти последние с поразительной изобретательностью падали: на бок, плашмя, предварительно сев… и, перепачканные белым, снова лезли наверх. Илья с Машей постояли недолго наверху, смеясь вместе со всеми над неудачниками, затем он несколько раз успешно съехал и, осмелев, отправился искать спуски посложнее. Она следовала за ним как Санчо-Панса и была идеальным болельщиком, ибо успехи его воспринимала как достижения, а неудачи – как случайности. Ему нравились ее глаза: то тревожные, то восторженные, и он искал все более рискованные спуски, чтобы услышать взволнованный шепот: «не надо, прошу вас, тут невозможно». Наконец случилось то, что неизбежно должно было случиться: на пути его попался небольшой трамплин, правая лыжа ящерицей скользнула вбок, его подбросило и на полном ходу швырнуло на склон… Все перевернулось, смешалось, полетело куда-то и исчезло. Казалось, бесконечно долго он ничего не чувствовал, кроме блаженного покоя. Не хотелось открывать глаза, чтобы не видеть обломков, рваного, не чувствовать боли. Когда он их все-таки открыл, он увидел спешившую к нему Машу.
– Что с вами? Вам больно? – разом выдохнула она свой страх, свою тревогу и опустилась в снег возле него.
Илья слабо улыбнулся и покачал головой.
– Но вы можете подняться? – испуганно прошептала она, низко наклоняясь к нему разгоряченным от бега лицом.
И тогда, не соображая, в неудержимом порыве он чуть-чуть пригнул ее голову и поцеловал эти наивные теплые губы.
– Мне хорошо, как на небесах, – сказал он, блаженно улыбаясь.
– Ох! – вздохнула она, и чего только не было в этом вздохе, – я так напугалась…
– Ну, чего там! Представляю, как это забавно выглядело, – говорил он, высвобождая из-под себя правую ногу, – а, черт! – кажется, недельку мне не придется танцевать, – криво улыбнулся, как поморщился, он. Правая нога болела в колене.
– Болит?! – опять всполошилась она. Давайте, я помогу вам.
В один лишь миг столь многое изменилось для девушки, что тайное желание сделать для него что-нибудь приятное превратилось вдруг в долг, неизвестно кем на нее возложенный. Она словно обрела право заботиться о нем. Собрав палки и обломки лыж, она решительно предложила:
– Опирайтесь на мое плечо, пожалуйста.
– Спасибо, но я, кажется, могу еще сам, и потом, – он взглянул на нее с любопытством, – наверху глазеют на нас…
Но ее даже не коснулся смысл его слов.
– Я понесу лыжи, а вы опирайтесь…
– Хорошо, только дайте мне этот обломок – так будет еще романтичнее…
Она недоверчиво взглянула на него – право же, лучше было, когда он лежал неподвижный и беспомощный…
Надо признаться, что это маленькое событие вскоре выветрилось из головы Снегина, оставив лишь ощущение чего-то мимолетно-приятного, ибо мысли его все чаще посещали Москву и с каждым посещением становились тревожнее. В сущности, это были даже не визиты, а бесконечные диалоги: его – с паном Стешиньским, его – с Анжеликой, отца – с дочерью и его – с собственным Я. Последние, по причине несносного характера Я, были самыми изнурительными. Это продолжалось неделю, десять дней… у него оставалась еще неделя – до начала экзаменов у студентов, которые он должен был помочь принимать шефу – и вдруг, неожиданная, как побег, бледно-зеленый и крошечный, но столь же реальная мысль возникла на вспаханном и взрыхленном поле его сознания: «она уехала». Противная, дрянная мыслишка – ничего не стоило бы задавить ее тяжелым бронированным кулаком логики, но он странно спадал в унизительном бессилии, и росток креп, впивался в землю, захватывал пространство. Через два дня растеньице превратилось в монстра, и, спасаясь, Снегин за два часа собрался и уехал в Москву.
Глава XXII
Выйдя из Большого, польский отряд распался на две равных половины. Одна – в составе Карела и Барбары – направилась на юг, в сторону университета, другая – средних лет господин и тоненькая девушка – повернули на восток. Похвалив декорации и хор, ругнув казенно-патриотического Сусанина и бросив уважительное замечание в адрес русского мороза, отец с дочерью достигли гостинцы Берлин. Тут им пришлось перенести собеседование относительно правил внутреннего распорядка гостиницы, показать паспорта и выдержать укоризненно-косые взгляды поверх очков. Дочери это далось легче; что касается пана Стешиньского, он впервые в жизни пожалел, что не говорит по-русски: неуклюжий институт переводов лишал его единственного оружия.
В старомодно-роскошном и одновременно убогом номере он дал выход своему раздражению:
– Никогда к этому не привыкну – люди, которые по роду своей деятельности должны угождать, ухаживать, предупреждать желания, эти люди тиранят и глумятся… Все вверх ногами! Лакеи стали господами, а господа превратились в униженных просителей…
– Кто угодно, только не ты, – улыбнулась Анжелика, – они чувствуют в тебе господина за двадцать шагов.
– Ты бессовестно льстишь мне, – нахмурился он, но голос его смягчился. – Не знаю, что они чувствуют, но я себя – весьма неуютно.
Пан Стешиньский открыл форточку, закурил и совсем мягко сказал:
– Джи, я хотел поговорить с тобой о… так сказать…, скоро я уеду, а ты, по-видимому, останешься… Мне хочется надеяться, что то доверие, которое всегда между нами было, осталось…
– Да, папа, я уверена, но боюсь, что…
– Я постараюсь понять тебя, – поспешно вставил он, – кроме того, что бы я ни сказал, будет продиктовано любовью… ты не сомневаешься?
– Нет, конечно, но мне кажется, я знаю, что ты хочешь сказать.
– Ты всегда была умницей, но сейчас… боюсь, можешь недооценивать многие вещи, видеть их не так ясно. В этой интернациональной среде – ты уже четыре месяца – у тебя могли притупиться национальное и религиозное чувства, а также то, что так архаично звучит, но, тем не менее, существует – чувство крови. Здесь настоящий Вавилон, все перемешалось, и, естественно, может возникнуть чувство, что и во всем мире так…
Пан Стешиньский поискал глазами пепельницу и, не найдя, выбросил сигарету в форточку. Анжелика, лежа на кровати, листала технические проспекты.
– Это похоже на карнавал: музыка, все в масках и кажутся необыкновенными. Но карнавал когда-то кончается, и приходится разъезжаться по домам – кому в бунгало под пальмой, кому в юрту… А Вавилон остается. Только сувениры и знания можно взять с собой, ничего больше…
Его красноречие заставило Анжелику отодвинуть в сторону проспекты. Она лежала теперь на животе, подперев голову, и с улыбкой следила за отцом. Он же продолжал воздвигать из трюизмов, цементируя логикой, внушительное сооружение, пока вдруг не почувствовал, что одна ее фраза может разрушить все его построения. Он растерялся – тут кончалась всякая власть логики. Не мог же он сказать ей: «не надо, не люби этого парня», да и против него самого не находил убедительных возражений. Надо было косвенно, исподволь повлиять на ее сердце, но как? И он пустился в воспоминания. Напомнил, как они всей семьей ходили в незаметный костел на окраине, как отмечали праздники, рассказал несколько подробностей из жизни своего отца, о поместье под Львовом… Воспоминания воспламенили его, и наконец он решился:
– Ты спросишь, какое отношение… Отвечу – прямое. Это пронизывает нас, нашу жизнь… А он… конечно, он производит довольно приятное впечатление, можно даже сказать, что он похож на джентльмена… Но если снять эту европейскую оболочку, что рано или поздно должно случиться, ты обнаружишь под ней москаля, грубого и хитрого азиата, коварного и опасного врага Польши, католичества, самого духа европейской цивилизации, демократии.
– Прости меня, папа, – сказала Анжелика, садясь, – но мне кажется, что времена быстро меняются… Теперь все становятся терпимее, стараются понять друг друга. Мы все европейцы, мы так похожи, у нас общая культура…
– Вы все тут ходите в масках, живете одинаковой и не своей жизнью. Поэтому и кажется, что все одинаковы, похожи. Но стоит попасть болгарской девушке в Германию… Можешь поверить опыту моему и твоей матери… Да, Джи, есть такая теория о сближении наций, стирании национальных различий, но разве на практике она не означает, что шотландцам, ирландцам и валлийцам следует побыстрее стать англичанами, австрийцам – немцами, полякам, болгарам, прибалтам и другим – русскими, а в более отдаленной перспективе всем – американцами? Ты думаешь эта теория – новость двадцатого века? Ей столько же лет, сколько существуют на свете империи. Когда Рим стал империей, точно такая же теория превратилась в государственную идеологию. И знаешь, кто был ее самым ревностным сторонником? Да, именно вчерашние колонии, управляемые территории, то есть те, кому по этой теории надлежало исчезнуть и превратиться в римлян. Появились римские императоры испанского, германского происхождения, и они вдохнули в империю новую жизнь, но они же и скрывали в себе ее гибель. Когда она стала слишком рыхлой, пестрой, потеряла единое национальное начало, она стала разваливаться на куски – сперва на два, а потом…
– Ты не хочешь чего-нибудь выпить? – осторожно спросила Анжелика.
– Да, там есть пиво. В самом деле у меня пересохло во рту.
Он присел к столу и, побарабанив пальцами, негромко сказал:
– Рано или поздно, но эта империя тоже разлетится, и мы – поляки… боюсь, нам еще предстоит схватиться с ними. Ты видишь, «Сусанин» не сходит со сцены, а «Дзяды» не постеснялись запретить…
Анжелика молча наливала в стаканы пиво. Казалось, она знала все, что он говорил, и кое-что очень важное – сверх того.
– Ты, может быть, думаешь, что я занимаюсь не совсем уместным теоретизированием? Нисколько! Я говорю о насущных проблемах, с которыми предстоит столкнуться в ближайшие пять, семь лет.
– Эту страну не ждет ничего хорошего, – сказал пан Стешиньский, выпив пиво и вытерев платком губы, – когда ее экономика окончательно зайдет в тупик, они опять начнут пожирать друг друга и мечтать о новом Сталине. Все, что мы можем сделать для нее – это помочь ей как можно быстрее распасться. Самое же разумное – держаться от нее подальше, как от падающего колосса…
Он говорил, она слушала. Она понимала его, но в ушах ее не переставали звучать и другие слова: «я хочу видеть тебя, впитывать твой голос, растворяться вместе с тобой в музыке и песнях, дарить тебе твои успехи… хочешь, я стану чемпионом мира по шахматам или лауреатом нобелевской премии?..» Наивные и смешные слова, но как приятно вслушиваться в них!
Наконец пан Стешиньский заметил ее отсутствующий взгляд и затаенную улыбку. Ему стало страшно, как если бы дочь на его глазах сходила с ума. Вопрос «ты любишь этого парня?» подкатил к самому горлу, но вытолкнуть его Станислав Стешиньский не смог и, досадуя на себя за малодушие, сердито спросил:
– Ты хочешь что-то возразить мне?
– Нет… да, видишь ли, папа, – неуверенно начала Анжелика, – я согласна с тобой: они принесли нам много зла – руками немцев разрушили Варшаву, расстреляли наших офицеров и многое другое, – но это было так давно! Когда-то надо наконец забывать старые обиды…
– Если бы они покаялись и просили о прощении, наш христианский долг был бы простить, но они упорствуют в творимом зле, они изворачиваются и нагло врут – пишут сотни книг, пишут параллельную историю… Но, что еще хуже, они навязывают нам – одному из самых свободолюбивых народов – варварскую тоталитарную систему! Зачем они держат не меньше восьми дивизий? Против «империалистов»? Нет, они знают, как мы любим их…
Отец снова ходил по комнате, скупо жестикулируя, не глядя на дочь. Но последние слова произвели – он заметил краем глаза – какую-то перемену в ее позе. Пан Стешиньский круто развернулся: дочь сидела, скрестив на столе руки и уронив на них голову. Он закурил седьмую за день сигарету – вторую сверх нормы – дважды выпустил в форточку дым и мягко спросил:
– Что с тобой, Джи? Ты устала?
Она медленно подняла голову, убрала с лица волосы.
– Как тяжело! Какая мучительная ситуация! Я думала о своих русских друзьях и знакомых… они такие милые и приятные… – «любит, – подумал пан Стешиньский, – она его любит!» – но в целом, я согласна, страшная опасность… И я не понимаю, не понимаю, как это может быть! Как можно много, кучу милых людей превратить в… чудовище?! Мне кажется, что они сами – первые жертвы.
– Каждый народ достоин своего правительства, и не все они такие милые, как твои друзья, – проворчал пан Стешиньский.
– Мы тоже достойны Гомулки?
– Нет, нас это не касается. Если бы не русские, он не продержался бы и одного дня… Впрочем, с нами все ясно – психологически нам, вероятно, легче, чем какому-нибудь порядочному русскому. У нас внешний враг и есть опора…
– Значит, все-таки, признаёшь возможность существования «порядочного» русского? – улыбнулась Анжелика.
– Только теоретически, только теоретически. На практике – если честен, то дурак, если умен, то подлец, а если умен и честен, то мертв, или – скоро будет, – рассмеялся пан Стешиньский, но тут же спохватился, заметив, как дрогнуло и исказилось лицо дочери.
– Ужасно… Мне очень тяжело тебя слушать, – чуть слышно сказала она.
Наступившая тишина делалась невыносимее с каждой секундой. Пан Стешиньский побледнел и глухо, растягивая слова, сказал:
– Если дело зашло столь далеко… тогда… я думаю, будет лучше, если ты уедешь…
Она ждала любой вспышки гнева, любой резкости, но только не этого. Увезти ее как нашкодившего ребенка… Однако возражать ему значит только укрепить его решимость. Сказать, что ей самой хочется, что будет скандал, что потеряет преимущества иностранного диплома? Первое будет очевидной ложью, остальное не произведет на него впечатления…
– Конечно, самый простой выход – уехать, правильнее – убежать… Но мне уже не семнадцать, – покраснела она, – и у меня есть гордость…
– Да, понимаю… понимаю, – вполне спокойно начал он и вдруг почти закричал, – но ты женщина! Уж я-то знаю, что это значит! – Это было одно из самых счастливых и глубоких заблуждений пана Стешиньского. – И вы не в состоянии контролировать свои чувства, попросту – теряете рассудок, которого и так мало…
Анжелика подошла к отцу и обняла его за шею.
– У всех женщин – конечно, но ведь я – дочь Станислава Стешиньского…
Он поднял тяжелую голову, взял ее за подбородок и в упор сказал:
– Да, и поэтому я убью тебя, если…
В канун Нового Года пан Стешиньский вылетел в Краков. Помимо всего прочего он сообщил Эстер, что Анжелика увлечена одним русским, но он имел с ней основательную беседу и рассеял ее иллюзии. Как ни странно, эта реляция не успокоила пани Стешиньскую. Она начала обдумывать новые варианты и остановилась вскоре на стоматологе. Пусть Анджей съездит в Москву, они так давно не виделись, может быть…
Глава XXIII
В поезде он почти не спал – было тесно, душно; скрипело, бросало, толкало; в мозгу заело какой-то механизм, и он ни за что не хотел отключаться. Бледный, с тяжелыми, воспаленными веками дрожал он в телефонной будке, пока какая-то добрая душа не снизошла поднять трубку и позвать Анжелику из тридцать первой.
– А-ллоу, Анжелики нет, кто ее спрашивает? – услышал наконец он голос Барбары. – Аллоу, аллоу, вы слышите меня?
– Барбара, это я, где Анжелика? – выдавил он из себя.
– Илюша, дорогой, ты в Москве? Она пошла на консультацию…
Он закрыл глаза и прислонился к стеклянной стенке. Барбара говорила про экзамены, про Новый Год – ничего не задевало его сознания. И только, когда она сказала, что вечером они ждут его, он начал понимать смысл. Однако, в болтовне девушки содержалось и нечто важное, и не пропусти он это мимо ушей, не случилось бы… Впрочем, можно ли осуждать человека в его состоянии, сдавшего за свою жизнь не меньше пятидесяти экзаменов, за то, что он не обратил внимания на подтрунивания Барбары над сестрой. Сдохнет, видите ли, над книгами, перед каждым экзаменом молится и ничего не ест, спит по четыре часа, раздражительна как ведьма…
– Я пролистаю за ночь и получу ту же пятерку…
Это не совсем соответствовало истине. У Барбары случались срывы в образе троек и даже пересдач, но относилась она к ним легче, чем сестра к четверкам. Анжелика владела странным даром подводить преподавателя к тем местам, относительно которых она испытывала неуверенность.
Добравшись до своей комнаты, Илья не раздеваясь лег на диван и проспал молодецким сном три часа. Встал бодрый, полный радостного предчувствия и стал собираться.
Вначале действительность превзошла его ожидания. Анжелика, закутавшись в плед, сидела в полутемной комнате за столом, заваленным книгами, конспектами и листками бумаги, исписанными простым, тонким почерком. Он взглянул на девчоночьи косички, на зябкие клетчатые плечи, и ноги его подкосились. Сделай она малейшее движение ему навстречу, он или рухнул бы на колени, или схватил бы ее на руки… Но она протянула ему холодные, невесомые пальцы и задержала, когда его качнуло к ним.
– Здравствуй, Анжелика! Я так рад… видеть тебя, – говорил он, пытаясь заглянуть за опущенные ресницы. – Знаешь, мне пришла в голову идиотская идея – что ты уехала в Польшу.
– Уехала? Да, надо было, пока не сошла с ума, – она больнично улыбнулась и кивнула в сторону стола. – Вот видишь, завтра экзамен, а я не знаю даже половины этой кучи.
– Значит, – Илья разрезал взмахом руки ворох книг пополам, – вот столько ты знаешь? Я думаю, этого вполне достаточно. Вторую половину мы заменим вином…
Он достал из сумки и водрузил поверх книг пузатую бутылку, а бумаги засыпал мандаринами.
– Но где же Карел с Барбарой? – спросил, бросая на постель пальто.
– Я прогнала их…
– Сейчас найду.
– Ах, нет, не надо… подожди!
Но было поздно. Он выскочил и пошел на третий этаж к Карелу. Только теперь Анжелика поняла, что он в самом деле хочет организовать вечеринку. Она в отчаянии опустилась на стул. Нет, так невозможно жить; то сестра, то Карел, другие бездельники… и даже Илья – бесчувственный как чурбан! Ведь сказала же, что завтра экзамен…
Барбару с Карелом не пришлось долго искать: они сидели в его комнате, грязной, прокуренной и полной пришлого народа. Толстый лохматый венгр Золтан терзал волосатыми руками гитару и ревел что-то нечленораздельное «под Армстронга». В выхлопной табачной дымке плавали лица, подернутые кайфом. Несколько голосов приветствовали Снегина. Он пошел на радостно вздернутые руки Барбары и втиснул себя в крошечную щель между спинкой кровати и ее бедром.
– Давай, драгош, эту: там, ла-ла-ла, т-а-а-м, – напела она венгру мелодию.
Золтан без слов и без перехода начал что-то очень знакомое. Он ласкал и мучил гитару. Наклонялся, прислушиваясь и шевеля губами, откидывался, словно собираясь отшвырнуть свою жертву. Лицо его, серьезное, почти сердитое, странно контрастировало с музыкой, то нежной, то зажигательной.
– Давай споем Боба Дилана, – шепнул Илья Барбаре, которая, как и он, едва сидела на месте.
Она взяла у Золтана гитару и, мерно покачиваясь, стала нанизывать завораживающие аккорды на шелковую нить мелодии. Потом, выдержав паузу, запела:
– О… oh, mister tumborine – man, play a song for me…
– I am not sleepy, and there is no place I am going to…[1] – сменил ее Илья.
Барбара повторяла свой призыв, а Илья голосом усталого, удрученного человека отвечал ей. Вскоре он так увлекся, что слова, простые и забавные, сами стали приходить в голову – получалась импровизация в стиле негритянских spirituals. Время от времени на губной гармошке вступал Золтан, и Барбара прихлопывала в ладоши…
Никто не оставался безучастным: все улыбались, покачивались, топали ногами и хлопали в ладоши. Илья блаженствовал, закрыв глаза и запрокинув голову, но отсутствие Анжелики становилось все нестерпимее. Ну, почему она там, не поет вместе с ним, не смотрит на него, не касается быстрыми вкрадчивыми пальцами?.. Он нагнулся к Барбаре и шепнул:
– Пойдем туда, развеселим, растормошим ее… есть вино…
Идея привела Барбару в восторг: позлить сестру, с помощью Ильи! – прекрасно!! Она передала гитару венгру и, не одевая туфель, выбежала в коридор. Через минуту трое парней и босая девушка, не переставая «импровизировать», ввалились в комнату № 431.
Анжелика, которая совсем было успокоилась, решив, что до него все-таки дошло, машинально поднялась со стула и прижалась спиной к фотографии Вестминстера – две колючих башенки увенчали ее шотландские плечи. А в комнате разыгрывался спектакль. Карел с Ильей отодвинули стол, раскупорили бутылку и, не переставая приплясывать, чистили мандарины, Золтан играл верхом на тумбочке, Барбара металась..»
Забавное, в общем-то, зрелище казалось почему-то Анжелике до такой степени нелепым и диким, что в первое мгновение она не могла произнести ни слова, только глаза ее расширялись и сужались зрачки.
Огромное, лохматое чудовище рычало, ревело и рвало гитару, ее милейшая сестрица кривлялась в немыслимом наряде, Илья с лакейской лощеностью и глупейшей улыбкой скользил по комнате, угощая всех вином из единственного стакана, который непрерывно пополнял из бутылки в другой руке. Карел, с мрачным, тяжелым лицом инквизитора, собирал в охапку и сваливал зачем-то посреди комнаты книги, затем зажег спичку и сделал вид, что поджигает. Подхватив его мысль, Илья приблизился к Анжелике и, отвратительно гримасничая, стал жестом приглашать ее «на костер».








