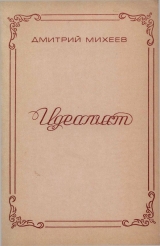
Текст книги "Идеалист"
Автор книги: Дмитрий Михеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Я говорил о главной цели человечества – о выживании, – снова оживился он, ухватившись за утерянную мысль, – а она немыслима без экспансии нашей власти над природой, иначе существование наше слишком непрочно. Экспансия, в свою очередь, требует не только сохранения существующих жизней, но и мобилизации всех творческих способностей человека. И напрасно ты будешь искать здесь противоречие со счастьем отдельного индивидуума – оно необходимо, чтобы он мог творить; и наоборот – создав ему условия для развития его способностей и для творчества, мы сделаем его счастливым. Фу, наконец я довел свою мысль до конца! Боялся, что ты прервешь меня.
– А я, по правде говоря, еле стерпел, – сказал Андрей. – Страшновато тебя слушать, старик: экспансия, власть над природой, мобилизация… В результате – миллионы гектаров похеренного леса, вонючие водоемы на месте плодородных долин, сточные канавы вместо рек, выхлопные газы… Посмотри на этот двенадцатиэтажный муравейник, на метро в часы пик, на очереди и серые, пустые лица. Вот она, твоя пресловутая «разумная деятельность»! В Природе была полная гармония, а мы вторглись, как дикари, и начали перегораживать реки, посыпать дустом, уничтожать волков, насекомых, воробьев, взрывать бомбы…
– Понятно, новоявленный Жан-Жак, – язвительно, как только мог, вставил Илья. – К деревянной сохе зовешь?
Андрей неопределенно пожал плечами.
– Не берусь давать рецептов, – ответил он, – но в одном не сомневаюсь: природу надо не переделывать, к ней надо приспосабливаться, изучать ее законы и приспосабливаться… Секундочку, я заканчиваю! Самое страшное – как вы, прагматики-позитивисты, с человеком обращаетесь. Вы даже признаете счастье в качестве предпосылки. Но главное – это его производительность, отдача, так сказать. А что делать с теми, от которых нет отдачи?
– Я не верю в таких! – поспешно заметил Илья.
– До фига, старик, до фига! Пьяницы, забулдыги… – короче, эпикурейцы всех мастей: ede, bibi, lude (ешь, пей и веселись). Хуже того – сколько таких, от которых не только отдачи, которые станут поперек твоей экспансии власти. Что с ними? Под ноготь, небось? То-то! Разве не разумно будет переделать их в удобрения и посыпать Сахару? Грубо? Ладно, – создать из них трудовые отряды, чтобы рыли каналы в той же Сахаре? Разумно? Разумно. А запашок… того… дурной…
– Отвечать на все выдвинутые тобой обвинения недели не хватит. Но в той части, в которой они справедливы, есть одно объяснение, которое я скажу, не доказывая: во всех перечисленных грехах виноват не разум, а недостаток его. Скажем, электрификация необходима, но строить гигантские водохранилища вряд ли целесообразно из-за массы побочных эффектов. То есть, в данном случае продумали игру всего на один ход, как и во всех прочих твоих примерах. А надо рассчитывать на пять, десять шагов. Вот почему нужны мозги миллионов, десятков миллионов, ибо сегодняшняя кучка ученых не справляется с колоссальной мыслительной работой. Но, чтобы эти люди могли думать, надо освободить их от сохи, одеть, накормить, выучить…
Он неожиданно замолк, затем с горечью сказал:
– Черт-те-что, какие прописные истины говорить приходится! – доказывать необходимость научно-технического прогресса. И откуда эта вздорная идея, что прежде была гармония между человеком и природой? Когда она была – в доисторические времена, в древнем мире или в средние века? Я отвечу: если гармония и была, то тогда, когда население планеты было слишком ничтожным, чтобы загадить, испохабить природу. Они сдирали шкуру с убитых животных, вываливали на землю внутренности, выжигали леса, и только недостаток технических средств и человеческих ресурсов спас Природу. Если бы мы поступали так же, то с нашими техническими возможностями, мы уничтожили бы все за один год. Мы совсем недавно получили в свое распоряжение глобальные средства воздействия на природу, но ни одним из них не злоупотребили серьезно… Ах, я устал спорить… Знаешь, у нас с тобой противоположные мировосприятия: у меня европейское, а у тебя – византийское. Я считаю, что надо изменять среду, ты – приспосабливаться, для меня человек – свободный творец, для тебя – раб природы, или еще чего-то. Я склонен к бунту, протесту, ты к терпимости, смирению. Я верю в человеческий разум, ты – в Бога. Я верю в Прогресс, ты в нерушимый порядок, в гармонию… Тебя, если поскрести, – Илья подошел к Андрею сзади и запустил пятерню в его шевелюру, – чего доброго еще и монархиста обнаружишь?
– Возможно, – спокойно ответил Андрей.
– Ну и ну! – уселся и уставился на друга Илья. – В наше время! Ты не шутишь? Чтобы современным государством управлял болван только потому, что он отпрыск…
– «Умом Россию не понять», Ильюша. Никак ей без царя нельзя, поелику не государство она в обычном национальном смысле, а некое наднациональное образование. Не может она держаться на честолюбии продажных политиков…
– Тэ-эк-с, – протянул Илья, опять вскакивая с кресла, – придется, видимо, начинать с начала.
– В другой раз, старик. Мы оба устали, в другой раз. Скажи лучше, как ты намерен вертеться меж двух огней? Или бунтовать собрался?
– Бунтовать? – переспросил Илья, пожимая плечами. – Не знаю, я еще ничего не решил, – и решительно добавил: – Вот вертеться я точно не стану.
– Ну-ну… – покачал головой Андрей.
Они вскоре расстались, договорившись насчет вечеринки. На прощанье Андрей дал Илье «Истоки и смысл русского коммунизма» Н. Бердяева и «Так говорил Заратустра» Ницше.
В метро, не выдержав пытки любопытством, Илья раскрыл Ницше – насчет Бердяева он получил от друга строжайшее предупреждение – и наткнулся на сентенцию:
«Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя: храни героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду!»
И тут же – на другую:
«В стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей».
Вагон, с его светом, грохотом и усталыми, поношенными лицами, в один миг растворился и сгинул. Илья был в пустыне; впереди на большом отдалении искрились вершины каких-то гор; откуда-то звучал прекрасный голос:
«Со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.
Надо сдерживать свое сердце: стоит только распустить его, и как быстро теряешь голову!
Существует в мире много грязи – и это верно. Но поэтому сам мир не есть еще грязное чудовище!
И если ваша твердость не хочет сверкать, резать и разбиваться, как могли бы вы вместе со мной – созидать? Ибо созидающие тверды…»
Каждая строчка жгла и сверкала! Сколько лет он по капле собирал их, выжимая из сотен рыхлых и пресных томов! Как измученный жаждой путник он слизывал с травы ее утреннюю влагу, не смея мечтать об источнике, и вдруг встретил, и приник, захлебываясь от восторга и счастья. Каждое слово для него, именно для него, только для него! Он пытался выписывать, но как мучителен был выбор: это взять, а это оставить?! Взяв у товарища фотоаппарат, он переснял книгу и немного успокоился. Но строки, не написанные его рукой, не принадлежали ему; он продолжал выписывать. Насытившись Заратустрой, он закопался в «Ленинке»…
Глава XIII
В день концерта Илья читал главы, так или иначе касавшиеся женщин.
«Все в женщине загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.
Мужчина для женщины средство: целью бывает всегда ребенок.
Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о, Вечность.
Наша вера в других выдает, во что мы охотно хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание друга является нашим предателем».
Нет, в этом вопросе Фридрих излишне резок, хотя в общем-то прав, – размышлял, собираясь, Илья. Неожиданным следствием этих размышлений был ряд поблажек: он позволил себе не менять символический и полусимволический платки, а также – не гладить костюм. И держался он удивительно спокойно, когда стучался в комнату девушек.
– Вот, пусть мужчина скажет свое мнение! – сказала вместо приветствия Лариса, когда он вошел.
Взоры всех четырех обитательниц комнаты обратились на него, и он хотел было по привычке смутиться, но во-время опомнился и спросил весьма деловито: «А в чем, собственно, дело?» Впрочем, дело не вызывало сомнений. Анжелика, стоя у зеркала, примеряла к своему голубому облегающему платью домашние «драгоценности», пестрой горкой лежавшие на столе; все три девушки дружно ей помогали и, естественно, не могли прийти к единому мнению, невзирая на страстные, неотразимые аргументы типа: «И как тебе может нравиться такое?! Я бы ни за что, никогда к вечернему платью!..»
Ситуация показалась Илье забавной, да и отступать было уже некуда, ибо Барбара тащила его к столу, приговаривая: «Смелее, смелее, философ! Фу, какой – совсем не похож на мыслителя». Он подошел, взглянул на Анжелику и зажмурился, почувствовав предательское головокружение. Но тут же совладал с собой, встретив ее растерянно-виноватый взгляд. «Честно говоря, я никогда не сталкивался с подобной проблемой…» – сказал он, чтобы выиграть время, и поворошил кучу разноцветных палочек, камушков и стеклышек на столе. Вдруг дерзкая мысль осенила его.
– Дайте больше света! – сказал он властно и, сложив руки на груди, сосредоточился на Анжелике. – Я думаю, начать надо с анализа общего облика, так как украшения должны гармонировать с ним, дополнять его.
Кто-то направил на девушку лампу; кистью руки Илья дал ей знак повернуться; она повиновалась, и улыбка ее говорила: ведь ты не сделаешь ничего дурного?
– Мне кажется, в целом облик Анжелики производит впечатление нарочито строгого, я бы даже сказал консервативного: волосы собраны в узел; высокий воротник; темные туфли… и юбка могла быть короче… В общем, над ней довлеет какая-то догма, боязнь чего-то…
Излишне говорить, что слушали его чрезвычайно внимательно – не потому, разумеется, что женщины одеваются ради мужчин. Упаси Бог, – они одеваются исключительно ради самоощущения. Просто, мужчины редко способны произнести нечто членораздельное относительно столь важного, если не важнейшего, вида человеческой деятельности.
– Ей не хватает смелого элемента, смелого штриха, – сказал он.
– Вот, я говорила! – воскликнула Барбара и, подав гирлянду фигурок из красного дерева, сказала: – Пусть она наденет это.
Илья взял, взвесил и отложил в сторону со словами: – А стоит ли? Нет, не стоит вмешиваться и нарушать стиль…
Анжелика, неловко чувствуя себя и злясь на Илью, тем не менее не делала попыток прервать его. Она единственная из всех улавливала скрытый смысл его слов, и какой-то странный паралич овладел ею.
– Если бы у вас под рукой было золото с парой хороших бриллиантов, то, пожалуй…
– Но так нельзя. Что-то все-таки надо… – заметила робко Таня.
– Н-да, женщины остаются женщинами – хоть что-нибудь, но обязательно нацепят себе на шею, – рассмеялся Илья. – Ну, тогда эти желтые слезы.
Он вытащил из кучи янтарное колье и подал Анжелике.
– Браво, Ильюша, молодец! – похлопала его по щеке Барбара.
– Я же говорила, ведь я говорила про это, – ужасно волновалась Лариса.
– Конечно, ты и про бусы говорила, – пропела Таня.
– Но ведь все-таки про янтарные!
Анжелика надела колье, и Илья смотрел на нее со снисходительным удовольствием создателя. Когда Барбара за спиной сестры спросила его взглядом: «Как, хороша?», он сперва пожал плечами и лишь затем утвердительно кивнул. Получилось: «хороша, конечно, а все-таки…» Что «все-таки» он не сказал даже мысленно, но без сомнения оно означало: «род промежуточной ступени между женщиной и ребенком, созданный для отдохновения мужчины-воина».
И в такси Анжелика упорно молчала. Неверный свет улицы заглядывал в машину то спереди, то сбоку, выхватывая то серебристый мех капюшона, то руку с перчатками, расслабленно обнявшими колено, как неправдоподобно длинная кисть, то сумрачно-прекрасное лицо. Столь же быстро сменялись порывы в душе Ильи: в одну секунду он гордился собой, в следующую презирал…
Смятение вновь прокралось в сердце Анжелики: победа, которая целую неделю питала ее спокойствие… была ли она вообще? Он всегда приходит чуточку тверже, чем уходит. Почему так непрочно ее влияние? Другая женщина? Нет, не может быть. Тогда что же? Если он действительно все время один, с книгами… Книги? Нет, он не сухарь… – музыкален, до смешного сентиментален, и к ней относится… уж в этом можно не сомневаться. Но каким противным он был сегодня! Она ничего не хочет, пусть только не будет таким жестким – немного мягче, приветливей и только, – таким, как в «арбузный» вечер. Зачем выбирать между разрывом и… полным сближением? Разве не приятнее и спокойнее ровная дружба?.. О, она ни за что… ничего не сделает такого, что бы могло подтолкнуть в ту или иную сторону…
Она знает, что нравится ему, – в это же время размышлял Илья, – да, он имел неосторожность проявить свое слабое место – впредь он будет осторожнее. Однако, слабость… если справляешься с ней (а он справится!), не только не унижает человека, а как бы даже возвышает. Не дать ей поработить его… ну, об этом смешно даже думать. В сущности, не так уж трудно – немного внимательней контролировать свои слова, жесты…
Так они молча пришли к соглашению, изгонявшему из видимых отношений все знаки особого внимания. Но, изгнав все внешнее, они насторожились внутренне, улавливая с болезненной чувствительностью тончайшие признаки душевных переживаний друг друга. Запретив себе наслаждение взглядами, улыбками и прикосновениями, они стали наслаждаться собственным стоицизмом. В интимной атмосфере такси, выходя из машины, в гардеробе и во множестве других ситуаций они удерживали себя от неосторожного проявления нежности, и собственный стоицизм доставлял им особенное удовольствие.
* * *
Концерт! Это роскошный сад с шелестом листвы и скромными цветами, с влажными тенями и лучиками солнца, с некошеными травами и говором птиц. В нем множество укромных мест, где, скрытые от глаз, резвятся и нежатся души, свободные от страхов, забот и сомнений. Таким был этот концерт.
С первых же звуков сонаты Тартини их души потянулись в сад; там они встретились и наслаждались близостью, для которой никто из них ничем не поступился. В перерыве взволнованные, переполненные тайной они прогуливались в фойе, ловя и по своему истолковывая встречные взгляды старых дам в вечерних туалетах, и вдруг натолкнулись на маленького быстрого старичка в старомодно-круглых очках и в столь же старомодном костюме.
– Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек! – энергично приветствовал он Илью. – Приятно вас здесь встретить.
– Разве я мог пропустить такой концерт, – ответил польщенный Илья. – Позвольте вам представить: Анжелика из Кракова, – и чувствуя незаконченность фразы, пошутил: – Она, правда, не математик и даже не физик, но музыку тоже любит.
– И прекрасно, и очень хорошо, что не математик и не физик, – говорил старичок, улыбаясь преувеличенно добрыми глазами, – нет людей более скучных и более заносчивых, уж я-то знаю. Надеюсь, Анжелика, вы занимаетесь искусством или чем-то около?
– Русской литературой… – живо откликнулась Анжелика, – по-моему, это не «около», а между – психологией и философией. Але музыка – почти вторая моя специальность.
– Значит, на наших четвергах одним участником станет больше? Кстати, Илья, вы не забыли, что нынче у нас «Царь Эдип»?
– Нет, не забыл, но позвольте мне, Петр Сергеевич, быть откровенным. Вы знаете, я не наслаждаюсь музыкой Стравинского, слушаю скорее из любопытства. Нервная, тревожная, зачастую нарочито экстравагантная… я больше устаю от нее, чем отдыхаю.
– Что за консервативная молодежь пошла! Сколько раз мне от молодых людей приходилось слышать подобные мнения! И вы, Анжелика, – тоже?
– Нет, мне Стравинский нравится, але я тоже предпочитаю старую музыку.
– Конечно, каждая хороша по-своему. Но вот им, – Петр Сергеевич открытой ладонью показал на Илью, словно скрывал в ней его, – им бы только млеть на концертах, вроде сегодняшнего, а действительно серьезной музыки – проблемной, интеллектуальной музыки современности – они знать не хотят. Слов нет, – говорил он, все больше обращаясь к Илье, – Корелли, Вивальди и сладенький Тартини очень хороши, но наше время столь насыщено противоречиями, так драматично, что одними консонансами его просто не передашь.
– Вы правы, Петр Сергеевич, боль и ужас не передашь, наверное, без диссонансов, но чувства мои не приемлют этой музыки, я делаю усилие, напрягаюсь, пытаясь понять мысль…
– Вполне понятно – вы не знаете языка современной музыки и напрягаетесь, как если бы слушали речь на малознакомом языке, согласитесь – тут не до поэтических тонкостей.
– Понятно – все тот же универсальный диагноз: невежество, – вспыхнув, пробормотал Илья.
– Да, невежество. На почве дилетантского, легкомысленного отношения к музыке…
Анжелика со стороны с удовольствием наблюдала за спором сдержанного смущенного молодого человека со стареньким, но очень энергичным, очень агрессивным джентльменом, который горячился, жестикулировал и незаметно повышал голос.
– Ведь вам хорошая, в вашем понимании, музыка, – говорил старший, – нужна как диван, как удобное кресло для отдыха. Вы избегаете современной музыки, так как боитесь интеллектуального напряжения. Вы хотите так устроить свою жизнь, чтобы после профессиональных занятий отдохнуть на музыкальной чувственности, приятно поволноваться и снова за работу…
– Я слушал и Шенберга, и Хиндемита, – защищался младший, – но ничего, кроме опустошения, тоски, какой-то душевной усталости, они мне не приносили. Если их необходимо очень долго слушать, прежде чем начнешь понимать и наслаждаться, если необходимо преодолевать отвращение, то… знаете ли, это вроде куренья – я должен привыкнуть, преодолеть сопротивление организма и только затем начну получать удовольствие от дыма…
– А я вам – другой пример. Вы учились карточным играм? В таком случае вы должны были заметить, что более или менее сложная игра на раннем этапе знакомства с нею всегда кажется неинтересной: вы постигли азы, основные правила, но не познали всех ее тонкостей, нюансов, а в них-то и заключена вся прелесть игры…
Спор пришлось отложить до второго антракта. На вопрос Анжелики, кто этот милейший старичок, Илья ответил: «Академик Палисадников, один из крупнейших математиков мира; когда-то я слушал его лекции, а сейчас посещаю его музыкальные вечера. У него колоссальная фонотека и невероятная музыкальная эрудиция. Перед каждым прослушиванием он рассказывает о композиторе и исполняемом произведении».
В перерыве академик сам разыскал молодых людей.
– Извините меня, Анжелика, за старческую навязчивость, но я смиренно надеюсь, что, высказавшись до конца, принесу некоторую пользу и вам – выведя на чистую воду кое-какие качества этой категории молодых людей, – он неожиданно рассмеялся. – Рискну сделать смелое предположение, что я неплохо знаю эту братию. Они строят себе микромир из определенной литературы, определенной музыки, узкого круга друзей, преимущественно коллег, и не желают высовывать из него нос. Правда, зачастую они прекрасные специалисты, но, поверьте, Анжелика, такая кабинетная узость ужасна, я бы даже сказал – бесплодна.
– Я не совсем вас понимаю, Петр Сергеевич, – пожал плечами Илья, – вы говорили о музыке…
– Ну как же не понимаете! – восклицал профессор, забегая вперед, так что Илье то и дело приходилось останавливаться. – Вы признаете, что в музыке ищете только отдохновения; вы отнюдь не против переживаний, трагедий (без этого и музыки не было бы), но вы хотите, чтобы они были красивыми, чтобы, если смерть, так обязательно благородно, красиво и даже умильно. Вы, осмелюсь заявить, боитесь реальности, отмахиваетесь от кричащих, вопиющих проблем современности.
– Разве, занимаясь своим делом, мы не помогаем решению «вопиющих проблем современности»?
– Э-э, юноша, не тех проблем, не тех! Социально-политические, морально-этические проблемы проходят мимо вас так, словно это вовсе не ваше дело. А между тем, вы составляете самый костяк интеллигенции. Взять хотя бы последние события, письма. Вы что-нибудь сделали?..
Илья вспыхнул всеми пятнами сразу.
– Простите, Петр Сергеевич, но я абсолютно ничего не знал.
– Вот видите, вот вам ваша скорлупа! Мне нечего добавить. Ах, звонок! Пора заходить. Идемте же слушать вашего несравненного Вивальди. Он право же хорош, но… ну, да ладно, еще поговорим. Ведь вы придете в четверг? Итак, я прощаюсь до четверга.
– Уф, какой тайфун! – вздохнул Илья.
– А про какие письма он говорил?
– Видишь ли, я только недавно узнал… моя подпись мало что значит, – неуверенно проговорил Илья и, понизив голос – они пробирались по ряду на свое место, – продолжал: – Это обращение ученых к правительству с просьбой о помиловании Синявского и Даниеля, а также о демократических реформах…
– А если бы предложили, ты тоже подписал бы?
Илья сел на место и, основательно подумав, ответил:
– Если обращение составлено в форме глубоко продуманных рекомендаций обеспокоенных людей, то, в общем, я тоже разделяю беспокойство… Процесс демократизации протекает слишком вяло, со срывами, а он должен опережать уровень непосредственных запросов… В конце концов, разве это не наш долг – рекомендовать правительству назревшие реформы? О чем ты думаешь?
– Мне так странно… – не сразу ответила Анжелика, – ты такой идеалист и Палисадников тоже… Теперь знаю, что есть интеллигенты, о которых читала в ваших романах прошлого века. Наши, можно сказать, прагматичнее. Т-с-с, начинают!
Вивальди, как стремительный и алчный конкистадор, как нежный и нетерпеливый любовник, ворвался в зал, и публика покорно пала, склонила повинные головы… Илью завертело в скрипичном вихре, вместе с ним он взмывал, носился и падал, как в детских невинных снах… Потом вдруг стихло, улеглось, повеяло грустью чего-то уходящего – то ли лета, то ли молодости… И опять подхватило, стиснуло, защемило сердце, понесло, понесло эдак плавно, осторожно и – на тебе – поставило на пустую, слепую отмель…
Когда зашаталась и рухнула стена аплодисментов, Илья невольно схватился за голову и большими пальцами заткнул уши. Грохот перешел в отдаленный гул, лишь отдельные каменные хлопки пробивали панцирь его глухоты. Особенно усердствовал кто-то справа, впереди. Илья осторожно выглянул из-под ладони: да, это была та женщина, которая во втором отделении пытала его шелестом конфетной обертки.
– Что с тобой? – спросила Анжелика и, тронув его, повторила вопрос. – У тебя болит голова?
Он открыл сердитое лицо и раздраженно сказал:
– Ненавижу эту манеру – колотить в ладоши. Как можно так бесноваться после… после Вивальди или Баха!
– Фу, какой злой! Простая традиция благодарить артистов… – мягко возразила Анжелика.
Ну почему, почему она возражает?! Почему он всегда встречает только противодействие, должен спорить и спорить? – с тоской подумал Илья.
– Да, традиция, по-видимому, еще римская, – вполне уместная при травле зверей, резне гладиаторов и кривляньи комедиантов. Но в наше время, после небесной музыки так неистовствовать?! Не знаю, я не верю в их искренность.
Зал стоя вызывал музыкантов. Илья с Анжеликой сидели.
– Почему так плохо думаешь о них?
– А что я могу думать о женщине справа от меня, которая сейчас всех тут оглушит, если она испортила мне шуршанием половину второго отделения?
– Надо быть немного терпимее к людям. Нельзя так жестоко судить их. Может быть, она не очень образованная, але по-своему любит музыку…
– Я и так слишком терпим, ибо не убил ее – она извела меня своей конфетой! – неожиданно взорвался Илья. – Вообще, ты замечала, что на концертах восемьдесят процентов женщин?
– Никогда не считала, – ответила Анжелика, пытаясь слабой улыбкой защититься от его холодного взгляда. – Наверное мужчины больше любят нянчить детей?
– Да, они больше любят, если не детей, то хоккей и водку, но главная причина не в этом – они в меньшей степени склонны придерживаться моды и лицемерить. Ведь сейчас модно «любить» классическую музыку. О! я давно замечал, что они лицемерят, а сейчас понял – почему.
Публика расходилась, а они все сидели. Анжелика не без удивления и испуга наблюдала, как непонятно откуда взявшееся раздражение разгоралось в его глазах голубым беспощадным пламенем.
– На концерты Рихтера или Ойстраха попасть практически невозможно, и овации им устраивают невероятные, а разве они всегда безукоризненно играют? Вовсе нет, – продолжал он развивать явно наболевшую тему. – Но все знают, что, раз играет Рихтер, можно до одури колотить в ладоши без риска для своей репутации. Больше того, энтузиазм гарантирует тебе репутацию тонкого знатока и ценителя…
– Jezus Maria! Какой самоуверенный и безнадежный критикан! И почему ты всех подозреваешь во лжи? Скажи, зачем им надо все время лгать? Это только музыка, зачем надо лгать?
Вопрос озадачил его – он не знал, зачем лгать.
– Не знаю… возможно, они хотят казаться лучше, возможно привыкли лгать. Посмотри, эти лозунги, пропаганда – каждодневная привычная ложь… Ты знаешь, в последнее время я стал болезненно чувствительным ко лжи. Я чувствую ее мерзкий запах везде и повсюду…
В гардеробе, когда он помогал ей надеть пальто, ход его мысли неожиданно нарушился. Он держал ее серенькое, с меховым капюшоном пальто, она что-то делала у зеркала, как вдруг он увидел двух Анжелик сразу – тоненьких, стройных… – он стиснул пальтецо и уткнулся носом в мех; тонкий запах его отозвался предательской дрожью в ногах.
На узкие тротуары улицы Герцена валил первый неправдоподобный снег. Казалось, само одряхлевшее серое небо разваливается на куски. Мини-конец света, однако, забавлял и будоражил людей: они весело топтали павшее небо, а машины разгонялись на коротких участках и взвизгивали на перекрестках.
Илья говорил о том, что над сценой надо повесить экран, разбитый на ячейки – по одной от каждого кресла, – а кресла снабдить кнопками, нажимая которые, зритель может окрасить свою ячейку экрана в нужный цвет.
– Представляешь, в зале тихо, нет обычного грохота, а на экране вспыхивает яркая мозаика, своего рода световое продолжение концерта! Если музыка или исполнение не понравились, экран мрачен, если – так себе, сер, если превосходны, экран сияет… Никто не будет оглядываться на «ученого соседа», и оценка, следовательно, будет действительно объективной. А?
– Ты думаешь, легко давать оценку?
– Основное это музыка, произведение, поэтому оценка его должна быть связана с цветом, а качество исполнения – со светимостью, с яркостью… Компьютер будет обрабатывать информацию, как на спортивных соревнованиях… Однако, является ли тайна голосования достаточным стимулом для искренности? Не будут ли они по-прежнему лицемерить и завышать оценку?
Он стегал себя перчатками по ноге и даже не заметил, как она, чтобы не затеряться во встречном потоке прохожих, продела свою руку ему под локоть. Каким невозможным он бывает порой – не видит и не слышит ее, – думала Анжелика, посматривая на него сбоку.
– Нет, я думаю, ответственность приучит их к честности и разовьет музыкальный вкус. А? – спросил он, сбивая на лету снежное перо.
– Так странно слушать тебя, – ответила она. – Ты такой категоричный, нетерпимый! Поднимаешь себя над «массой», хочешь исправлять ее… Откуда чувствуешь за собой право критиковать и учить других?
– Хм… в самом деле… Видишь ли, всю свою сознательную жизнь – вот уже лет десять – я критичен, придирчив в первую очередь к себе. Если бы ты только знала, как я сомневаюсь в себе, ненавижу за слабость, расхлябанность, лень… В течении многих лет я не позволял себе спать больше шести часов, казню за каждый растраченный час; я слишком медленно, но все-таки совершенствуюсь – я чувствую это по своим школьным друзьям. А люди, вот эти, они останавливаются где-то в районе двадцати и остаются грубыми, необработанными полуфабрикатами…
– Але, может быть, они не имеют возможности, – Илья кисло поморщился, – или не хотят совершенствоваться, – возразила Анжелика. – Если ты мучаешь себя, проше пана, але как можешь заставлять других?!
– Как это не хотят совершенствоваться?! Значит, они просто не ощущают своего уродства – тем более мой долг указать им на него…
Вот она, атеистическая нетерпимость и воинственность! Ему неведомы жалость и всепрощение христианства. Переделать мир по собственному усмотрению! Он никогда не примирится с высшей властью над собой. Страшная, волюнтаристская философия! – думала Анжелика, между тем незаметно для себя прижимаясь к его руке.
– …разве как честный человек я не обязан?! Что-то знать, понимать и умалчивать? Н-е-е-т!
– Але ты можешь ошибаться. Ты думаешь так, а другие – иначе. Сколько людей, столько мнений. Почему твое и твои рецепты самые правильные?
– Бог ты мой, да ведь я ничего не изобретаю. Тысячелетиями человечество вырабатывало понятие совершенного человека, и, я думаю, люди самых различных взглядов и вероисповеданий сойдутся на том, что, скажем, ум, воля, доброта, честность и что там еще являются признаками совершенства, а… Да что там говорить – Спиноза, Фихте, Кант, Вольтер, Конфуций, Ницше… – кого ни возьми, все сходятся в вопросе личной и социальной этики.
Конечно, все до одного безбожники, – подумала Анжелика, но вслух спросила с легкой иронией, которой он, правда, не уловил:
– Можешь сказать, что это за этика?
– Ну и вопрос! – воскликнул, останавливаясь, Илья. – Хорошо, я попытаюсь ответить, насколько возможно вот так на ходу.
Он стоял и тер переносицу, потом сказал:
– Не ручаюсь за полноту, но во всяком случае… в личном плане необходимо: совершенствовать свой интеллект, стремиться к истине и бороться с ложью во всех ее проявлениях, довольствоваться минимумом физических благ, необходимых для поддержания хорошего здоровья, а – в общественном: помогать совершенствоваться другим. Другими словами, индивидуальная этика состоит в самосовершенствовании, а социальная – в способствовании совершенствованию Человечества.
– Чтобы подготовить Царство Божье?
– Ты опять про мир вечного блаженства – без теней, без грусти, мир, в котором нет не только страданий, но даже неудовлетворенных желаний? Но это не жизнь! Это смерть наркомана – с улыбкой на устах. Человечеству необходимо совершенствоваться, чтобы выжить в океане слепой и могущественной стихии, чтобы даровать жизнь будущим поколениям.
– А нам, живущим, какая награда? Прожить в муках короткую, как мгновение, жизнь и утешаться тем, что другие после нас будут по-прежнему страдать?
– Мучиться и творить, страдать и радоваться!
– Mat ка Во ska, все как раньше! Только еще больше людей – на Марсе и других звездах… значит, увеличить число страдающих!.. Страшно представить такое будущее… И тоже, тем, кто умер, никакой перспективы?








