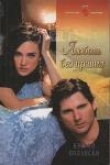Текст книги "Сука-любовь"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Я пойду, – сказал Джо, отвернулся от нее и вышел через другую дверь.
Эмма почувствовала облегчение после его ухода, чувство, ставшее за последние дни привычным.
«И пусть умершие покоятся с миром, а мы, все и каждый, поблагодарим Бога за того, кто осчастливил многих и многих людей».
– А что она делает в телевизоре? – спросила Сильвия.
В день похорон Джо вышел пройтись. Он бродил по улицам Лондона, чтобы избежать похорон. Пройдя весь путь от «Миллениума» (его купол с новыми пиками, устремившимися в небо, напоминал огромную лысину, на которой провели очень некачественную пересадку волос) до Тауэрского моста, Джо подумал, что, возможно, он будет единственным человеком, который знает, как в этот день выглядел Лондон; потому что все остальные – абсолютно все – либо сидели дома перед телевизором, либо простаивали в толпе на маршруте траурной процессии. Город выглядел, как будто на него сбросили нейтронную бомбу – капиталистическую бомбу, которая уничтожает людей, сохраняя в целости имущество. Ни людей на тротуарах, ни машин на дорогах, ни открытых магазинов: «Блэкхит» пуст, «Бермондси» закрыт, «Воппинг» не работает. Единственными живыми существами, которые попадались ему на глаза, были птицы, кружившие высоко в голубом небе, и кошки, греющиеся на оградах парков. Иногда слышался лай собак, но каждый раз откуда-то издалека; единственными постоянными звуками были гул пролетавших вдалеке самолетов и шум проезжавших где-то машин, и фоном для них служило приглушенное бормотание десятка миллионов телевизоров, настроенных на одну программу. Сегодня все они передавали одно и то же: тот же перезвон колоколов, то же цоканье копыт, те же неуместные аплодисменты, те же стихи, те же песни, те же речи. Вот только комментаторы в разных домах были разные, но их нельзя было услышать, так как голоса их были приглушенными, благоговейными. Джо попытался представить, как бы звучал один общий комментарий, странный шум десятка миллионов шепчущих голосов.
Возвращаясь через Гринвич-Вилидж, он увидел мужчину, одетого в пальто, что было странным для того неистово жаркого дня, но каким-то образом соответствовало, по мнению Джо, его с ним нелегальному положению, их общему неподчинению этому национальному комендантскому часу. Он подумал, не обменяться ли несколькими словами, возможно, уместными в данной ситуации, об абсурдности всего происходящего или спросить, не видел ли тот поблизости открытого местечка, где можно было бы пропустить стаканчик, так как у него пересохло в горле от такой долгой прогулки на жаре. Но когда он начал к нему приближаться, мужчина посмотрел на него весьма высокомерно, и Джо подумал, что лучше не стоит, предположив, в шутку конечно, что это мог быть какой-нибудь переодетый полицейский. По дороге домой он завернул в Гринвич-парк и поднялся по холму к обсерватории, к месту, с которого через пару лет шагнет новое тысячелетие. Часто, размышляя о следующем веке, Джо вспоминал, как, будучи ребенком, он высчитал, сколько лет ему будет в двухтысячном году – тридцать пять, – и нашел это тогда просто невероятным. Но в этот день его мысли меньше всего замыкались на себе самом. Глядя на широкую панораму Лондона, открывшуюся с вершины холма, он почувствовал, как город растягивается сам и растягивает это событие, которое стало его частью. Джо почти физически слышал, как город кричит, кричит в сторону обсерватории о том, что смерть Дианы и все, с нею связанное, является последним великим историческим событием этого тысячелетия. Этот звук можно потрогать руками, подумал он, звук, исполненный значения.
И вдруг в двенадцать часов он почувствовал, как все погрузилось в полную тишину. Эта тишина, о существовании которой он узнал на каком-то спортивном матче, часто накрывает стадионы, но редко города, страны. Целых две минуты, не одну: это был марафон тишины, тишины, более глубокой, чем на стадионе, потому что там она всегда нарушается звонками мобильных телефонов (за которыми непременно следует нервное шуршание извлекаемого из кармана куска пластика) и отдаленным шумом строительных работ. Но в тот день смолкли и эти звуки: все мобильники были выключены, все работы приостановлены. Стоя у Гринвичской обсерватории, он вдруг испытал ужасный, несвойственный ему позыв выкрикнуть что-нибудь элементарное, ругательное – так с тобой случается на свадьбе во время паузы после вопроса «Здесь мужчины есть?». Слово «шлюха» казалось ему самым подходящим – долгий вопль с бесконечным «у» на протяжении всех двух минут, чтобы в конце выдохнуть «ха», а с неба одинокое эхо будет вторить «шлю-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у…»; но до того как он успел начать – вообще-то Джо редко следовал своим желаниям, это было больше по части его друга Вика, – тишина закончилась. Он услышал всплески звука тут и там: шарканье, скрипы и сдержанное покашливание – как в огромном зале филармонии между частями симфонии.
Джо подавил в себе желание крикнуть и направился в сторону дома, где его ждала жена, наверняка в слезах, которые она непременно обратит против него, злясь на его долгое отсутствие. Лондон остался позади Джо, Лондон, с цирком, устроенным в Оксфорде, и с круговым движением на Пиккадилли.
* * *
Джо был сильно влюблен в Эмму. Это было в его стиле. Он находил случайный секс проблематичным, потому что ощущал на себе большую ответственность. Джо испытывал за него настолько нелепую благодарность, что даже самые смехотворные дурацкие пьяные ошибки заканчивались для него мини-романом. И где-то в недрах души ему был невыносим процесс выбраковки, или, лучше сказать, ему нелегко давался отбор методом исключения – этот момент после-после-соития, когда он уже стоял в дверях, а женщина смотрела на него в рассветном сумраке, сочащемся сквозь шторы, не ожидая от него ни обещаний, ни обмена номерами телефонов. Джо ощущал невероятную тяжесть, представляя наличие у женщин таких ожиданий.
Прошло много времени, прежде чем он начал посещать танцы, и девственность он потерял только в университете благодаря студентке старшего курса по имени Андрэя. Как можно было бы предсказать, он оставался с Андрэей весь курс обучения, таким образом обеспечив себя в будущем гнетущим беспокойством по поводу того, что он не использовал, когда мог, свои сексуальные возможности на полную катушку. Озабоченность эта только усилила схожее чувство сожаления относительно его подростковых комплексов, когда его застенчивость мешала всем его начинаниям.
Андрэя в конце концов бросила его, уйдя к своему наставнику, преподавателю биохимии доктору Генри Монро, с которым, как выяснилось, она встречалась почти на всем протяжении трехлетнего романа с Джо. Джо решил, что он должен чувствовать опустошенность, и, действительно, какое-то время он ее чувствовал, но вскоре понял, что никогда не смог бы сам порвать с Андрэей, и стал воспринимать доктора Монро как своего спасителя. Немедленно после выпуска он решил погрузиться в неистовство случайных связей, наверстывая упущенное время, но затем обнаружил в себе этот внутренний барьер для романов на одну ночь, и стал искать утешения в серии моногамных отношений. Пока не встретил Эмму, которую сразу воспринял не иначе, как последнюю в этой серии.
Он встретил ее в «Чейзе» накануне Рождества восемьдесят девятого года. Он зашел в магазин присмотреть новую мебель для квартиры, которую они собирались снимать с Деборой, тогдашней его подругой, востроглазой, уверенной в себе женщиной: уверенность ее касалась большей частью того, что Джо останется с ней навсегда. «Давай начнем новое десятилетие с принятия обязательств друг перед другом», – сказала она, вынеся на повестку дня вопрос о совместном проживании, и Джо, как всегда, когда женщина брала инициативу, ответил: «Да, давай».
– Извините, я не работаю здесь, – сказала Эмма, подняв голову от большого листа бумаги формата А5. Не найдя никого, с кем можно посоветоваться в магазине, Джо сунулся в проем, который вел в глубину магазина, и проник на склад, заваленный разобранной мебелью, какими-то свертками, ящиками и инструментами, разбросанными как попало вокруг; казалось, что гигантский капризный ребенок разломал все свои игрушки и отказался убирать за собой погром. – Ну, вообще, я работаю здесь. Но я не продаю мебель. Я ее разрабатываю.
Джо рассматривал ее черты: блестящая светлая кожа, немного веснушчатая, кошачий очерк скул, зеленые глаза с точками, под стать коже, – он присовокупил их к ее едва заметному акценту. Ирландка. Ее нос был прямой и тонкий; ноздри, которые могут сделать лицо либо красивым, либо уродливым, – идеально овальное.
– Стало быть, вы не знаете, сколько стоит та или иная вещь, которую вы спроектировали? – спросил он и с удивлением обнаружил по веселости своего тона, что он флиртует, чего ему не удавалось даже в короткие периоды его одиночества, не говоря уже о временах, когда он был… привязан к кому-либо. Слова «неверность» не было в его лексиконе.
Ненакрашенные губы Эммы разошлись в улыбке, обнажив неагрессивные, ровные зубы. Это была щедрая реакция на такую незначительную шутку, и Джо заметил, что ее глаза тоже улыбались; у людей, которые выдавливают улыбку из вежливости, они всегда остаются холодными.
– Не думаю, что я знаю точно, – сказала она, посмотрев в сторону арочного проема; линия ее профиля менялась, словно под кистью художника. – Пол! – Проход оставался пустым. – Извините, – сказала она, – он всегда сматывается, никого не предупредив. – Она отодвинула свой высокий стул от чертежной доски. – Что вас заинтересовало?
Вместе они начали пробираться сквозь валуны мебели в зал магазина. Эмма была одета в грубые рабочие брюки, что поначалу Джо принял за обычную феминистскую прихоть, но теперь, когда она двигалась в них перед ним, ее облик показался ему самым сексуальным сочетанием мягкого и грубого, формы и бесформенного.
– Вон та софа у окна. Которая с одним подлокотником…
– У вас хороший вкус, однако, – иронично произнесла Эмма, но взглянула на него с неподдельным интересом.
Из сумрака темно-коричневой мастерской они переместились в главный зал магазина, и ее волосы обнаружили свой естественный цвет, она была пепельной блондинкой. Схваченные черными в блестках заколками, локоны Эммы нежными прядями опадали на плечи.
– Одна из ваших?
– Моя лучшая работа.
Джо стоял у софы, созерцая обивку из красного вельвета и причудливую декоративную ковку. Он нагнулся, чтобы поближе взглянуть, сам не зная на что; просто так поступают люди, когда покупают большие предметы, мужчины, например, таким образом присматриваются к подержанным автомобилям. Он знал, что она наблюдает за ним, и надеялся, что его мышиного цвета волосы, недавно постриженные немного короче обычного, не очень сильно просвечивают на макушке. За витриной, над линией спинки софы, ходили прохожие – словно живая картинка, как в одной из тех детских книжек, где могут изменяться для комическою эффекта отдельно нижняя и верхняя половинки.
– М-м… мне трудно ее оценить, пока не посижу на ней, – сказал он наконец, сознавая наивность своей фразы, но не зная, каким образом произвести впечатление человека, искушенного в покупке мебели.
Эмма внимательно посмотрела на него и, слегка хмыкнув, сказала:
– Вперед тогда…
– Что?..
– Чувствуйте себя как дома. Присаживайтесь.
Наступила короткая пауза, во время которой Джо разогнулся и подтвердил первое впечатление о себе повторным утверждением очевидного:
– Она на витрине.
– И что?
– Это ведь мне придется сидеть в витрине. Люди подумают, что я какой-нибудь манекен.
Эмма рассмеялась и нахмурилась одновременно:
– Как долго вы планируете на ней сидеть?
Он повертел головой из стороны в сторону с задумчивостью трески.
– Я не знаю. Пока не смогу расслабиться на ней, а неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы я смог расслабиться вот так на людях. Мои ягодицы может свести судорогой.
Эмма снова рассмеялась. Ему еще никогда не говорилось так легко с женщинами, с которыми он до этого был незнаком, включая тех, с которыми у него потом завязывались отношения.
– Оʼкей, – сказал он со вздохом и шагнул в витрину. – Вы уверены, что у вас нет второй такой же где-нибудь в магазине, чтобы я мог провести драйв-тест более тщательно?
– За кого вы нас принимаете, за ночлежку? – сказала Эмма – и подняла голую руку, с парой серебряных браслетов на запястье, театрально указывая на кресла с леопардовой обивкой, пушистые голубые пылеулавливатели, прозрачные пластиковые торшеры. – Каждый предмет, находящийся здесь, уникален.
– Кажется, я начинаю понимать, почему вы работаете дизайнером, а не продавцом, – сказал он и повернулся, чувствуя спиной ее взгляд. Он ощущал себя толстым и грузным среди этих изысканных резных вещей, как будто в любой момент мог здесь что-нибудь повредить или опрокинуть. К этому времени седая парочка с йоркширским терьером остановилась перед витриной и стала его рассматривать.
Джо уселся, чувствуя себя очень скованно. Он ощущал, что ему не хватает только фрака, чтобы смахивать на джентльмена времен царствования короля Эдварда. Ему приходилось удерживать правой рукой левую, которая все норовила ухватиться за ухо. Мимо витрины промчался мальчишка – скейтбордист, затем вернулся и застыл напротив Джо.
– Ну, что вы думаете? – спросила Эмма. – Как ваши ягодицы?
– Сжаты, – ответил Джо, не поворачивая головы.
Седая пара двинулась дальше с разочарованным видом, словно они ожидали увидеть, как минимум, кукольное представление. И тогда Джо сказал это. Обычно для таких случаев он придумывал слова, репетировал речь, пробовал говорить перед зеркалом и потом, в большинстве случаев, оставлял затею; но в этот раз он просто сказал. Его это удивило.
– Не думаю, что смогу оценить эту софу, сидя на ней в одиночку. Мне кажется, что ей нельзя давать оценку, пока не посидишь на ней с кем-нибудь.
Эмма помедлила с ответом:
– Вот как, вы хотите, чтобы я пригласила одного из ваших зрителей войти и посидеть с вами?
К скейтбордисту присоединилась группа приятелей, которые начали строить Джо рожи. Один из них повернулся к нему спиной и сделал вид, что собирается снять брюки.
– Нет. Я думал, что…
– Оʼкей. Оʼкей. – Он услышал позади себя скрип деревянного настила витрины. – Мне кажется, я должна быть готова публично рекламировать свои творения.
Она подошла к краю софы и с гораздо менее заметной скованностью в движениях, чем у Джо, присела; он чувствовал ее присутствие на соседней подушке, как Луна чувствует Землю.
На Чапем-Хай-стрит толпа зевак к тому времени уже включала в себя бомжа с безумным взглядом, двух хихикающих школьниц, полицейского и еще одну троицу, которую этот балаган переманил от уличного музыканта с другой стороны улицы. Одновременно Эмма и Джо повернулись друг к другу и взорвались хохотом.
– Мы что, в Амстердаме? В районе Красных фонарей? – спросила Эмма.
– Да. Усаживайтесь поудобней, вашему вниманию предлагается небольшой телебордель.
– Что вы еще хотите от меня?
– Простите?
– Чтобы оценить софу. Нужно мне делать что-нибудь еще? Или просто сидеть здесь?
– Ну… что ж… вам нужно стать… стать кем-то, с кем бы я мог сидеть на софе… – его светло-голубые глаза сузились в притворной серьезности.
– И-и-и?..
– Стать кем-то, с кем бы я мог сидеть в уютном доме и смотреть телевизор всю ночь напролет…
– Стать… подружкой?
– Ну, типа того.
Эмма подтянула коленки, сев на подушку с ногами, и подперла большим пальцем подбородок. Джо заметил, что шнурки на ее кроссовках, слишком длинные, были завязаны на четыре огромных узла.
– Оʼкей, – сказала она, махнув рукой в сторону окна. – Что там еще идет?
– А?
– Я не хочу смотреть это. Я терпеть не могу документальных фильмов про обывателей.
– А, да. Точно, – сказал Джо, недоумевая, как он оказался в такой глупой ситуации. – Э-э-э… А где пульт?
– Откуда я знаю. Поищи его сначала у себя, перед тем как меня спрашивать.
Джо улыбнулся:
– А вы уже с кем-нибудь живете, позвольте спросить?
– Не выходите из роли, – прошептала Эмма, затем сказала в полный голос: – Что бы ты хотел на ужин? Я могу приготовить макароны, или мы можем заказать готовые блюда из ресторана…
– А… ну да… может быть, чуть позже я бы не отказался от китайской кухни.
– Оʼкей.
Снова повисло молчание. Джо запаниковал, зная, что не сможет продолжать эту импровизацию долго, и беспомощно посмотрел на Эмму. Та ему подмигнула.
– Оставьте ухо в покое, – снова шепотом произнесла она.
Джо одернул руку вниз и покраснел.
– Мы, похоже, что-то упустили, – продолжала она после задумчивой паузы.
– А?
– Я хотела спросить, мы сразу начнем с семейного очага? Сразу перейдем к уютному просиживанию перед экраном ночь за ночью? А как насчет трех месяцев беззаботной необузданной страсти?
Джо почувствовал, что начинает падать куда-то вниз, проваливаясь сквозь подушки.
– Только для того, чтобы испытать софу. – Эмма смотрела на него решительно. – Я практикую различные методики.
Затем она взглянула в окно. Уличный музыкант, сухопарый бородатый гитарист в военных ботинках и берете, сутулясь брел через дорогу, вид у него был подавленный.
– И, кроме того, как вы еще собираетесь закончить это шоу? – сказала она и склонилась, чтобы поцеловать его в губы, ее рот немного приоткрылся.
Толпа снаружи немедленно разразилась громом спонтанных аплодисментов; Джо показалось даже, что он расслышал приглушенный крик: «Давай, сынок!» Он закрыл глаза, желая плыть вечно в темном озере ее поцелуя; но тут прозвонил колокол, возвещая, как это обычно бывает, о конце спектакля.
– Эмма!.. Что за б… гадство?
Эмма медленно отстранилась от Джо, игнорируя Пола, владельца «Чейза», который только что вошел через дверь с колокольчиками, игнорируя смех и хлопки толпы, игнорируя все, кроме напряженно сфокусированных на ней глаз ее нового кандидата в мужья.
– А теперь только попробуй ее не купить, – сказала она, улыбаясь.
ТЭСС
Тэсс иногда ощущала себя мужчиной, рожденным в теле женщины. Не потому, что у нее была, как теперь говорят, нетрадиционная сексуальная ориентация, вовсе нет – что касалось интересов в области гениталий, то ее всегда привлекал, почти восхищал, вид мужского органа. Но, рискуя уподобиться Кенни Роджерсу, скажу, что не в этом главное различие между мужчиной и женщиной.
Оно – в чувстве юмора. Это не пустяк. В наши дни это modus operandiвсех человеческих взаимоотношений, первичная среда, посредством которой мы находим, поддерживаем и крепим дружбу; все наши суждения об остальных начинаются с оценки совместимости их чувства юмора с нашим собственным. В прежние времена роль этого мерила брали на себя деньги, или социальный статус, или одежда, или поведение, или даже – боже упаси! – моральный облик, но теперь все это ничто по сравнению с чувством юмора. В наши дни гадливенькие анекдоты или плоские шутки являются б о льшим основанием для изгнания из общества, чем наличие проказы. Таков порядок.
И Тэсс была женщиной, рожденной с мужским чувством юмора. В ее чувстве юмора была твердость и неизменная брутальность, какую она могла встретить только у мужчин, и то запрятанную очень глубоко.
По этой причине у Тэсс не было настоящих подруг. Времяпрепровождение в женской компании никогда не казалось Тэсс особенно приятным; она всегда ощущала себя посторонней, занесенной неизвестно каким течением в это море визгов, хихиканий и шутливых вздохов о мужчинах и всем, что с ними связано. Это не сильно волновало Тэсс – подумаешь, нехватка подруг. Но временами ее бесило, когда она чувствовала антипатию со стороны подруг своих друзей мужского пола; все эти дамы с их куриными мозгами запросто ставили ее на одну ступень с женщинами, которые могут действовать только в пределах, одобренных мужчинами, или же принимали ее за одну из тех, кто во всех остальных женщинах видит для себя угрозу. И тогда она часто ловила себя на мысли, что, может быть, ей стоит все же попытаться найти подругу, что, может быть, она ошибочно принимала за женщин миф о женщинах, созданный телешоу «Девичьи сопли». В действительности же есть множество женщин с чувством юмора, похожим на ее собственное, но из-за постфеминистской пропаганды они не знают о существовании себе подобных. Тэсс иногда ощущала, что ее миссия на земле – найти и объединить этих женщин.
Одно из таких ощущений посетило ее, когда она возвращалась в Англию на «Евростаре» в середине сентября девяносто седьмого года. Она позвонила на мобильник Вику, чтобы сообщить ему время прибытия; они разговорились, и Вик между делом упомянул, что видел Эмму. В большинстве случаев такое «случайное» упоминание мужчиной другой женщины может вызвать некоторое волнение у его спутницы жизни, но Джо и Эмма были в социальной мифологии Тэсс просто приятелями, поэтому у нее даже не возникло подозрений. Сразу же после того как она нажала кнопку отбоя и убрала мобильный телефон в свой атташе-кейс, Тэсс погрузилась в размышления о том, что они так и не стали настоящими подругами с Эммой, которую она по-своему любила: Эмма была очень хорошим человеком, и не без чувства юмора, но Тэсс была уверена, что существует черта, за которую их отношения не могли бы зайти. Помехой для того были не замечания, которые изредка ею высказывались, для осуждения Эмма была слишком не агрессивной; помехой являлась бесцветность самой Эммы. Тэсс уже представляла себе ее ясные черты, застывшие в дружеском укоре вежливого непонимания.
Во время поездки Тэсс частенько поглядывала поверх стола на своих попутчиков. Один из них, судя по прикрепленной к лацкану напоказ всем карточке с именем, был мелкой сошкой в администрации «Евростара»: свекольным лицом, форменным синим костюмом и своей плохо скрываемой гордостью за участие в будничной транспортной жизни он выделялся на фоне остальных пассажиров в вагоне. Каждый раз, когда тележка с прохладительными напитками проезжала мимо, он просто сиял или – используя слово на идише, которое означает состояние еврейских матерей, видящих, что их чада преуспевают, – «квел»; один раз он почти четыре минуты выбирал сэндвич (яйцо с листом кресс-салата), рассуждая вслух сам с собою и то и дело смакуя названия других ингредиентов, как будто хотел продемонстрировать невозможность выбора при таком обилии изысканнейших деликатесов христианского мира. Тэсс попыталась сохранить в памяти все его наиболее смехотворные черты, чтобы потом посмеяться вместе с Виком.
Недалеко от Тэсс сидела женщина лет сорока и читала «Обсервер». Короткая стрижка, интеллигентно вытянутое лицо с тенью анорексии в вогнутых скулах. Время от времени казалось, что ее брови изгибаются в немом вопросе по поводу чьих-то чересчур хвалебных речей. Тэсс наблюдала за ней какое-то время, все больше и больше готовая дать руку на отсечение, что та вполне могла оказаться одной из ее сестер по духу. И когда женщина в очередной раз насмешливо фыркнула над прочитанным местом, Тэсс решила рискнуть рукой.
– Вам это не нравится. А вот это видели? – сказала Тэсс через столик, доставая из своей сумки копию «Стар», которую она нашла оставленной на сиденье каким-то пассажиром-англичанином, когда села на поезд на вокзале Гар-ду-Норд. Всю передовицу занимала фотография огромного облака с солнечным ореолом в левом углу.
Тэсс положила газету на край стола. Женщина оторвала взгляд от «Обсервер» и слегка тряхнула головой, словно в неуверенности, что вопрос был обращен именно к ней; служащий «Евростара» на какое-то время перестал шарить по вагону восторженным взглядом. В тот момент они как раз выехали из тоннеля на английской стороне.
Передовица – снимок неба, сделанный предположительно в день похорон, – имела заголовок «Ди на небесах». Облако являло собой очертания лица Дианы. Ты понимал, что это она, едва бросив взгляд: элегантный профиль с громоздким носом, окруженный синевой. Да, очень похоже на лицо Дианы.
– Подумать только! – сказала Тэсс, улыбаясь. – Она жива! В каплях!
Женщина продолжала неотрывно глядеть на нее, но в зеркале ее лица Тэсс не заметила отражения своей собственной улыбки. Глаза евростаровца, до того момента полные самодовольства, заметались по сторонам, словно у нервничающего дебютанта на сцене.
– Простите, – произнесла наконец женщина в тот момент, когда у Тэсс начало сводить живот, как у ребенка, который, думая, что сказал взрослым что-то умное, начинает понимать, что сказал нечто ужасное: крамольное, нехорошее слово, значения которого он не знал. – Вы меня спросили?
Голос женщины был каким-то придушенным, частично из-за тряски, но частично и по другой причине, которая, как только та начала говорить, стала ясна Тэсс: женщина сдерживалась, чтобы не разрыдаться. А то, что Тэсс ошибочно приняла за насмешливое фырканье, оказалось на самом деле попыткой прочистить горло, а также обычным хлюпаньем носом.
– Да. Я… – начала Тэсс, подумавшая было о том, чтобы извиниться, но вдруг, осознав, что зашла слишком далеко и что возвращение к началу будет не менее утомительным, чем завершение начатого, ткнула пальцем прямо в центр картинки: – Я хотела спросить, насколько средневековыми вы можете быть? – Вопрос – и хороший вопрос – остался без ответа. – Кто она сейчас в раю? Какое божество она там собой представляет? – продолжала Тэсс, держа перед собой эту газетную икону, словно защитный экран. – Богиня причесок восьмидесятых? Или богиня папарацци, подлавливавших ее покидающей клубы здоровья? Или богиня безмозглых драных сук?
Время казалось не остановившимся, а скорее плавящимся: все часы стихли. А затем раскрылась преисподняя: «Да как вы смеете… Кем вы себя воображаете… Что вы хотите сказать… Да я вас даже не…» Женщина с искаженным от злости лицом произносила все эти слова и многие другие из лексикона ярости. Служащий «Евростара» стал совсем красным, чем усилил подозрения, продиктованные его бегающим взглядом, что не расслышанные Тэсс слова были из тех, которые не стоило бы употреблять публично, опасные слова, которые могли быть услышаны и за которыми последуют красноречивые вытягивания и выворачивания шей. По всему вагону послышалось неодобрительное пыхтение и ерзанье. Бейтман перевернулся бы в гробу оттого, что упустил возможность сделать на эту сцену карикатуру. Даже перестук колес на стыках рельсов превратился в серию «твою-мать-твою-мать».
Тэсс смотрела с изумлением. Она, конечно, сказала Вику, что хотела остаться во Франции, потому что Англия собиралась сходить с ума. Но не настолько. Истина заключается в том, что, когда страна находится во власти какого-либо события, вы не в силах оценить его размах, находясь за границей. Тэсс видела передачи на французском телевидении и пересмотрела море интервью, взятых на улице у прохожих, но была уверена, что это все преувеличения, нарезка самых ярких моментов, что людей, чьи личные неврозы вызывали мелодраматическую реакцию на смерть Дианы, подбирали специально для повышения рейтинга телеканала. Даже французы восприняли смерть Дианы без привычной им легкости. Будучи англичанкой, Тэсс оказалась в атмосфере почтительного соболезнования, как если бы она потеряла близкого родственника, соболезнования, которое выражалось людьми, лично с усопшим не знакомыми. Она воспринимала все это как неизбежное зло, не оставлявшее французам другого подхода к случившейся трагедии. Тэсс надеялась, что в Великобритании большинство людей испытывает те же чувства, что и она, и что ей легко будет найти с ними общий язык.
Как же она ошибалась. Тэсс все больше ощущала себя пойманной в ловушку, по мере того как экспресс с грохотом несся все дальше и дальше в глубь Англии, приближаясь к Лондону. Всего лишь минуту назад эта поездка была возвращением домой, воодушевляющим и приносящим облегчение; и вдруг без предупреждения возвращение обернулось кошмарным сном, в котором ты мчишься не на том поезде и не к той станции и не знаешь ни того, как это случилось, ни того, как это исправить; наверняка известно лишь то, что сойти с этого поезда не удастся. Ей захотелось немедленно выброситься из окна поезда и побежать назад сквозь тоннель, сквозь темноту к свету, к здравому смыслу. Но как только остролицая женщина разразилась мощными, сотрясающими тело рыданиями, которые она сдерживала всю поездку, Тэсс просто сложила газету и убрала ее в сумочку. «Она жива», – снова подумала Тэсс, сворачивая облако-лицо. «Она жива», – люди так жаждали, чтобы звезды им сказали эти слова, но им, как обычно, пришлось довольствоваться лишь тем, что это сказала «Стар».