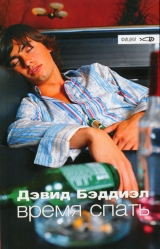
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
– Она носит сапоги на платформе? – смеется мама. – Я такие сапоги двадцать лет назад носила!
На маме зеленые лыжные штаны и красный свитер с вышитым на груди изображением «Гинденбурга». С двадцатью годами она, конечно, погорячилась, имея в виду лет одиннадцать – до середины восьмидесятых она одевалась как на съемки порнофильма. (Я говорю о классическом порно с плохим звуком: усатые мужчины, женщины в разорванных вечерних платьях, длинные бархатные шторы, секс в лесу или сауне – не совсем то, чем я увлекаюсь.) Она повыкидывала большую часть комбинезонов с расклешенными штанинами и лоскутные брюки с заниженной талией как раз тогда, когда все это опять вошло в моду – не исключено, именно оттого, что мама повыкидывала все это.
– Элис, ты не могла бы сахар передать? – прошу я.
– Что вы! Платформа снова в моде, Айрин! – восклицает Саймон. – Так она любительница ходить по клубам?
Он специально задает вопрос так, чтобы вызвать замешательство среди нас: кто же должен служить источником информации о Дине? Мы втроем переглядываемся. Все очевидно. В данном случае знать – значит обладать; кто первым заговорит, тот тем самым будто скажет: «Она моя».
– Мне пора, – слышим мы голос незаметно подошедшей Милли Гильдарт.
В своем черном пальто и берете она похожа на члена воинствующего крыла Партии пенсионеров. Мы собираемся встать.
– Господи, да не вставайте вы, – просит она. – Не обязательно вставать при прощании. Разве только при встрече.
Она подходит к маме.
– Пока, Айрин.
– Милли, а ты на машине поедешь? – спрашивает мама.
В ее голосе слышится легкий укор, с помощью которого люди зачастую изображают заботу о пожилых.
– Какой машине?
– На такси. Подожди, я сейчас вызову тебе такси.
– Да перестаньте вы все вставать! Я на автобусе доеду.
– Но тогда придется делать пересадку в Голдерс Грин!
– Айрин, перестань! Никто меня там не ограбит. Господи, это ж Голдерс Грин, а не Бронкс.
У нее вид человека, только что отказавшегося от абсолютно бессмысленного предложения.
– Пока, Бен. Пока, Элис.
– Пока, Милли. Мы обязательно как-нибудь зайдем вас навестить.
– Ага, конечно, – язвительно откликается она.
Бена это слегка задевает, и на мгновение кажется, будто он хочет объяснить, что пусть раньше он и говорил это из вежливости, но на этот раз говорит серьезно.
– Пока, Саймон. Мы опять не побеседовали. Да и в прошлый раз тоже.
Саймон хватает ее ладонь обеими руками и смотрит прямо в глаза.
– В следующий раз обязательно побеседуем, – обещает он.
– Не знаю, будет ли этот следующий раз.
– Милли! Не смейте так говорить. На небеса вам еще рано.
– Почему это? – спокойно спрашивает Милли. – Разве там ввели возрастной ценз?
Саймон краснеет, будто ему специальную инъекцию сделали, и застывает в позе пловца на старте.
– До свидания, Габриель, – говорит она. Потом замирает и, щурясь, спрашивает: – Тебя же зовут Габриель?
– Да, – отвечаю я.
Она кивает и наклоняется ко мне, так что наши щеки соприкасаются. Такое впечатление, что это не щека, а книга для слепых.
– В моем возрасте, – шепчет она, – из-за света с глазами начинает твориться что-то совершенно непонятное.
Она целует меня и, даже не удосуживаясь еще раз взглянуть, медленно идет прощаться с Мутти, сидящей на другом диване.
– Да уж, – улыбается мама, покачивая головой, – удивительные вещи говорит эта старушка.
Все кивают, делая вид, что соглашаются, только Саймон в тихой ярости глядит на свой кусок торта.
– Так о чем мы говорили?
Повисает короткое молчание.
– О Джероме Мэндле, – радостно отзывается Бен.
– Разве? – сомневается мама.
Она на мгновение задумывается.
– В общем, в его книге о первом рейсе в Люцерну – только не говорите ему об этом – слишком много глупых ошибок. Каюта капитана на левом борту? Здравствуйте, приехали!
Пока Саймон дуется, можно не опасаться, что кто-то поставит меня в щекотливое положение, наведя маму на мысли о Дине. Я смотрю в сторону другого дивана, где Мутти и Милли стоят друг напротив друга, как два безбородых гномика.
– До свидания, Ева, – говорит Милли.
– До свидания, Мириам, – отвечает Мутти.
Руки их на мгновение соприкасаются. Я замечаю, что Милли прощается с Мутти не так, как с остальными, – более сдержанно, вкладывая больше смысла; они обмениваются понимающим взглядом знающих людей, не самодовольным и не надменным, а именно понимающим взглядом и именно знающих людей, причем в самом прямом смысле этого слова – это взгляд людей, обладающих неким знанием; я вдруг начинаю осознавать, что они прощаются особенным образом, это прощание двух пожилых людей, которые живут довольно далеко друг от друга и поэтому не могут часто видеться – это, пожалуй, противоположность нашим беспечным, так легко слетающим с языка «увидимся» или «до скорого». С возрастом все слова изменяют свое значение, но сильнее всего, наверное, изменяется значение прощаний; только представьте: вы каждый раз с кем-то расстаетесь, понимая, что, возможно, в последний раз. Я слышу это сейчас, в сдержанности, в паузах – зов вечности.
– …и я, честно говоря, удивилась, что книга не подверглась разгромной критике. Барри Бим из «Дирижабля» был совсем лоялен; правда, он дружит с Джеромом, да и как иначе – Джером написал такую рецензию на «Воздухоплавание и воздухоплавателей», что тут уж кто угодно записал бы его в друзья.
Сам, возможно, того не желая, Бен смотрит в пустоту. Саймон вообще ушел – вон он, возле тетушки Ади, вид у него теперь совсем другой. Честно слушает маму только Элис, но не потому, что ей интересно – думаю, на четырнадцатом или пятнадцатом семейном празднике «Гинденбург» взорвался еще раз и ее представление о скуке пошатнуло взрывной волной, – а потому, что она вежливая до мозга костей. Для большинства из нас быть вежливым – значит уметь выглядеть вежливым, делать вид, что слушаешь, когда на самом деле думаешь о своем, но есть еще люди, совершенно не умеющие лгать, и они обречены на выслушивание всевозможной бредятины. Элис – как актер, начитавшийся Станиславского: чтобы создавалось впечатление, будто она слушает, ей приходится делать это по-настоящему.
Милли Гильдарт бредет мимо меня и выходит. Рэй успевает кивнуть и опять принимается шушукаться с Аврил; размашистость их жестов совершенно не соответствует громкости голосов.
– «Рандольф Черчилль: Когда я вырасту, я буду со всеми судиться и так зарабатывать на жизнь. Эвелин Вог: А я храбрее тебя. Рандольф: Это не так. Мой папа – Уинстон Черчилль».
Мутти отвлеклась на прощание с Милли, а когда села обратно на диван, то вдруг поняла, что все разбились на группки и с ней никто не разговаривает. Бабушка отвоевывает право на внимание к себе, зачитывая вслух отрывок из романа Маллигана «Какой еще Роммель?» – небольшой шутливый диалог Рандольфа Черчилля и Эвелин Вог. Бабушка замолкает, вытягивая руки и держа книгу как можно дальше от себя, будто без этого ее никто не поймет. Все опять начинают переговариваться; Элис из простодушия поддакивает маме.
– Бен? – зову я брата, из последних сил отводя взгляд от его жены. – Ты меня до дома не подбросишь?
– Когда ты хочешь поехать?
– В ближайшее время.
Он качает головой.
– Думаю, нам стоит побыть здесь еще немного.
– Э, не, мы свое здесь отсидели. Никто не обидится, если мы уже пойдем.
– Но мне хочетсяпобыть здесь еще.
– По-моему, ты сказал: «нам стоит побыть здесь еще какое-то время». «Стоит» и «хочется» – это разные вещи.
– Но и не взаимоисключающие.
А это как прикажешь понимать?
– Вполне может получиться так, что тебе хочетсяделать то, что ты должен делать, – объясняет он. – Это как…
Он пытается найти подходящее слово и вдруг замечает Мутти, все еще сидящую с книгой в вытянутых руках.
– Это как борьба с нацистами. Если бы мы жили в то время, то нам бы пришлось с ними сражаться и при этом хотелось бы это делать.
– Кому как.
– Что, прости?
– Ну, ты большой мальчик. Ты бы неплохо смотрелся в камуфляже. А меня бы убили. Возможно, еще на учениях.
– Знаешь, если бы все думали так, как ты…
– То мир был бы куда лучше?
– Нет. Тогда никто бы не сражался и ты бы точно погиб. Только в газовой камере.
– Слушай, я просто попросил тебя довезти меня до дома, черт побери.
Про Мутти опять забыли, и опять раздается ее громкий голос:
– «Вог: Я храбрее тебя, я ношу шерстяную одежду. Я вообще храбрее всех! Когда подлетает немецкий самолет, я не бегу в укрытие. А знаешь почему? Рандольф: Потому что ты манда».
Последнее слово звучит как взрыв бомбы. Кажется, что не только в комнате, но во всем Эджвере люди оборачиваются. Такая карикатура в духе двадцатых годов: «Старушка, которая сказала слово „манда“». Мама хотела съесть последний кусочек торта, но теперь ее рука замирает в воздухе; лицо тетушки Ади становится белым, как мороженое, с которого слизали всю глазурь; дядя Рэй выглядит несколько сконфуженным – он, наверное, не понимает, как сказанное его женой могло дать такое эхо; отец так и сидит вжавшись в кресло, и, наверное, первый раз в жизни смотрит прямо на Мутти, в этом взгляде есть и злость на то, что ему все эти годы приходилось держать язык за зубами, и совершенно искреннее уважение. Единственный человек, который ничуть не смутился, – это Мутти, она так и не отрывает глаз от книги.
– Манда, – повторяет она, смакуя это слово (поверьте, я лишь хочу объяснить, как она произносит это, но, честно, у меня и в мыслях нет каламбурить).
Бабушка поднимает невинный взгляд:
– А что это такое?
Некоторые начинают испуганно переглядываться; другие решают прокашляться; мне на мгновение кажется, что отец готов ответить на этот вопрос.
– Отвратительно! – доносится из угла комнаты.
Это мистер Фингельстон, «Еврейские новости» лежат у него на коленях.
– Я таких слов с траншейных времен не слышал.
Он сворачивает газету и выходит из комнаты, уверенный, что производит впечатление глубоко оскорбленного человека, но на самом деле прекрасно видно, как он торжествует.
Мутти, почувствовав, что, возможно, сказала нечто не очень уместное, захлопывает книгу, как захлопнула когда-то свой ящик Пандора, но уже поздно. Затем бабушка замечает еще какие-то слова, напечатанные на обратной стороне книги.
– «„Я ухожу“. Генерал Монтгомери», – произносит она.
Вся комната облегченно выдыхает; это просто шутка.
– Хм, – хмурится Мутти. – Ничего удивительного. После такого-то.
15
– «Призрак»?
– Да.
– Это где парень такой, с курчавыми волосами? Он еще похож на каменщика-гея.
– Да, с Патриком Суэйзи.
Лицо Дины, залитое люминесцентным светом магазина «Блокбастер видео» на Килберн-хай-роуд, отражается на блестящей коробке от «Призрака» между Деми Мур и Вупи Голдберг.
– Это и есть твой самый любимый фильм?
– Да, – решительно заявляю я. – Ну, один из самых любимых.
Не отвечая ничего, она кладет пустую коробку обратно на полку. Из секции «Для взрослых» слышится нарочито громкий, даже вызывающий смех четырех юнцов, склонившихся над какой-то кассетой. По расставленным повсюду телевизорам крутят «Один дома».
– Ты собираешься выкинуть такой же кунштюк, что и с «Карпентерс»? – спрашивает она, оборачиваясь ко мне. – Это у тебя постмодернистская ироническая любовь к китчу и дешевым сантиментам?
Кунштюк? Китч? В доме Бена всего два месяца, а уже разговаривает на этом чертовом идише.
– Нет. Мне совершенно искренне нравятся «Карпентерс» и совершенно искренне нравится «Призрак».
Дина явно сомневается. Судя по звукам из отдела «Для взрослых», ребята решили поиграть в Бивиса и Баттхеда.
– А как насчет… – взгляд ее скользит по другой полке, – «Манон с источников» с Ивом Монтаном?
– Ой, да не хочу я эту фигню с субтитрами смотреть.
– Нет, я так и знала!
Она отворачивается, сложив руки.
– Что?
Она смотрит в пол, самодовольно улыбаясь.
– Чтоты знала? – не выдерживаю я.
В моем голосе уже чувствуются раздраженные нотки. Дина поднимает глаза:
– Дело ведь не в том, что тебе на самом деле нравятся такие фильмы, как «Призрак»? Ты заявляешь о своем неприятии авторского кино.
– Нет, что ты…
Я зачем-то сопротивляюсь вызванному словами Дины желанию высказаться, сопротивляюсь как муха инсектициду.
– …то есть ты в чем-то права. Но это не то неприятие авторского кино, за которым стоит только надпись на футболке «Шварценеггер – мой герой».
– «Скорость!» – кричит какая-то блондинка у соседней стойки. – Ну… Там пакистанец еще играет.
– Он не пакистанец, – кричит ей в ответ подруга, тоже блондинка, отрываясь от разговора с человеком азиатской внешности, тупо засовывающим кассеты в коробки. – Он гаваец!
– А в чем же тогда дело? – не понимает Дина.
– Ну, в восемнадцать я только и смотрел, что авторское кино, – объясняю я. – «Страсть» Годара, «Замужество Марии Браун» Фассбиндера. «Контракт рисовальщика» Гринуэя. В то время «Контракт рисовальщика» был моим любимым фильмом.
– И что потом случилось?
– Потом я посмотрел «Инопланетянина» Спилберга.
– «Инопланетянина»?!
– Ну да.
– Как это получилось, если ты ходил только на авторское кино?
– Шутки ради. Подумал, что если я, представитель богемы, с высоты своего понимания погляжу такой фильм, то это будет забавно.
– И что?.. – спрашивает Дина.
– Да то, что я, блин, вообще никогда так не плакал в своей жизни.
Это правда. Даже через десять минут после окончания фильма у меня не просто лицо было заплаканное, я захлебывался в слезах – в бесконечном потоке слез. Это была божественная манипуляция моими эмоциями. Стивен Спилберг взорвал дамбу в моем сердце.
– Так что, – подытоживаю я, снова беря в руки «Призрака», – большего мне на самом деле от фильмов не надо: они лишь должны заставлять меня расплакаться.
– Но это же элементарная манипуляция.
– Я знаю.
– А что в этом хорошего?
– Все. Это прекрасно. Я начинаю лучше себя чувствовать. Слушай, если ты так не хочешь, чтобы тобой манипулировали, то можно было просто остаться дома и посмотреть «Обратный отсчет».
Она права. Это протест против авторского кино. Дело в том, что авторское кино заставляет зрителя сконцентрироваться на себе самом, на себе как на субъекте, смотрящем фильм, или еще на какой-нибудь постструктуралистской ерунде; а ведь великое кино – это попытка заставить зрителя уйтиот самого себя, именно поэтому фильмы смотрят – видео не в счет – в громадных темных залах, где сотни крошечных «я» проглатываются огромным экраном. А самый лучший способ уйти от себя – это плач, когда слезы льются оттого, что прошла любовь, вернулась надежда, пришла смерть. И любовь, и надежда, и смерть – это ведь все происходит с вымышленным персонажем, а не с тобой.Совсем иначе плачешь, глядя на чью-то беду или на голодающих детей по телевизору: ты не можешь забыться в слезах, поскольку такой плач – в той или иной степени сознательное действие. Слезы во время фильма – это нечто всеобъемлющее и освобождающее, это отказ от всевластия «я»; иногда мне кажется, что моя сущность выплескивается ведрами из глаз.
Юнцы остановились на «Секс-рабах с городских окраин». Давясь смехом, они несут кассету к прилавку, как папуасы белого миссионера. Я мог бы им сказать, что это документальный фильм семидесятых годов о том, как кое-кто обменивается женами на время, и что картинка на коробке неоправданно откровенная, но мне лень. Лучше пусть сами пройдут этот длинный путь до истинной просвещенности в вопросах порнографии.
– А какие еще фильмы заставили тебя расплакаться? – интересуется Дина. – Не считая «Призрака» и «Инопланетянина».
Чтобы освежить память, я пробегаюсь взглядом по полкам, но вижу длинные ряды фильмов, которые, к сожалению, вечно в прокате: «Джек-попрыгунчик», «Клуб „Завтрак“», «Жена мясника», «Коматозники», «Огонек святого Эльма», «Смотрите, кто заговорил» (три части), «Лестница Джейкоба», «Мамочка-маньяк». Рассматривая кассеты, замечаю в окне плетущегося по улице Сумасшедшего Барри, к ботинку которого прицепились остатки рулона туалетной бумаги, так что он чем-то похож на выступающую с лентой русскую гимнастку. Барри останавливается и заглядывает в окно, но не думаю, что он смотрит на меня – вряд ли он узнал во мне того самого человека, с которым спал в одной кровати. Он просто останавливается и смотрит в витрину, как делает перед каждым магазином на Килберн-хай-роуд.
– «Эдвард Руки-ножницы», – называю я. – «Вид на жительство», «Сыграй это снова, Сэм».
Разные истории любви самых разных людей; одновременно добрые и грустные, когда в конце каждый идет своей дорогой, и не важно, какие это дороги – на разные планеты, разные континенты, дороги жизни или смерти – всегда кажется, что где-нибудь, когда-нибудь они снова будут вместе. Поэтому я плачу. Любовь закована в цепи, но живет надеждой – или и вовсе уверенностью?
– «Сыграй еще раз, Сэм»? – задумывается Дина. – Это же очень смешной фильм.
– Ага, самый смешной, – соглашаюсь я, замечая, что от нее не ускользает моя безапелляционность, мой бессознательный отказ от «я думаю», что ей это не нравится. – Я, кстати, не так давно нашел его здесь. У них всегда масса фильмов Вуди Аллена.
– А почему ты плачешь над этим фильмом?
– Понимаешь… там есть такой эпизод, в самом конце, когда Вуди Аллен произносит монолог, кажущийся очень знакомым, но ты не можешь понять, откуда он, и Дайана Китон, плача, признается: «Это прекрасные слова», а он отвечает: «Это из „Касабланки“. Я всю жизнь ждал, чтобы их сказать».
Я замолкаю на мгновение.
– Прости, у меня слезы наворачиваются, даже когда я просто рассказываю об этом.
Дина снова устремляет на меня взгляд человека, сомневающегося в том, что мягкость и мужские яички совместимы. Она думает, что это какая-то уловка.
– Но «Призрак», – признаюсь я, глядя на кассету и постукивая по ней пальцем, – был чуть ли не лучшим. Я столько плакал, что к концу фильма стал смеяться.
– По-моему, это все равно фигня, – вздыхает Дина, забирая у меня кассету и ставя ее обратно на полку. – Впрочем, бери что хочешь.
Последнюю фразу она говорит с легким налетом усталости.
– Ну, мне нравится «Призрак», – объясняю я, мысленно тревожась по поводу перспективы потратить два с половиной фунта на уже знакомый фильм, – но выбор за тобой.
– Нет, серьезно, решай сам.
Волна разгоряченного шума Хай-роуд врывается в магазин, когда две блондинки выходят с «Дикой орхидеей» в руках. Честно говоря, если сегодня тот самый день, когда, как сказала Дина, она разберется, есть ли ей до меня дело, то можно уже не продолжать: мы ведем разговоры из серии «ты решай – нет, сам решай» в прокате – дальше просто некуда.
– А как насчет этого? – спрашивает она, доставая кассету, на обложке которой изображены Сандра Баллок и какой-то парень, которого я видел во многих фильмах, но имени которого не знаю. – Тебедолжно понравиться.
– «Пока ты спал»? Мне этот фильм должен из-за одного названия понравиться?
– Ну, думаю, это слезливое кино.
Терпеть не могу слово «слезливый». Нельзя говорить так о фильмах, которые заставляют расплакаться.
– Или вот этого? – достает она другую кассету с обнимающимися на всю обложку Барбарой Херши и Бетт Мидлер. – «Пляжи». Я слышала, что фильм глупый, но слезу вышибает.
– А что там такого происходит?
К кассете приклеена вырезанная откуда-то рецензия. Дина глядит на нее, и пока она читает, губы ее слегка подрагивают.
– Барбара Херши умирает, – объясняет она, поднимая глаза.
– Я обычно не плачу, когда кто-то умирает.
– Не плачешь? А разве Патрик Суэйзи не умирает в «Призраке»?
– Ну да. Но плакать хочется не от этого. К тому же он не по-настоящему умирает.
Я чувствую, что несправедлив.
– Дай гляну.
Пробегаю глазами рецензию. Отзыв не то чтобы очень хороший, даже непонятно, зачем его приклеили к кассете. Краткое содержание… описание героев… обычная для кинокритиков склонность говорить о персонажах, используя имена актеров, – надо полагать, это демонстрация профессионализма, когда не забывают про искусственность искусства… а под конец рецензия дает течь: «С точки зрения построения сюжета, формы и стиля фильм не выдерживает никакой критики; но ты плачешь, черт возьми, по-настоящему плачешь».
Смотрю на маленькую газетную вырезку, приклеенную к кассете; я читаю быстро, так что остается несколько лишних секунд перед тем, как Дина вопросительно посмотрит на меня. «Ты плачешь, черт возьми, по-настоящему плачешь». Моя рука покрывается гусиной кожей – я сдаюсь, чувства прорываются сквозь заслон застарелого цинизма. Тот, кто написал рецензию, прав (или права): иногда – да чаще всего – пытаешься этому сопротивляться; а когда сдаешься и достигаешь катарсиса, то происходит высвобождение эмоций, возникает понимание того, что, в общем, не стоит, наверное, плакать над этой ерундой. Я без особой радости замечаю, что сейчас со мной происходит что-то похожее, к горлу подкатывает комок, глаза увлажняются. Только не это. Похоже, «Пляжи» – действительно слезливое кино; я только рецензию на него прочитал, а уже, дурак, расплакаться готов.
Смотрю на кассету, как Невилл Чемберлен на экземпляр Мюнхенского договора.
– Похоже, это самое то, – хриплым голосом говорю я.
Мы идем обратно мимо супермаркета «Айсленд».
– А ты обратила внимание на тех пареньков в отделе для взрослых? – спрашиваю я.
Не сбавляя шага и не поворачиваясь, она отвечает:
– Ага. Они еще взяли «Секс-рабов с городских окраин». На самом деле это дурацкий документальный фильм, – добавляет она. – А обложка – просто наглый обман.
Вернувшись домой, мы первым делом видим Фрэн, которая так и сидит на огромном диване, поглаживая голову Ника, спящего у нее на коленях. Она тут уже полтора дня сидит. Фрэн встречает нас улыбкой. Я черт знает сколько времени провел, раздумывая, стоит ли устраивать просмотр фильма дома, где скорее всего будет Фрэн (не думаю, что она хоть на минуту оставила Ника одного после той ночи в травматологическом пункте), или у Бена с Элис. Можно было уговорить их прогуляться, но я бы тогда чувствовал себя мальчишкой, который просит папу сходить куда-нибудь с мамой, чтобы иметь возможность спокойно трахнуть свою подружку. Мы, конечно, могли бы пойти в кино. Если бы только у кого-нибудь из нас были деньги.
Из-за улыбки Фрэн мне становится не по себе, но дело не в ней самой и не в том, что она улыбается, а в том, что улыбка сопровождается кивком головы и вздохом, подразумевающим фразу «Ну я же тебе говорила». Голова Ника лежит в складках ее фиолетового платья с цветочками, как вещественное доказательство на суде – слушается гражданское дело по факту использования хлорпромазина. По сути дела, он отрубился после первой же таблетки. Я даже подумывал, не стоит ли и мне закинуться парочкой, если будет совсем не заснуть.
– Как он? – справляюсь я.
Дина направляется прямо в спальню. Она уже отдала мне приказ: чтоб духу Фрэн в гостиной не было.
Фрэн опять улыбается, только теперь чуть более страдальчески:
– Ну… Час назад он на пару минут очнулся. Очень хотел пить.
– Это тоже побочное действие лекарства?
Она кивает в ответ, демонстрируя тем самым (просто «да» не обладало бы таким эффектом), что это она знает как свои пять пальцев. Почесываю затылок. Фрэн продолжает гладить Ника. У меня создается впечатление, будто она вообразила себя смиренным мудрецом, который спокойно сидит и ждет, пока люди начнут мыслить правильно, как она, – а именно так, кажется ей, и должно произойти.
– Но, возможно… если Ник будет принимать таблетки и дальше, то они как-то по-другому начнут действовать. То есть, – объясняю я, чувствуя, что словно ужимаюсь в размерах, – не может же он спать всю оставшуюся жизнь.
Фрэн пожимает плечами и качает головой (похоже, ей всегда мало одного жеста или действия). Думаю, покачивание головой означает: «Нет, они не начнут действовать по-другому», а пожимание плечами – «Откуда мне знать, я лишь смиренный мудрец».
– Как бы то ни было, – говорю я, предчувствуя, что моя банальная просьба столкнется с ее представлением о значимости происходящего, – мы хотели с Диной фильм посмотреть, так что не могла бы ты… – зрачки ее до боли бирюзовых глаз расширяются, как у жертвы, глядящей на убийцу, – отнести Ника в спальню.
Она смотрит на меня так, будто я только что отпустил сомнительную шутку насчет ее умирающей от рака матери. Это продолжается до тех пор, пока до Фрэн не доходит, что фразы «Прости, и о чем я только думал?» она от меня не дождется. Затем, всем своим видом выражая недовольство, она пытается встать. Но ей, однако, это не удается – у Ника тяжелая голова; изобразив какие-то движения плечами и отсутствующей у нее задницей, она озадаченно откидывается на спинку дивана.
– А его нельзя разбудить? – предлагаю я.
Фрэн поднимает глаза, удивляясь моей настойчивости.
– Что ж, на мой взгляд… – начинает объяснять она тоном знающего врача, собирающегося ответить дилетанту.
– НИК!!! – кричу я. – НИК!!! ВСТАВАЙ-ВСТАВАЙ!!!
«Вставай-вставай»? Тоже мне, Билли Коттон нашелся. Фрэн, как ни удивительно, тоже заражается происходящим и принимается легонько хлопать его по щеке.
– Хмфтсь, – бормочет Ник, приоткрывая один глаз.
– Николас! Как ты себя чувствуешь?
Глаз Ника медленно вращается в поисках говорящего, находит и тут же закрывается – возможно, лекарство не только успокаивающе влияет на его нервную систему, но и просто лечит.
– Час от часу не легче, – вздыхаю я. – Придется тащить.
Кладу руку ему под голову, отяжелевшую то ли от сна, то ли от безумия, то ли от всего вместе, и при этом довольно сильно упираюсь костяшками пальцев в ногу Фрэн. Она бросает на меня яростный взгляд.
– Да помоги же мне, – пытаюсь я разрядить ситуацию.
Она вздыхает, но все же чуть приподнимается, чтобы голова Ника съехала ниже и она могла обхватить его за плечи. Нам удается поднять верхнюю часть туловища Ника, – мы прямо как доктор Франкенштейн и Игор, помогающие монстру встать. Ник все еще крепко спит.
– Хорошо, подержи его, – говорю я, отходя к другому концу дивана, чтобы взять его за ноги.
Забираюсь на диван, встаю коленями на две подушки и хватаю Ника за лодыжки; Фрэн, продолжая одной рукой упираться ему в спину, забирается с ногами на диван и тоже садится на колени позади Ника, не переставая показывать всем своим видом, что ее обманом заставили это делать.
Мы сидим друг напротив друга.
– Ладно, давай на «раз-два-три», – предлагаю я. – Раз. Два. Три!
Я поднимаю его за ноги, а Фрэн ничего не делает, так что тело Ника сгибается в позе, уместной разве только в кабинете гинеколога.
– Что «раз-два-три»? – спрашивает Фрэн.
– Раз, два, три – подняли! – сержусь я.
– А не проще будет, если мы сначала встанем? – спрашивает она.
– Тогда у него не будет точки опоры! – объясняю я, понимая, что она совершенно права, и используя словосочетание «точка опоры», чтобы попытаться ее запутать. – Ладно, будь по-твоему.
Последнюю фразу я произношу с таким выражением лица, будто она просто не смогла оценить всей сложности задуманного мной маневра.
Мы держим моего сумасшедшего соседа – тело его так согнулось, что мне даже приходит в голову, а не продать ли нам эту сценку в программу «Улица Сезам», – затем поднимаемся и, уже стоя на ногах, стаскиваем его с дивана. Какое-то время он болтается, как гамак.
– Хорошо, – говорю я. – Скажи мне, если станет слишком тяжело.
– Не беспокойся, – отвечает она. – С Николасом мне тяжело не будет.
Я пячусь назад и тащу его за ноги, а Фрэн, уловив мое движение, продолжает держать его за руки. Если ее метафорическое утверждение верно и она в состоянии поддержать не только его дух, но и тело, то я восхищен: Ник – жирный, подлец, он не дал себе труда, развивая духовное начало, ограничить плотское.
– Если хочешь, можем передохнуть, – предлагаю я у двери в коридор.
– Руки у меня пока не устали, – отвечает она.
Мы уже несем его по коридору, как вдруг Ник просыпается. Совсем просыпается: кажется, будто из-за таблеток он может либо спать, либо бодрствовать – третьего не дано. То есть мгновение назад он вовсю храпел, а теперь у него лицо человека, объевшегося гуараны.
– Любовь – она как воздух, – надрываясь, поет он и покачивается в такт. – Ее бывает слишком много, тебе бывает слишком хорошо. А потом ее не хватает, и ты умира-а-аешь.
Голова безжизненно падает на плечо – он засыпает. Дина вышла из моей спальни и смотрит тяжелым взглядом учителя, требующего объяснений.
– Брайан Коннолли пел, – объясняю я.
Мы укладываем Ника на кровать.
– А почему одеяло такое жесткое? – не понимает Фрэн.
В этот момент раздается звонок в дверь.
– Кого еще там черти принесли? – бормочу я, выходя из спальни.
Мои надежды на приятный вечер теряют высоту быстрее, чем «Гинденбург». Я различаю в дверном окне контуры огромного дуба и чуть ли не просвечивающей тонкой ивы.
– Привет! – хором здороваются Бен и Элис, когда я их впускаю.
На Элис большой красный вязаный свитер и черная кожаная куртка. Она наклоняется ко мне и целует в щеку, и даже в таком изможденном и потерявшем точку опоры сознании я нахожу уголок, где можно сохранить ощущение, возникающее, когда Элис губами прикасается к моей щеке. Она проносится мимо, направляясь к лестнице. Бен, отводя в сторону руку, в которой зажата завернутая в синюю бумагу бутылка вина, тоже наклоняется ко мне, пытаясь поцеловать, но я отстраняю его.
– Что происходит?
– В смысле? – не понимает он.
– Зачем вы пришли?
– Я тоже очень рад тебя видеть, Гэйб, – говорит он, входя в дом. – Нас Дина пригласила.
Он поднимается по лестнице вслед за Элис.
– Чего? – удивляюсь я.
– Я звонил…
– Когда?
– Около часа назад. Хотел напомнить, что вторая статья должна быть к пятнице. А Дина предложила нам зайти. Разве она тебе не сказала?
– Нет.
– Дело в том, что мне эта мысль показалась удачной. Почему бы нам не встретиться всем вчетвером? К тому же, судя по голосу, она очень хотела нас увидеть.
– Правда?
– Ну да. Я вообще не припомню, чтобы она с таким воодушевлением о чем-нибудь говорила.
Этого я не понимаю. Когда мы заходим в квартиру, то видим в коридоре Фрэн – она опять улыбается.
– Привет, – здоровается она, снова вытворяя что-то непонятное со своей рукой, прежде чем протянуть ее. – Ты, должно быть, Бен. А я Фрэн.
Он изображает улыбку и пожимает ей руку.
– Узнаешь? Мы по телефону недавно разговаривали, – объясняет она. – Кстати, Габриель, тебе точно надо вызвать какую-нибудь службу, чтобы они разобрались с помехами на линии.
– «Баккару»!
– «Дом с привидениями»!
– «Гадкая Ванда сбрасывает его в дымоход»!
– «Перекрестный огонь»!
– «Погоня за богатством»!
– «Авианосец».
Всем известно, что если трое или больше людей в возрасте не младше двадцати пяти лет проводят вместе вечер, то в какой-то момент они непременно начнут перечислять настольные игры, которыми увлекались в детстве, либо примутся вспоминать мелодии из различных детских телепередач семидесятых годов, по большей части из «Сумасшедших гонок», «Кошек» и «Телевикторины».








