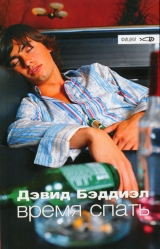
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Дэвид Бэддиэл
Время спать
Моим родителям
Я хотел бы поблагодарить Брюса Хаймана, Ника Хорнби, Александру Прингл, Роди Дойла, Трэйси Маклеод и Алана Сэмсона из издательства «Литтл, Браун» за советы и поддержку; Фрэнка Скиннера, Джанин Кауфман, Йона Тодея, Джеймса Херринга, Бутби Графо и Айвора Бэддиела за помощь; и Сару Боуден за все.
Когда ты не просто ее обнимаешь,
Когда ты ее еще и любишь…
Клифф Ричард. Gil l in Your Arms
1
Два часа семнадцать минут. Ночь. Встать нужно не позднее половины двенадцатого. Что ж, посмотрим: два часа раздраженных метаний в постели (4.17), затем, возможно, часа три коматозного небытия – это если повезет (7.17), с последующими полутора часами пуленепробиваемого бодрствования (8.47) – и тогда наконец роскошь утра, когда я могу вдоволь отдохнуть, покачиваясь на волнах сновидений, как будто это мне ничего не стоит… Итого, в общей сложности шесть часов и пятьдесят три минуты сна. Не то чтобы совсем те легендарные восемь часов, но тоже неплохо, учитывая мои обстоятельства.
В этом и состоит моя главная проблема. Я отношусь к ней даже с каким-то трепетом – на некоторых вечеринках моей визитной карточкой становится фраза: «Привет, я Габриель Джейкоби, страдаю бессонницей», – ведь всем нужны свидетельства того, что мы не ангелы. Я говорю не о заниженной самооценке – это лишь узелок в кружевах неловкости, – а о неумении приспособиться к окружающему миру, к нескончаемому потоку отрицания, терапевтической черной дыре, в обрамлении которой можно появляться, всем своим видом показывая, что ты «интересный, опасный и романтичный». Однако это уже в конце праздника, так что проблема того не стоит.
Уже 2.19. Страдающие бессонницей безжалостны по отношению ко времени, к ночному времени особенно, поскольку каждая прошедшая минута – это песчинка, падающая из песочных часов в твой мозг, который будет мучиться весь следующий день. Но 2.19 – это ничто; да, 2.19 – это замечательное время, все еще впереди. Если человек профессионально страдает бессонницей, то начнет жаловаться не раньше чем в половину пятого, да и то если только его замучают нервы, головная боль и бесконечные походы в туалет.
Я сплю. Точнее, валяюсь в безразличии гипермысли, на глазах повязка для сна, в ушах беруши – жалкое, но не такое громоздкое подобие звуко– и светонепроницаемой камеры. На старой самолетной повязке нет надписи, она девственно чиста – это Бог подшучивает надо мной, над моим стремлением к девственно чистому сознанию. Я затягиваю повязку все туже и туже, настолько, что становится больно, и каждое утро минут двадцать меня слепит психоделия разноцветных кругов перед глазами. Чтобы затянуть повязку, завязываю узлы на резинке по бокам; я делал это так часто, что теперь там образовалось два больших клубка, и даже если я когда-нибудь найду спасение от бессонницы, они вопьются мне в голову и разбудят. Мне нужна новая повязка, но ее не купить в магазине. Они есть только в этих чертовых самолетах, а я уже много лет не летал; бывают, правда, ночи, когда я совсем отчаиваюсь и в голову приходит мысль откладывать деньги с пособия, чтобы потом махнуть, скажем, в Австралию, на Бермудские острова, на Фиджи – да куда угодно, лишь бы обзавестись паршивой новой повязкой. Беруши – это розоватые, пропитанные воском шарики, похожие на кроличью мошонку. Каждую ночь я засовываю их все глубже и глубже в уши, надеясь, наверное, что упаду в обморок и не услышу даже «Металлики», вздумавшей удивить меня специальным номером. Пульсация крови в голове не дает заснуть. Когда-нибудь вены откажутся перегонять ее, и придется вызывать службу спасения.
О чем же я мечтаю в этой вязкой темноте? В двенадцать лет мне удаляли миндалины; до сих пор помню, как анестезиолог называет числа: десять, девять, восемь, семь, шесть… и на шести я заснул. Вот этого и хочу – хочу запомнить то мгновение, когда засыпаю. Глупо, ведь способность к саморефлексии – это лампочка в моем сознании, которая не дает заснуть и которую я сам оставил включенной, чтобы не пропустить момент, когда кто-нибудь зайдет ее выключить. Я идиот, пытающийся поймать за хвост тех овец, которых принято пересчитывать, чтобы заснуть…
Здесь женщина. Оставшись один на один с самим собой, ночь напролет считая от ста до единицы, я, пожалуй, больше всего хочу, чтобы в комнате была женщина. Да. А потом, когда просто плохая ночь вытягивается, как струна, превращаясь в ночь адских душевных мучений, и мои внутренние демоны выходят на поверхность, чтобы отплясывать свой обычный для половины шестого утра ирландский танец на моей голове, тогда – слава тебе господи – я понимаю, что здесь кто-то есть. И что же? Демоны засыпают, ей-богу. И я думаю: ну ты и сволочь. Лежишь себе, храпишь как дурак – да-да, и не спорь: вдох-х-х – вы-ы-ы-дох, вдох-х-х – вы-ы-ыдох. Ты своим храпом будто говоришь: «Заснуть – это ж проще пареной репы, не напрягайся». Да ты еще и издеваешься!
На самом деле я вру. Здесь была женщина. Она только что ушла. Остается только догадываться, ушла ли она в порыве непонятного гнева или нет. Несомненно одно – дела мои были не очень. А потом стали еще хуже.
Понимаете, чтобы заснуть, необходима внутренняя пустота. Есть такая уловка – одна из миллиона неработающих уловок: надо вообразить себя пустой стеклянной емкостью, которую заполняет желтый расслабляющий газ, медленно заползая в каждый уголок и ослабляя напряжение. Но сложно вообразить свое тело пустой стеклянной емкостью, когда какой-то обезумевший нейрон в отделе информации мозга фиксирует каждый миллилитр мочи в мочевом пузыре, каждую тончайшую струйку спермы в яичках, каждый крошечный волосок на теле, лежащий не как остальные. Когда я в двухсотый раз встаю и иду в туалет, то это не потому, что мне снова надо, а потому, что понимаю: стой я сейчас перед унитазом, все было бы хорошо. Этого достаточно, чтобы поднять меня с постели. Выжимаю из себя все без остатка, и только когда добиться еще одной капли можно только с помощью кесарева сечения, я чувствую настоящее облегчение.
Со спермой дело обстоит раз в десять хуже. От нее обязательно нужно избавиться, при необходимости даже тайком, особенно когда дела идут не лучшим образом и у меня образовываются большие запасы этого добра. Но разве женщина – особенно если я ошибался, полагая, будто она заснула двадцать минут назад, – может это понять? Да ни хрена.
Если бы я только не надел повязку и не заткнул уши. А так слышу лишь отголосок захлопывающейся двери.
Утром Ник встал раньше меня, он готов выдать обзор матча.
– Ну? – спрашиваю я.
– Великолепно. Три – ноль. Небольшие разногласия насчет третьего гола, но на повторе хорошо видно, что заветная линия была пересечена. Ну и игра рукой в дополнительное время.
– А в каком состоянии было поле?
– Настоящее болото.
Ник – мой сосед по квартире, ему тридцать пять лет, он лысеет. А еще он из тех людей, которые пускают ветры, получая от этого удовольствие. Это не беспокоило бы меня, не будь сопутствующие звуки столь мучительно неприятны – такое впечатление, что его задний проход вот-вот треснет от напряжения, а мне бы очень не хотелось при этом присутствовать. Мы с соседом – находка для неискушенных феминисток: пытаемся компенсировать наш очевидный страх перед сложностями сексуальных отношений, рассуждая о них языком футбольных комментаторов. Ник, кстати, болеет за «Брэдфорд Сити».
– Гэйб…
У Ника черный халат, а у меня темно-красный. На нем какие-то несусветные тапки с фигурками Зибиди из старой детской передачи «Волшебная карусель». Забавный, кстати, персонаж – такая маленькая кукла на пружинке с расставленными в разные стороны короткими ручками, в желтой курточке, с большой красной головой и неимоверных размеров усами. Я без тапок, и ноги стынут на холодном кухонном полу. Принимаю позу человека, читающего газету, но слова о каком-то комитете, жестоком обращении с какими-то детьми, каких-то процентах инфляции, какой-то страшной резне в Америке, какой-то новой автостраде отскакивают от глаз, в которых после ночи в повязке прыгают огоньки.
– Да?
– Мне показалось, что я слышал, как захлопнулась дверь. Часа в два ночи.
– М-м-м… Не знаю. Это, наверное, ветер.
– Она все еще тут?
Я делаю вид, что не слышу. Единственный плюс того, что все знают о твоей бессоннице, состоит в неотъемлемом праве на вечную рассеянность. Смотрю в окно. Лондон по обыкновению сер и скучен; а может, у меня просто окна грязью заросли?..
– Пойдешь на работу?
– Да, минут через десять.
– Где сегодня работаешь?
– На Камден-роуд.
– Где большие светофоры?
– Ага. – В его улыбке есть что-то недоброе. – У них точно там неисправность – вечно красный горит…
Улыбается он потому, что зарабатывает деньги мытьем на перекрестках лобовых стекол автомобилей. Да-да, он один из тех надоедливых малых. Зарабатывает триста пятьдесят фунтов в неделю. Триста пятьдесят фунтов, из которых никто не хотел бы дать и пенни. Я кладу газету на стол.
– А тебе никто никогда не говорил: «Извините, вы не поверите, но моя машина, как ни странно, оснащена такими штуками, как стеклоочистители»?
– Нет, – отвечает он, доставая ведро и губку из-под раковины.
– «Более того, в темное время суток мне не нужно, чтобы кто-то лежал на капоте с факелом…»
Он выпрямляется.
– Она что, еще в постели?
– Ну да. Я сказал, что приготовлю завтрак.
– Эй, тебе надо быть аккуратнее. Элис будет вне себя.
Десять минут спустя он уходит, и я сваливаю в мусорную корзину два яйца, две колбаски, тонкий ломтик бекона и три слегка поджаренных помидора. Можно все это съесть, но я стараюсь отучить себя от такой еды. Вечная история: первые шесть ложек – это верх наслаждения, во рту расцветают райские кущи, но потом все хорошее кончается, и ко второй сосиске начинает болеть голова. В конце концов меня непременно начинает поташнивать, и вся эта затея с едой повергает меня в глубокое уныние на весь оставшийся день. Синдром грязных ложек, наверное. На следующее утро я снова обманываю себя. Но это стоит первых шести ложек.
Мусорное ведро забито до отказа. Поднимаю крышку. ША-А-А-А-А-А – пахнуло на меня из этого ада. Надо бы вынести мусор, но я вываливаю еду с тарелки на сине-зеленый заросший курган, который и сам некогда был едой, причем одному богу известно, какой именно. Кое-где угадываются древние слои некоей вязкой субстанции, но даже на этом капище одна из сосисок выглядит так аппетитно, она вся такая темно-коричневая и доступная, что я выковыриваю ее из кургана и съедаю, хотя мысль, что сосиска только что побывала в мусорном ведре, не дает мне насладиться ею в полной мере.
Который час? Смотрю на микроволновку. Шесть двадцать. Да быть того не может. Тут вспоминаю, что происходит. С некоторых пор я стал замечать, что в час дня за окном бывает темно, а в одиннадцать вечера все еще светло. Я считал это неким побочным эффектом уменьшения толщины озонового слоя и собрался было снаряжать ковчег, чтобы успеть к обрушению небосвода, но потом заметил, что само время изменялось, и если в какой-то момент было 4.20, то в следующее мгновение могло уже быть восемь двадцать. Я подумал: «Слишком поздно. Это конец. Произошел коллапс пространственно-временного континуума, мы несемся по наклонной бесконечности, и в любой момент, пробив крышу моего дома головой, с небес может рухнуть Стивен Хокинг с экземпляром „Краткой истории времени“ в руках». Потом обнаружилось, что прыжки во времени сопровождаются подергиванием лапок в часах. Тогда-то я и понял, что в часах микроволновки завелась муха.
Уж не знаю, как такое возможно, как муха может завестись в часах микроволновки. Беда даже не в том, что теперь мои планы зависят от мушиного распорядка дня. Я больше боюсь, что в какой-то момент поставлю в микроволновку бифштекс или пирог с печенью на пять минут и, открыв дверцу, увижу огромную бифштексно-печеночную муху-мутанта, невероятных размеров тысячеглазый пирог с мушиными крыльями, который съест мою кошку. И есть у меня подозрение, что мухе тут нравится. Она думает, что нехило устроилась, как в квартирке на Пиккадилли-сёркус.
Не будучи в состоянии возобновить собственное существование до того, как узнаю, который сейчас час, я иду в гостиную, подхожу к своему старому разбитому пианино и изображаю глиссандо – скольжу пальцем по клавишам, а затем усаживаюсь на диван. Осматриваюсь. Наша квартира находится на третьем этаже дома викторианской эпохи в районе Килберн, но сложно даже представить, что когда-то в этой самой комнате, где сейчас на полу валяются старые номера «Мира автомобилей» и прошлогодние «Желтые страницы», сидели мужчины в накрахмаленных воротничках и обсуждали последние решения лорда Палмерстона. Единственные растения, которые я когда-либо покупал – юкка и еще одно, названия которого не знаю, но у которого точно должны быть большие желтые листья, – влачат свое существование у окна, одно справа, другое слева, выглядывают на улицу, на которой видно только арабскую забегаловку на Виллесден-лейн. Я с безразличием замечаю два окурка в горшке растения с большими желтыми листьями. Сколько Ника ни проси этого не делать, толку все равно не будет. Он мне даже как-то сказал, что растению это полезно. Такой же аргумент в свою защиту он привел и в другой раз, когда я застал его писающим в горшок с юккой.
С ногами забираюсь на диван, вытягиваюсь и лежу. На нашем диване это несложно. У нас ведь самый большой диван в мире, и это неоспоримый факт. Возможно, я купил его потому, что в доме родителей было одно-единственное удобное кресло. Огромное, обитое красным кожзаменителем, оно стояло в комнате, где был телевизор, и за право посидеть в нем разгорались нешуточные споры, случались даже маленькие внутренние беспорядки с применением насилия. Так что вполне возможно, что наш диван, на котором хватит места всем килбернским кондитерам с домочадцами, является механизмом психологической компенсации. Это посеревший, но изначально зеленый монстр, у него теперь появились впадины, если не сказать пролежни. В местном супермаркете он обошелся мне в сто пятьдесят фунтов вместе с креслом той же расцветки. Чтобы притащить такую громадину сюда, нам пришлось немало потрудиться, почти как героям фильма Вернера Херцога «Фитцкарральдо». На другом конце дивана виднеется испачканная подушка, но на ней не обычное пятно от волос, на которые не пожалели бриолина. По сути дела, вся она покрыта сантиметровым слоем какой-то однородной коричневатой субстанции, испещренной полосами, делающими подушку похожей на лоб глубоко опечаленного человека. Не хотел бы я знать результатов лабораторного исследования этой субстанции.
Какое-то время – не знаю, как долго, – я лежу, тупо разглядывая оранжевые круги и узелки на персидском ковре. Угол ковра заметно поистерся и стал похож на живот кошки, которой только что вырезали яичники, а один из оранжевых кругов потемнел и сделался коричневым – след пролитого кофе. Я вновь поражен способностью истории совмещать несовместимое: так и вижу ткача в грубой одежде, его ткацкий станок, глиняную чашку с очень крепким чаем, слышу, как снаружи доносится шум восточного базара, и думаю, что бы сказал ткач, увидев сейчас этот ковер. «А этот ковер сделали под Лондоном, в Лутоне». Наверное.
На улице начинает накрапывать дождь. Если будет ливень, то крыша начнет протекать. К счастью, обе кастрюли, предназначенные для сбора воды, стоят на нужном месте с прошлого раза; правда, они почти наполнены. Я все еще бьюсь над вопросом о природе времени, а кошка, Иезавель, принимается кусать меня за лодыжки. Суть наших с Иезавелью взаимоотношений проста: я перед ней преклоняюсь. Она невероятно красива. Иногда, когда она выгибает спинку, то напоминает картину Матисса в великолепии солнечного света. И тогда я готов поверить в Бога, я верую в Бога, верую!
Она кусает мои лодыжки. А иногда, если повезет, она может ударить меня лапкой по лицу. Я кормлю ее, а Иезавель, пританцовывая, срыгивает эту еду. Ее тошнит не «Вискасом», даже не «Чузи», а «Шебой», гребаной «Шебой». А ведь иногда, открывая банку этого корма, я мечтаю, чтобы и меня кто-нибудь время от времени так баловал. Все, что мне нужно от Иезавели, – это чтобы она иногда лежала у меня на коленях. Но она этого не делает. Я могу часами сидеть на диване, похлопывая себя по ноге до тех пор, пока не станет больно, увещевать ее как последний идиот, надеясь на внезапный порыв благосклонности, но в конце концов, уязвленный ее способностью к безразличию – а животные ведь могут быть по-настоящему безразличными, – я встаю, иду к батарее, беру ее на руки и усаживаю к себе на колени. Двух минут ей хватает, чтобы осознать произошедшее; тогда она бьет меня лапкой по лицу и возвращается на батарею.
На кухне я даю Иезавели немного «Шебы» со вкусом тунца и креветок – от корма веет морской свежестью – и подумываю о том, чтобы сварить себе кофе. Посмотрим: в моем распоряжении обычная кофеварка с фильтром, две кофеварки «французский пресс», кофеварка-эспрессо (с помощью которой можно сделать еще и капуччино), итальянская металлическая турка, пакетики с растворимым кофе, кофейные зерна, молотый кофе, «Лавацца», «Лион», «Кенко», «Нескафе», «Голд Бленд», «Ред Маунтин», до сих пор не открытая банка «Меллоу Бердс» и три мешочка с самым разным кофе, который я успешно утаскивал из гостиничных номеров на протяжении последних пяти лет. Кофе – очень важная часть моей жизни. Только не говорите мне: «Быть может, в этом стоит искать источник твоих бед?» Какие мы догадливые. Можете даже взять с полки пирожок. Но, видите ли, это Бог подложил мне свинью в итальянской металлической турке: кофе в больших количествах не дает заснуть, но, поскольку я не высыпаюсь, мне приходится пить его много. Варю свой фирменный кофе «Атомная бомба незамедлительного действия из зерен „Лавацца“» и наливаю в огромную керамическую чашку. Телефонный звонок врывается в мое одурманенное сознание. Думаю, снимать трубку или нет. С недавнего времени я постоянно замечаю какое-то шуршание и посвистывание во время разговора и подозреваю – без особых, правда, на то оснований, – что меня прослушивает Интерпол. Я жду, пока телефон прозвонит пять раз, затем поднимаю трубку. Это мой брат Бен.
– Ну, блин.
– Слушаю, блин.
– Я тебя не разбудил?
Этот вопрос мне задают в любое время дня и ночи.
– Нет… Нет, я не спал.
– Ты подумал насчет моего предложения?
– Да. Ты уж извини, но меньше чем за два миллиарда эту партию героина я тебе не отдам.
– Очень смешно. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я.
Я молчу. Тяжелый разговор.
– Слушай, Бен. Это великолепное предложение. Ты великолепный редактор. «За линией» – великолепный журнал. Но я и трех предложений связать не могу, не злоупотребляя словом «великолепный». Найди лучше кого-нибудь другого.
– Бред какой-то. Все, что мне нужно, – это чтобы ты раз в неделю писал о спорте. Что-нибудь забавное, ироническое, даже язвительное, со свойственной тебе наблюдательностью.
– А как насчет какой-нибудь отвратительно написанной бредятины, не имеющей никакого отношения к спорту, но со свойственной мне занудливостью.
– Звучит многообещающе.
– Пойми, я не хочу работать. Мне нравится не работать. А больше всего мне нравится не работать на собственного брата.
– Так ты ж не на меня работать будешь, а со мной. Мы будем коллегами.
В трубке слышится короткий щелчок – это отключается Интерпол.
– Не знаю, Бен. Я подумываю о том, чтобы отправиться в путешествие на полгода…
– Да никуда ты не поедешь.
Очевидная справедливость этого не требующего доказательств утверждения обессмысливает любые попытки его оспорить. Всю свою сознательную жизнь я собирался отправиться в путешествие, в настоящее путешествие: Китай, Гренландия, Юго-Восточная Азия – но так никуда и не поехал. По мере того как слабеют мои доводы, я чувствую, что у меня рождается хитроумный план.
– Слушай, – вдруг спрашивает Бен после короткого молчания, – может, зайдешь к нам сегодня вечером? Элис обещала что-нибудь приготовить.
Выдерживаю паузу, давая понять, что у меня есть на сегодня планы. На самом деле, даже если бы мне предстоял эротический массаж в исполнении Кэтлин Тернер, я бы его отменил.
– Ну… я, вообще-то, собирался… Ладно, приду.
– Уверен? Можно перенести на следующую неделю.
– Это ни к чему. Я приду.
– Договорились. Тогда ждем тебя к половине девятого.
– Ладно, до встречи.
– Пока, блин.
– Давай, блин.
Кладу трубку. Моя душа медленно наполняется желтым газом счастья. Я встречусь с Элис. Я снова вижу свет, чувствую, как поднимается волна вдохновения, ощущаю радость, словно от забитого в дополнительное время гола, надежда растекается по моей душе, как растопленный маргарин по белоснежному хлебу. Тепло разливается по всему телу, вплоть до окоченевших пальцев ног. И тут я понимаю, что Иезавель вырвало прямо на меня.








