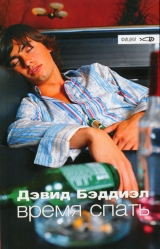
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
10
Кто это такие? Питер Питер Тао, К Хук, «Бафниа. Компьютерные консультации», профессор Уго Чиндетта, Смиджи. Сегодня в нашем почтовом ящике лежат письма всем этим людям. В нашем ящике всегда оказывается письмо для кого-нибудь из них, но сегодня все по полной программе. По мере того как шло время, а стопка писем все увеличивалась, у меня сложилось определенное впечатление об этих людях. Питер Питер Тао – это скромный корейский джентльмен, родители которого очень хотели вырастить детей европейцами, но знали только одно английское имя. Письма к нему всегда деловые, никогда ничего личного. Он носит котелок, как на картине Магритта, и работает в большой компании, которая производит все: от шампуня до мороженого. К. Хук – на это имя приходят только письма из банка, последние предупреждения о необходимости погасить задолженность – это женщина, ее зовут Кэтрин. В свое время она бросила университет, чтобы играть на бас-гитаре в одной группе, откуда ее потом выкинули за то, что она расплакалась прямо на сцене, а группа в итоге стала знаменитой. Консультанты фирмы «Бафниа» выбрали такое имя, потому что оно звучит как имя большой солидной компании и может скрыть тот факт, что они обитают в Килберне, в квартире на втором этаже. «А если „Стритли-роуд, 71 Б. Компьютерные консультации“? – Знаешь, Джек, что-то не звучит». Им редко приходят письма. Думаю, последние дни их существования были отравлены пронырливыми журналистами, которые стучали в дверь и кричали: «Мистер Бафниа? Мистер Бафниа! Мы же знаем, что вы здесь, мистер Бафниа!»
Профессор Уго Чиндетта вернулся в Италию после того, как окончательно разошелся со своей женой – бывшей студенткой. Иногда кажется, что надписи на конвертах сделаны дрожащей рукой – она все еще пытается с ним связаться, не ведая, что их теперь разделяет целое полушарие. Наверное, изливает душу в этих письмах; интересно, стало бы ей легче, знай она, что все письма лежат нераспечатанные на нашем холодильнике? А Смиджи, на чье имя приходят послания от одного человека в Бирме, – это точно кличка какого-то серьезного господина, чей старый приятель по имени Флиппер или Башо теперь работает сотрудником дипломатической службы, пишет письма довольно живым языком – такие остроумные обличительные речи о разгуле бюрократии и коррупции в Юго-Восточной Азии; а клички у них остались как память о пережитом в школьные годы.
Не открывая, я кладу письма на холодильник. Похоже, нам придется начать вторую стопку. Из этих посланий я отбираю два, которые адресованы мне. Одно – я понимаю это сразу – из дома престарелых в Эджвере, где живет моя бабушка. Второе – это даже не письмо, а открытка с Джорджем Бестом. Тем Джорджем Бестом, который играл за «Манчестер Юнайтед». Когда-то он был самым лучшим в мире – он был Элвисом; он мог улыбнуться в камеру, установленную у боковой линии, прекрасно зная, что в итоге его улыбка затмит все происходящее на футбольном поле. На обратной стороне несколько фраз. Почерк ровный.
Габриель. Прости за ту историю. Это все (не люблю это слово) гормоны. К тому же, если честно, у меня были подозрения насчет твоих намерений. Теперь я даже не знаю. Позвони мне. Целую, Дина.
Вот удача! Еще, конечно, не время бегать по улицам и обнимать столбы от счастья, но уже неплохо. Я даже пытаюсь присвистнуть, но делаю это до того, как успеваю подобрать соответствующий моменту тон, так что получается у меня что-то непонятное, похожее на звук свирели.
Бабушкино письмо не такое радостное.
Дорогой Габби!
Здравствуй, мой хороший. Как у тебя дела? У меня не очень. Печень все слабеет и слабеет, да и артрит замучил. Кроме того, у меня развивается катаракта, так что скоро я почти не буду видеть, но – хе! – какая разница, кому охота на все это смотреть? Видеть не могу этих старых кляч, которые только и делают, что обливаются чаем. Миссис Хиндельбаум передает привет. Мама говорила, что ты начал встречаться с девушкой. Мазлтов! [2]2
Мои поздравления ( идиш).
[Закрыть] Наконец-то! Она еврейка? В общем, если соберешься меня навестить, то обязательно бери ее с собой. Приходи, Габби. Иногда дни так долго тянутся.
Почерк очень старомодный и витиеватый, и письмо кажется предметом старины, только синие, без желтизны, чернила ручки «Базилдон бонд» напоминают о том, что я смотрю на это письмо не сквозь музейную витрину. Бабушка, как всегда, пишет, совершенно не понимая различий письменной и устной речи – я отчетливо слышу ее польско-немецкий акцент, она записывает слова в точности, вплоть до громкости. Первое впечатление, конечно, – это что она страшный ипохондрик, но как иначе, если тебе восемьдесят три года, а твое тело потихоньку разваливается. Называть людей в таком возрасте ипохондриками – лишь один из способов объяснить себе, что они еще не умирают.
Я кладу письмо около микроволновки и иду к обычной кофеварке с чайничком (вчера заглядывал в кофеварку эспрессо и заметил там весьма перспективные наслоения накипи). По пути правой ногой (естественно, босой) наступаю на что-то мягкое, мокрое и склизкое. Смотрю вниз. Я стою посреди кухни на разбухшей темно-зеленой водоросли. С недавних пор у Иезавели появилась привычка таскать их в дом и разбрасывать по полу. Я где-то читал, что кошки приносят мышек, птичек и тому подобное в качестве подарка хозяевам, как знак благодарности за то, что их любят и кормят. Но что это за подарок такой – водоросль? «Ах, спасибо, Иезавель, я только об этом и мечтал». Да где она вообще отыскала эти гребаные водоросли в Килберне? Хотя подождите. Тут неподалеку есть одно место, которое районная администрация гордо называет парком; кстати, мы с Ником туда притащили спящего Сумасшедшего Барри и оставили на его любимой скамейке, несмотря на протесты остальных бомжей, которые были уверены, что Барри исчез навсегда. И там как раз есть что-то вроде выгребной ямы, окруженной разбитыми кирпичами, и если в аду вы получите должность садовника и вам надо будет вырыть пруд, то можете использовать этот в качестве примера. Я на самом деле думаю, что не стоит Иезавели одной там гулять ни днем ни ночью – это опасно; только подумайте о бедных бомжах.
Я размазываю водоросль по остаткам еды и каким-то банкам, торчащим из мусорной корзины. Здесь ей самое место. Затем, как заправский Джеки Чан, поднимаю ногу и закидываю ее на раковину, поворачивая кран пальцами ноги. Кран пару секунд думает, потом из него вырывается струя холодной воды, которая смывает следы зеленой мерзости. В тот же момент я откидываюсь чуть назад, чтобы достать немного молока из холодильника. Это еще что такое? Очередная записка на магните?
А, Зибиди. Из «Волшебной карусели». Он прижимает собой к холодильнику рисунок. Это небольшой рисунок, сделанный мелками: кривое солнце светит на перевернутые вверх тормашками дома, из которых выпадают улыбающиеся человечки. Используя Зибиди как рычаг, переворачиваю рисунок. Человечки с недовольными лицами запрыгивают обратно в дома. Наверху (теперь внизу) надпись: «На память от Ника». Звонит телефон – нога инстинктивно дергается, задевая кран. Вода хлещет во все стороны. Пытаясь сохранить равновесие, пяткой задеваю торчащую из чашки вилку. Твою мать! Отбрасывая коньки, я решаю напоследок еще и навернуться.
Когда раздается третий звонок телефона, ударяюсь головой о дверцу холодильника. Зибиди летит мне прямо в левый глаз. Всегда считал, что если уж в реальной жизни попадаешь в ситуацию из дурацкой комедии, то нужно доигрывать до конца, поэтому какое-то время лежу на полу с каменным выражением лица. Включается автоответчик.
– Здравствуйте. Сообщение для Габриеля от Дины. Кстати, это всего лишь сообщение на автоответчике. А это… даже пугает немного. Как бы то ни было, я надеюсь, что ты получил мою открытку и…
Я успеваю схватить трубку.
– Алло!
– Привет. А ты всегда проверяешь, кто звонит?
– Нет, я просто… спал.
Это всегда звучит убедительно.
– Ой, извини.
– Да ничего, все в порядке. Спасибо за открытку! Где ты ее взяла?
– На рынке в Камдене купила.
– Потрясающе! – восклицаю я и тут же понимаю, что ничего особенно потрясающего в этом нет.
Повисает неловкое молчание. Ну, то есть не совсем молчание.
– Габриель? Ты что там, хрипишь, что ли?
– Это помехи на линии. Слушай, может, зайдешь вечерком? Я тебе ужин приготовлю.
– Ну… давай. Почему бы и нет? Только есть кое-что, о чем ты должен знать.
– У тебя СПИД?
– Что, прости?
– Ничего, помехи на линии.
– Я вегетарианка.
– Ну и что? Я тоже был вегетарианцем какое-то время.
– Правда? И долго?
– Четыре часа. Когда я понял, что никогда больше не буду есть сосиски, то впал в депрессию и съел несколько.
– Сколько?
– Семь.
Она смеется. В первый раз я слышу, как она смеется. Коротким, отрывистым смехом. Кого-то мне это напоминает. Да-да, ее самую.
– Ты извини за всю эту историю с механиком, за то, что наврал ему, – ничего другого мне тогда в голову не пришло.
– Да ничего. Я тоже слишком резко отреагировала. Мы еще над этим посмеемся, когда поженимся.
– Что, прости?
– Шутка, Габриель, шутка.
Сначала смеялась, теперь еще и шутит. Если дело действительно в гормонах, то я бы от парочки не отказался. (Простите, иногда я рассуждаю как последний еврей.)
– Потрясающе, – наступаю я на те же грабли.
– Ладно, я приду около восьми.
– Около восьми?
– Ну да…
– А это… незадолго до восьми? Или в восемь? Или минут в пять-шесть девятого?
– К психу я не пойду.
– Ладно. Около восьми, так около восьми.
– Увидимся.
– Пока.
Кладу трубку, и ощущение у меня, можно сказать, потрясающее. Думаю, только так и можно сказать. Потом задумываюсь. На автоответчике должно быть записано: «Вы позвонили в квартиру Габриеля Джейкоби и Ника Манфорда. Сейчас мы не можем подойти к телефону, оставьте свое сообщение, и мы вам перезвоним». Что в этом может быть пугающего? На заднем плане при этом, конечно, играет «Я люблю вечеринки» Русса Эбботта – веселая такая песенка… Нажимаю на кнопку перемотки. Пленка отматывается назад, потом что-то щелкает, и она медленно начинает крутиться вперед.
– Скажи правду, – слышу я голос Ника, расставляющего ударения с размеренностью метронома. – Скажи всю правду. Загляни к себе в душу. И оставь сообщение после сигнала.
А вот это пугает. Особенно потому, что на заднем плане играет «Я люблю вечеринки» Русса Эбботта – веселая такая песенка.
Дом престарелых «Лив Дашем» – это большое здание на Эджвербери-лейн, к которому ведет мощенная каким-то сумасбродным образом дорожка, по бокам которой высажены кусты хризантем. Причем чем дальше идешь, тем больше кусты – своеобразное путешествие через Семь Стадий Развития Куста Хризантемы. Справа от дорожки есть широкая дорога для машин, напротив которой стоит табличка со сделанной от руки надписью «Парковка», и на этой дорожке обязательно стоит какая-нибудь «вольво» с кузовом-универсал. Солнце светит очень ярко – я не припомню, чтобы оно так ярко светило в этом году. Жду, пока в маленьком заиндевевшем зарешеченном окошке появится лицо сестры.
Договорившись с Диной насчет ужина, я не знал, что делать дальше. Я просмотрел страницы атласа, вырванные из энциклопедии «Британника» издания тридцатилетней давности, и принялся выписывать места, куда мы могли бы поехать, если бы отправились в кругосветное путешествие, но впал в депрессию, пытаясь написать «протекторат Бечуаналенд», и бросил это занятие. Возвращаясь из магазина на Хай-роуд с упаковкой замороженного овощного рагу «Кворн» и банкой острого индийского маринада тандури в руках, я вдруг почувствовал себя виноватым. Это ощущение схоже с тем, которое возникает, когда идешь на вечеринку, уже перед самой дверью, – нечто среднее между радостью по поводу приближающегося праздника и тревогой. А в это время моя бабушка сидит одна, в старом кресле, пишет письмо и надеется, что оставшиеся до вечера семь или восемь часов пройдут быстро. А где же предвкушение праздника? Кстати, в «Лив Дашем» устраивают праздничный вечер на Хануку, но я все равно не верю, что огромные порции кнедликов и возможность зажечь пару свечей могут вызвать у постояльцев то ощущение – нечто среднее между радостью по поводу приближающегося праздника и тревогой; а если даже и вызовут, не думаю, что старики сумеют отличить его от обычного тревожного ожидания надвигающейся смерти. Я залил продукцию фирмы «Кворн» маринадом (главное здесь – не накрывать крышкой, чтобы маринад подсох до образования корочки, и поставить в микроволновку: получается как в настоящем индийском ресторане), посмотрел на дорогу, которая ведет в Эджвер, и решил навестить бабушку.
Она хорошая, моя бабушка. Я бы чаще ее навещал, но, как вы можете догадаться, «Лив Дашем» – это в каком-то смысле и напоминание о том, что сам я тоже смертен. А мне такие напоминания не нужны – все равно не забуду; никогда не забываю об этом с того дня, как узнал. «Смерть, – сказала мама, завершая разговор о большой черной машине, которая только что проехала (мне было пять с половиной лет), – это как долгий сон, от которого не просыпаешься». Спасибо, мама. Неудивительно, что мне спать после этого не хочется. Но разве не должны такие мысли прийти лет в сорок, когда опустится тень и человек осознает свою смертность? Меня они посещают с той ночи, когда я лежал и в ужасе смотрел на самолеты на своих обоях; большинство последующих ночей уже мало чем отличались от нее.
Медсестре, которая открывает дверь, лет под сорок. Усталая чернокожая женщина. В еврейских домах престарелых очень много чернокожих сотрудников – это дает им ощущение, будто они в маленьком кусочке Южной Африки, о котором еще не знает Нельсон Мандела.
– Да? – подозрительно интересуется она.
– Я пришел к Еве Баумгарт.
Она кивает, отходит назад, позволяя мне войти. На оранжевом пластиковом стуле в холле сидит старик с палочкой. Здесь есть куда более удобные места, где можно посидеть, но мне кажется, что когда сидение оказывается единственным занятием, то через какое-то время ты думаешь: «Пожалуй, посижу-ка я тут чуток, ради разнообразия».
– Она наверху, у сестер Фриндель. Комната семь.
Только не это. Сестры Фриндель – девяностотрехлетние близнецы, которые почему-то убеждены, что «Лив Дашем» – это один из тех старых домов престарелых, где персонал бьет постояльцев. Медсестра показывает, где лифт, но я решаю пойти по лестнице, просто потому что я могу пойти по лестнице. Помогает отогнать ту мысль про смертность.
Стоя у комнаты семь, я слышу, как бабушка громко разговаривает по-немецки. Стучу в дверь.
– Да?
Открываю дверь. Сестры Фриндель мне не раз говорили, что все свои вещи и ценности они запрятали дома, на окраине Лондона, в Актоне, так что обстановка у них вся казенная – линолеумная клетка с раковиной в углу. Сестры похожи как две капли воды, только у старшей – кажется, Лидии – есть огромная родинка у носа. С тех пор, как в 1952 году умер их отец, Лидия и Лотте одеваются только в черное. Они сидят как школьницы на двух простеньких деревянных стульях, втиснутых в узкое пространство между двумя одинаковыми кроватями с одинаковыми сиреневыми стегаными одеялами. На правой кровати сидит седая женщина, одетая, как всегда, в темно-синее, ноги у нее не достают до пола – это моя бабушка.
– Привет, Мутти, – здороваюсь я.
Она поднимает глаза. На мгновение ее лицо становится некрасивым, его искажает страх и ненависть, искажает воспоминание о каких-то больших, непонятных мужчинах, которые ворвались в дом родителей. Но свет все же просачивается сквозь помутневшие хрусталики, и ее лицо уже светится улыбкой, потрясающе доброй и приветливой улыбкой.
– Габби! – вскрикивает она и, забывая про свои восемьдесят три года, даже привскакивает. – Какой ты молодец, что пришел!
Я подхожу к ней, чтобы помочь спуститься с кровати. Во мне всего сто семьдесят пять сантиметров роста, но Мутти достает мне только до солнечного сплетения – и то, если сутулиться не будет. Целую ее в мягкую морщинистую щеку.
– Как у тебя дела? – спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: – Молодец! Должна признать, ты быстро отреагировал на мое письмо. Лотте! Лидия! Es ist Gabby! Mein Enkel! [4]4
Это Габби! Мой внук! ( нем.)
[Закрыть]
– Здравствуйте! – говорит Лидия.
– Здравствуйте! – говорит Лотте.
– Вы можете нам помочь? – спрашивает Лидия. – Они заходят к нам в комнату без стука. А еще они не говорят, что нам звонили.
– Не обращай внимания, – пытается прошептать бабушка, но поскольку она уже почти оглохла, это больше похоже на глухой крик: – Это все неправда.
Я знаю, но киваю, будто слышу в первый раз.
– Ладно, дамы, – обращается к сестрам бабушка. – Раз уж мой Габби пришел, то мне надо идти.
– А у нас все вещи в Актоне!
– Ладно, до свидания, – прощается бабушка и тянет меня за рукав. Я пячусь к двери и глупо улыбаюсь.
– Молодой человек! Вы должны нам помочь!
Я беру ее под руку. Пока мы бредем по коридору, мне приходится семенить маленькими шагами, чтобы не идти слишком быстро.
– Ох уж эти сестры! – неодобрительно покачивает Мутти головой. – Чего им вообще надо? Но я так рада, что ты пришел. Что…
– Они не дают нам ходить в наш собственный туалет!
Обернувшись, я замечаю только конец палочки Лидии, который выглядывает из-за двери.
– Пойдем, – говорит бабушка, не обращая внимания на Лидию.
Мы двигаемся со скоростью примерно десять метров в час. Скорость выходящей из комнаты Лидии – примерно два метра в час. Пожалуй, это самая вялая погоня во всемирной истории.
– Они не хотят стирать вещи Лотте!
Когда я обгоняю бабушку, а потом стою и жду, у меня в голове играет увертюра к опере «Вильгельм Телль» – это единственный способ удержаться от соблазна схватить Мутти, как только она окажется совсем близко, и побежать, неся ее над собой, как знамя. Две с половиной минуты спустя мы уже у поворота. Лидия особенно далеко не продвинулась, но мне становится страшно, когда я замечаю, как из-за двери их комнаты показывается колесо кресла-каталки Лотте. Это какая-то сумасшедшая эстафета.
– Быстрее! – торопит меня бабушка.
Странно. По-моему, очевидно, что я могу идти быстрее. Лифт уже в пределах видимости.
– Это совсем рядом с Северным шоссе! Вы могли бы зайти туда завтра!
Мы у лифта. Нажимаю кнопку. Она загорается. Зачем-то продолжаю нажимать, будто от этого лифт приедет быстрее. Давай же, давай: у нас в запасе каких-то тридцать пять минут. Лифт приезжает как раз в тот момент, когда Лидия справляется с поворотом.
– Нет! – кричит она, когда видит, что мы заходим в лифт.
Честно говоря, мне немного не по себе. Даже если моя бабушка и права, когда говорит, что все это неправда, то, может быть, для Лидии Фриндель это единственная возможность сказать: «Не уходите, пожалуйста».
В лифте стоит старичок в очках с такими толстыми стеклами, что кажется, будто глаза у него вот-вот выпрыгнут и станут покачиваться на пружинке.
– А вы член совета? – обращается он ко мне.
– Не обращай на него внимания, он псих, – объясняет мне бабушка.
Старичок пристально глядит на нее. Потом говорит:
– Даже не вздумайте с ней разговаривать. Она глухая. И сумасшедшая.
Я перевожу взгляд на бабушку. Она кивает в его сторону и крутит пальцем у виска Мы образуем своего рода треугольник: они оба смотрят на меня.
– Я бы на вашем месте отвел ее обратно в комнату.
– Надо будет сказать сестре, чтобы она его забрала и отвела в комнату.
– А вы как думали? В ее возрасте с этим непросто.
– Знаешь, Габриель, мне остается только благодарить небо за то, что я не дошла до такого состояния.
Мы выходим из лифта на первом этаже и потихоньку направляемся к комнате отдыха. Посередине этой комнаты стоит огромный старый цветной телевизор «Фергюсон», который никто не смотрит. Войдя, мы обнаруживаем, что телевизор, как всегда, работает, но я не думаю, что хотя бы один из сидящих здесь пяти или шести пенсионеров жить не может без программы «Дикие кошки Новой Гвинеи». Трое стариков спят. Еще один, господин Сюсскинд, молча и очень сосредоточенно смотрит на экран, но я знаю, что его глаза видят только эсэсовца, который куда-то тащит его сестру.
– Миссис Хиндельбаум! – кричит бабушка. – Миссис Хиндельбаум!
Миссис Хиндельбаум – это еще более миниатюрное создание, чем моя Мутти, обладательница невозможно писклявого голоса и роскошных усов, за которые Сталин полжизни бы отдал. Эта добрая женщина уже мне улыбается, но бабушке это неважно.
– Миссис Хиндельбаум! Посмотрите, кто пришел! Габриель! Сын моей Айрин!
– Да-да, я знаю, – отвечает миссис Хиндельбаум. – Очень рада тебя видеть.
Они знакомы уже лет тридцать, но пусть меня черти заберут, если Мутти знает ее имя.
Миссис Хиндельбаум сидит на красном диване, обитом какой-то имитирующей бархат тканью. Перед диваном стоит кофейный столик, сделанный в античном стиле, на его стеклянной поверхности видны следы от чашек.
– Присаживайся, Габби. Хочешь чаю? – спрашивает бабушка.
Есть и пить в «Лив Дашем» я не могу. Это глупо, это предрассудки – ведь здесь очень чисто, – но сколько бы тут ни опрыскивали все вокруг освежителем воздуха, пробивается какой-то затхлый запах. Едва-едва пробивается.
– Нет, спасибо.
– Ну, – усаживается бабушка на диван рядом с миссис Хиндельбаум, – расскажи-ка нам о своей новой девушке. О Тине!
Я придвигаю оранжевый пластиковый стул.
– О Дине.
Бабушка озадаченно хмурится.
– Твоя мама точно сказала, что девушку зовут Тина.
Для бабушки она теперь будет Тиной. Если моя мама в чем-то уверена, то она как Папа Римский: родилась в Польше и не может ошибаться.
– Нет, честно, ее зовут Дина.
– Ладно, неважно, – соглашается она, явно уверенная в том, что я еще как-нибудь проговорюсь. – Мама сказала, что ты с ней уже два месяца встречаешься!
– He-то чтобы совсем два месяца…
– Надо было привести ее с собой! Я была бы очень рада с ней познакомиться!
Пытаюсь представить себе, как бы все это выглядело. Первое свидание: посещение стадиона, обернувшееся поездкой с механиком из автоклуба «Зеленый флаг». Второе свидание: посещение еврейского дома престарелых.
– Она еврейка? – спрашивает Мутти.
Я молчу. Потом делаю глупость:
– Да.
Замечательно. При случае поучу ее идишу. И скажу, что ее отец был эфиопским евреем – как же они называются?.. Ах да – фалаши.
Мутти так рада, что от счастья даже в ладоши хлопает:
– Ах, Габриель!
– Мутти, у нас все только начинается. Ничего особенного.
– Два месяца – и ничего особенного?
– Особенного – ничего.
Она глядит на миссис Хиндельбаум и пожимает плечами.
– Йося через два месяца мне предложение сделал.
Пожав плечами, она так их и не опускает, это все начинает напоминать мне финальный кадр из американской комедии положений, я даже готов в любой момент услышать музыкальную заставку «Шоу Евы Баумгарт». Моя бабушка – мастак по части пожимания плечами, хотя, если честно, весь ее репертуар состоит только из этого пожимания плечами, смысл которого сводится к вопросу: «Ну что тут поделаешь?».
– Это точно, Ева, но твой Йося всегда был таким, – замечает миссис Хиндельбаум. – Voreilig.
Бабушка кивает в ответ, печально улыбаясь.
– Импульсивным, – объясняет она мне.
Да уж, он был импульсивным во всем, кроме смерти. Я это хорошо помню: мой дедушка умирал какое-то невообразимо долгое время. Он все обдумывал, обмозговывал, все взвешивал и снова обдумывал, он перепробовал и рак, и сердечную недостаточность, и болезнь Альцгеймера, пока в итоге не остановился на тотальном разрушении организма. Слава богу, мы не католики, иначе вызванный для шестого, последнего, причастия священник выписал бы нам счет. В каком-то смысле, дедушка поступал некрасиво, потому что со смертью всегда так: ни о чем другом думать не получается; поэтому дедушку я помню вечно умирающим. Даже теперь, когда он мне снится, это не старый человек в белых одеждах, который сидит на облаке: он во вполне прямом смысле этого слова восстает из могилы, это стонущий зомби с сумасшедшим взглядом, у него полусгнившее тело, и, как и вся подобная нечисть, он просит о помощи.
– «Ребе Ошор Розенберг, раввин редбрижской синагоги, выступил сегодня с сенсационным заявлением. Начиная со следующего Шабата, все молитвы будут распеваться под сопровождение органа „Хаммонд“, на котором будет играть миссис Неста Майер, чье имя нам уже хорошо известно по работе над фильмом „Йентл, мальчик из Йешивы“, где она блестяще играла на пианино», – четко и ясно зачитывает бабушка.
Это она взяла номер «Еврейских новостей», который лежал на кофейном столике, и по обыкновению вслух прочитала отрывок из какой-то статьи. Мутти снимает очки – дужки их схвачены тесемкой, чтобы очки могли висеть на шее, – и они падают на ее чересчур полную грудь. Она поднимает глаза, снова пожимает плечами, на этот раз с легким оттенком радости, и кладет газету обратно.
– Как твоя бессонница, Габриель? Получается заснуть? – спрашивает миссис Хиндельбаум.
Бессонница – это одна из трех связанных со мной вещей, о которых помнит миссис Хиндельбаум. Еще она помнит о том, что я люблю «Киндер-сюрприз» (это уже не очень актуально) и что у меня обязательно все получилось бы лучше, если бы только я готовился усерднее.
– Не особенно, миссис Хиндельбаум. Но спасибо, что спросили.
Она кладет узловатый из-за артрита указательный палец на свои сероватые губы и молчит, будто собираясь сказать что-то важное.
– А ты пробовал принимать «Калмс»?
Я взял себе за правило быть с людьми предельно честным в разговорах о бессоннице, чем бы мне это ни грозило. А обычно мне это грозит данными от всей души, но абсолютно дурацкими и бесполезными советами. Люди не могут узнать о том, что я страдаю бессонницей, и не предложить абсолютно надежное, никогда их не подводившее средство. И, похоже, они искренне верят, будто я никогда в жизни не пытался почитать перед сном, принять горячую ванну, выпить кружку горячего молока, посчитать от ста до одного, выпить какой-нибудь настой на травах, которыми завалены аптеки и которые можно купить без рецепта, – все это семечки для настоящей бессонницы, которой все по барабану. А первое, что всегда предлагают люди, не знающие настоящей бессонницы, которой все по барабану, которые пару раз в жизни не смогли быстро заснуть, – это, конечно, «Калмс». Миссис Хиндельбаум говорит мне про «Калмс» уже, наверное, в двадцать шестой раз.
– Нет, миссис Хиндельбаум, – отвечаю я. – Надо будет попробовать.
– Его можно в любой аптеке купить.
– Правда? Спасибо, обязательно куплю.
Затуманенный взгляд бабушки выплывает из ниоткуда.
– Вос нох,Габби? – спрашивает она, возвращаясь к старому разговору. Помните, « вос нох»? – Так что ты думаешь делать с этой девушкой? Что ты чувствуешь по отношению к Тине?
Э…
Кто-то легонько хлопает меня по плечу. Я оглядываюсь.
– А еще… – задыхается Лидия Фриндель, – они заставляют нас есть свинину!!!
Девятнадцать часов десять минут. Я уже дома. До «около восьми» осталось пятьдесят минут. Мне никогда не требовалось так точно ориентироваться во времени, как сейчас. Дело в том, что у меня встал. Я это безо всякого самодовольства говорю. У меня встал. Таким образом, я оказываюсь перед выбором мужчины за пятьдесят минут до свидания: сохранить свои запасы в неприкосновенности, надеясь на лучшее, или подрочить? Аргументы за и против вышеуказанного таковы.
За:
1. Я не буду перевозбужден настолько, что у меня все начнет валиться из рук и я стану весь вечер говорить на непонятном языке, заходясь в странном экстазе.
2. Если секс все же случится, я смогу дольше не кончать, даже не пользуясь советами из секс-учебников на видеокассетах.
3. Мне будет хорошо.
Против:
1. За ужином я вдруг пойму, что от меня несет, как от полкового публичного дома.
2. Если секс все же случится, то моя простата взорвется.
3. Дина может позвонить в дверь в самый неподходящий момент.
Смотрю на часы: 19.17. Черт с ним, заглянем-ка лучше в мою видеотеку. Я открываю ящик над телевизором: «Шлюхи новой волны», «Анальный беспредел», «Секс-бесчинства в день рождения», «Девочки отдыхают», «Хайссе Титтен», «Мокрые трусики», «Сладкая штучка Дезире Кусто», «Анал Анал Анал», «Макс делает это так», «Баттмен и большие сиськи». Надо будет как-нибудь расставить по алфавиту. Второй ряд: «Школьницы отдыхают», «Прыгающая сперма Эда Пауэрса», «Жизнь Махатмы Ганди» – не знаю, как сюда попала эта кассета. Третий ряд: ужасная английская эротика – «Вечер цвета электрик» и тому подобное – и три ненадписанные кассеты (те дырочки, из-за которых на них нельзя ничего записывать, заклеены скотчем).
Тяжелый выбор. Со всеми фильмами связаны какие-то воспоминания. «Мокрые трусики» – это моя первая кассета, я купил ее еще в школе за три фунта девяносто пять пенсов и получил бесплатно «Распутную блондинку»; этот фильм я мог смотреть сотни раз – теперь фильмы мне обычно наскучивают после первых десяти минут. Кассету «Макс делает это так» я нашел на помойке у станции метро; она была сломана, но я починил – все равно, что голубя со сломанным крылом выхаживал. «Хайссе Титтен» – это подарок отца. «Анал Анал Анал» – похоже на римейк картины «Тора! Тора! Тора!» Название «Секс-бесчинства в день рождения» не оставляет сомнений в содержании. Фильм «Сладкая штучка Дезире Кусто» (думаю, с тем Кусто никакой связи нет) вызывает у меня самые приятные ассоциации.
Вот именно его я и посмотрю. Тянусь за кассетой. Раздается щелчок, мою правую руку пронзает острая боль.
Я тут же отдергиваю руку. Мои покрасневшие пальцы зажаты в мышеловке, прикрепленной к кассете с обратной стороны. В какой-то гребаной мышеловке! Несколько лет назад я действительно покупал ее, поскольку Иезавель была готова убивать кого угодно, кроме, как ни странно, мышей; но я не верю, что это Иезавель подложила сюда мышеловку: при всем своем коварстве на такое она не способна. Осторожно приподнимаю металлический зажим и, убирая руку, вижу сделанную черным маркером надпись: «Ты попался!»
Ник, чертов лицемер. Наверное, думает, что раз он сошел с ума, то и всей его предыдущей жизни не существует. Да Ник потратил на порнофильмы больше времени, чем Британское бюро киноцензоров. Если я покупаю кассету, то могу ее посмотреть, потом пересмотреть часа через три, и больше в тот день я не подойду к телевизору; а Ник мне как-то раз заявил, что посмотрит кассету, потом нальет себе чашечку чая, потом пересмотрит кассету, потом нальет еще чашечку чая, потом пересмотрит кассету, потом нальет еще чашечку чая, потом пересмотрит кассету – так и будет ее пересматривать, пока чай не кончится. Кстати, под «посмотрит» и «пересмотрит» я не подразумеваю пассивный способ восприятия кинофильма.
Ожидая, пока кран снизойдет до меня и все-таки оросит мои бедные пальцы холодной водой, я думаю о том, что и до сумасшествия Ник был склонен к подобной широты жестам, только цель была противоположной. У нас есть правило: мы никогда не смотрим порнографию вместе (именно так, а за кого вы нас принимаете?). И часто получалось, что мы оба хотели позевать на диване, пока другой не отправится спать. Обычно я сдавался первым – в конце концов, ему, как уже говорилось, нужно было больше успеть. Но однажды, после покупки фильма «Баттмен и большие сиськи», я отказался ему уступить. Я подумал, что должен проявить силу воли, проявить самообладание, и остался сидеть перед телевизором, делая вид, что хочу посмотреть музыкальное шоу на Би-би-си. И тут Ника понесло: он стал кричать, что я эгоистичен и непоследователен, что у него был очень тяжелый день, что кому-то стоит время от времени пробовать посмотреть на себя со стороны. Правда, удивительно? Он пытался урезонить меня с позиций высокой морали для того, чтобы спокойно подрочить.








