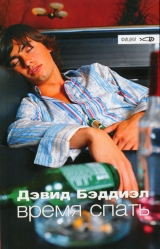
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Связь на мгновение пропадает.
– Что, прости? – переспрашиваю я.
– Я сказал: надеюсь, что ты прав.
– А, понятно.
– Ну, ладно, еще увидимся.
– Увидимся.
Он замолкает на секунду, обдумывая, стоит ли что-то говорить; если я правильно понимаю предмет его раздумий, то это на самом деле не стоит такого напряженного внутреннего диалога.
– Пока, блин? – с надеждой говорит он.
Я так и думал.
– Давай, блин, – отвечаю я, выдержав достаточно долгую паузу, чтобы он успел забеспокоиться.
Наверное, кладя трубку, он улыбается своей находчивости.
21
Еще десять минут назад я спал беспробудным сном – да-да, именно беспробудным, – а потом меня все же разбудил какой-то звук. Незадолго до этого во сне – я там пытался приручить морскую лошадь – я услышал странный скрежет. Подсознание старалось изо всех сил, но со временем стало ясно, что скрежет доносился не от морского гномика, который катался вокруг коралла на маленьком автомобильчике, явно не умея его водить, а от чего-то, находящегося прямо в моей спальне. Когда я окончательно проснулся, мне показалось, будто скрежет прекратился, но со звуками, от которых просыпаешься, всегда так: они затихают, как привидение, маньяк с топором или таракан-мутант, которые, заметив, что ты поднял голову с подушки, затаиваются и ждут. Я целых четыре минуты осматривал едва освещенную комнату, при этом сердце билось так часто, будто у меня внутри играла музыка в стиле «джангл»; я откинулся на подушку и тут услышал скрежет.
Пришлось встать и включить свет – а именно этого шуму и надо, он не успокоится, пока не разозлит тебя но-настоящему. И опять ничего. Но через несколько секунд из-под кровати выбежала мышь, затем послышался скрежет когтей об пол – следом за ней пулей вылетела Иезавель.
На самом деле не стоит мне оставлять на ночь дверь спальни открытой. Я так делаю только потому, что тешу себя совершенно иллюзорной надеждой, будто в один прекрасный день Иезавель придет и уснет на моей кровати. Я всегда мечтал о кошке, которая бы проскальзывала ночью в спальню и сворачивалась клубочком на одеяле, с ней было бы тепло и хорошо, она бы тихо мурлыкала, и это мурлыканье звучало бы как колыбельная, я бы незаметно соскальзывал в море сна. Но с Иезавелью так не получалось. Сколько я ни пытался удержать ее, накрыв одеялом и рассыпав на подушке кошачий корм, ничто не могло заставить ее спать на моей кровати. Как правило, мне оставалось только смотреть на ее сверкающие гневом пятки и вспоминать, где же лежат пластыри.
Иезавель выныривает из-под шкафа с мышью в зубах. Я хватаю ее за загривок и невольно представляю себе, как за загривок носила ее, еще маленького котенка, кошка-мама; становится грустно, как становится всегда, когда видишь какую-нибудь бизнес-леди и задумываешься, кем она хотела стать в детстве. Я трясу Иезавель, но мышь она не отпускает, зато недовольно мяукает, вернее, издает удивительно долгий звук, причем демонстрируя все оттенки тональной палитры – от самого высокого до самого низкого, будто кто-то до предела выкручивает ручку контроля тональности. Мышь, как я вижу, еще жива, но такое проявление мягкости (единственное, присущее Иезавели) – это палка о двух концах: она будет с величайшей осторожностью держать свою жертву в зубах, лишь едва сжимая их, но только для того, чтобы потом отпустить и помучить – а мучить уже мертвую жертву неинтересно. Я пытаюсь вытащить мышь, но Иезавель только сильнее сжимает зубы; я начинаю понимать, что хищница скорее убьет ее, чем отпустит.
– Отпусти ее! – приказываю я. – Отпусти немедленно!
В ответ раздается подозрительное неразборчивое мяуканье.
Крошечные черные пятнышки мышиных глаз смотрят на меня на удивление спокойно. Ну и что ты суетишься? – будто говорят они. – Таковы законы природы.Но Иезавель вдруг отпускает свою жертву, а мышь так и остается покорно ждать своей участи. Ослепленная желанием Иезавель забыла про меня; я быстро хватаю маленькое коричневатое создание – она в шоке. Свободной рукой снимаю халат с крючка на двери и накидываю его себе на плечи. Спускаясь по лестнице, я слышу протяжный вопль животного, которое дошло до последней грани отчаяния; точно такой же вопль я услышал, когда Иезавель отходила от наркоза, под которым ей удаляли яичники. Но тогда она плакала по своим нерожденным детям, в конце концов. А это – какая-то гребаная мышь. У нее вообще есть чувство меры?
На улице идет дождь, туманная утренняя морось; некоторым частям моего тела – которые, как я думал, прикрыты – становится холодно, я гляжу вниз и понимаю, насколько забавный вид открывался бы для молочников и разносчиков газет, если бы таковые только были в Килберне. Я не могу завязать пояс, потому что держу мышь двумя руками, сложив ладони в молитвенном жесте, и мне приходится быстро скрыться в нагромождении кустов и кирпичей, позорящем само слово «патио». В этот момент из-за угла вылетает синяя «воксхолл-астра», уверенная, судя по скорости, что в такое время других машин на улицах не бывает; водитель замечает меня, но ничего удивительного в том, что полуголый человек, видимо, молится на заднем дворе своего дома, он не находит. Я опускаю руки на землю и выпускаю мышь. Она встает на задние лапки и вертит носом. Это до абсурда логичное для мыши действие наводит меня на мысли о том, что животные, возможно, тоже заразились самосознанием. Она убегает, наверное, в поисках сыра, чтобы потом оторваться с парой друзей.
Вернувшись в спальню, я застаю Иезавель усердно обнюхивающей то место, где раньше лежала мышь.
– Я вынес ее на улицу. Ты же сама видела!
Обнюхивание продолжается. Я отворачиваюсь, чтобы выключить свет и лечь обратно в кровать, надеясь на то, что, возможно, изможденная своими садистскими выходками, Иезавель снизойдет до того, чтобы поспать со мной, но в этот самый момент она кусает меня за лодыжку. Ай! Твою мать! Принюхивалась она только для виду – это была уловка! Я поворачиваюсь, чтобы дать ей по ушам, но ее уже и след простыл.
За пятнадцать минут все тепло, которое было в моей постели, улетучилось; а если и нет, то улетучивается в тот момент, когда я приподнимаю одеяло, чтобы улечься. Минуты три пытаюсь найти повязку для сна и только потом понимаю, что она у меня на голове (наверное, во двор я тоже в таком виде выходил). Чудесно. Я натягиваю повязку на глаза и как-то слишком усердно зарываюсь в простыни. Это не совсем похоже на классическую бессонницу, когда все время резко переворачиваешься с бока на бок: я подбираю под себя ноги, проходя стадию эмбриона и превращаясь в сильно надутый шар, затем натягиваю простыню на голову; со стороны может показаться, что я переусердствовал, пытаясь свернуться калачиком. И вдруг раздается шлепок. Потом еще один. Шлеп!
Что? Что на этот раз? Я выпрямляюсь и на ощупь пытаюсь включить прикроватную лампу.
– Иезавель?
Тишина. Она все еще на улице. Черный мусорный полиэтиленовый мешок шуршит в углу. Шлеп! – оттуда выпрыгивает мокрая лягушка, вена у нее на шее вздулась, и видно, как мерно пульсирует кровь. Мы встречаемся взглядами, и она замирает на месте.
Двух минут мне хватило, чтобы вернуться в кровать. Я оставил лягушку подальше от того места, где оставил мышь, чтобы не лишать ее ощущения собственной территории; когда она уже скрывалась из вида, мне показалось, будто я вижу красные пятнышки на ее темноватой спине, но, возможно, это были пятна на сетчатке моих обессилевших глаз. Возвращаясь домой, я поймал на себе пристальный, но спокойный взгляд Сумасшедшего Барри; может, дело в том, что в это время суток он еще бывает трезв – не знаю, – но взгляд у него был не в пример обычному осмысленный. «И куда мне девать всех этих мышей и лягушек?» – читается в его глазах. Мне даже захотелось извиниться – в конце концов, я оставлял их у порога его дома.
Удивительно, но сон, похоже, еще может вернуться – он еще во мне, я чувствую, как тело тяжелеет, надо только сосредоточиться… В этот момент Иезавель опять начинает вопить и бешено скрестись. Я бросаю взгляд на дверь – уже нет необходимости включать свет – и вижу просунутую в щель под дверью лапу, причем настолько далеко, насколько это возможно, движения лапы такие резкие, что напоминают метроном с перекрученным заводом. Встаю, чтобы открыть ей дверь, хотя и понимаю прекрасно, что Иезавель не хочет таким образом сказать мне: «Пусти меня, я хочу проскользнуть в спальню, свернуться клубочком на одеяле и убаюкивающе помурлыкать». Она лежит на спине, но тут же вскакивает, как заправский акробат, проходит мимо меня, ныряет под кровать и, покопошившись там немного, выныривает обратно с огромной дохлой крысой в зубах. Она бросает крысу к моим ногам и смотрит: «Вот тебе для комплекта».
Да что с этой кошкой такое? За одну ночь она притащила сюда трех тварей! Что она пытается доказать? Я опускаю взгляд. На полу лежит сорокасантиметровая крыса; шея у нее вывернута, голова крепко держится на позвоночнике, единственное свидетельство, что Иезавель ее притащила, – это крошечное красное пятнышко на не совсем белой шерстке. Глаза у крысы закрыты, но уголок рта приоткрыт, обнажая острый зуб и подразумевая презрительную усмешку из серии «а мне уже на все наплевать». Я не понимаю, почему Иезавель принесла ее уже дохлой, но потом до меня доходит, что с сопротивляющейся крысой в зубах сложно вообще куда-либо дойти, хотя мне даже пробовать бы не хотелось. Иезавель нежно подталкивает трупик лапой.
Я совсем не уверен, стоит ли мне ее поднимать – разве не с дохлых крыс начинается бубонная чума и все в этом роде? – но оставить ее валяться посреди спальни – тоже не лучшая мысль, поэтому большим и указательным пальцами я беру ее за кончик хвоста и собираюсь выбросить в окно (только на этот раз не на улицу, а то Сумасшедший Барри может углядеть в этом закономерность). Поднимаю я ее медленно, так что сначала она просто ползет по полу – в этот самый момент Иезавель слегка ударяет ее лапой и отпрыгивает вправо; я поднимаю тушку вверх, и кошка прыгает за ней, как кенгуру. Какое-то время держу крысу на весу; Иезавель мотает головой, чтобы не упустить из виду покачивающуюся тушку, зрачки темнеют. Она снова пытается допрыгнуть – я успеваю дернуть рукой вверх, и на мгновение ее растопыренные лапы оказывается на уровне моего лица. Невероятно. Иезавель действительно со мной играет. А дохлая крыса – это игрушка. Забывая про все свои страхи окончить жизнь в тачке могильщика под выкрики «Выносите своих мертвецов», я хватаю крысу правой рукой и бегу на кухню.
Веревочка, где-то здесь обязательно должна быть какая-нибудь веревочка. Я открываю ящик за ящиком, но наталкиваюсь на обычный домашний хлам: банку со сверлами, пять пустых коробок от видеокассет, ворох полиэтиленовых мешков для мусора, практически пустую баночку улучшающих пищеварение таблеток со вкусом шоколада, бакелитовую рюмку для яйца, огромный моток скотча, табличку с надписью «Габриель» – в детстве она был прибита к двери моей комнаты, – миниатюрную бутылочку виски «Гленфиддич», «На память от Ника», сломанные электрические часы, лабораторную газовую горелку (откуда она?) и сборник лучших песен Дэвида Боуи на бобине. Не в силах дальше искать, я кладу крысу прямо на кухонный стол и ленточкой от миниатюрной бутылочки виски обвязываю ей живот, набитый жучками, которых ей уже не переварить, прижимая узелок пальцем, чтобы он не сбился, и завязываю вполне аккуратный бантик. А почему бы и нет?
Иезавель сидит в спальне и спокойно ждет меня, прячась за дверью. Я достаю из-за спины дохлую крысу и трясу перед ней, как папочка, купивший дочурке совершенно особенный подарок по случаю своего возвращения из долгого путешествия.
– Мяу, – проявляет она свой интерес.
Я кладу крысу на пол, Иезавель не спускает с нее глаз. Опускаюсь на колени и дергаю за ленточку. Крыса неуклюже пятится, ее лапки причудливо изгибаются под весом крысиного тела – Иезавель пытается достать ее сначала одной лапой, потом другой, но я резко дергаю ленточку в сторону, и крыса превращается в обезумевший «форд», хитрит и увиливает, куда более юркая, чем при жизни. Иезавель пытается запрыгнуть на нее, чтобы лишить возможности удрать, но с тех пор, как крыса умерла, дела у нее пошли куда лучше, и теперь она умеет летать; Иезавель смущенно, но не без восхищения глядит на взмывающую вверх крысу, которая гордо реет, как ангел-грызун. Иезавель снова пытается до нее допрыгнуть.
Мы играем минут двадцать, в лучах восходящего солнца – совершенная гармония соединяет кошку, человека и дохлую крысу. Но вдруг Иезавель, внезапно охладевшая к болтающемуся на ленточке трупу, уходит, а я начинаю обматывать крысу ленточкой, чтобы потом эта мумия обрела покой в нашем мусорном ведре; и тут я застываю, мое внимание приковывает то, что Иезавель запрыгивает на кровать. Она принимается мягко переминаться с одной лапы на другую и при этом мурлыкать. Господи, мурлыкать.Затем она ложится, сворачиваясь в клубочек и загибая хвост, чтобы клубочек получился идеальный, и мгновенно засыпает.
Я гляжу на полуразодранную крысу. Подхожу к столу, открываю второй ящик снизу, где хранятся баночки со снотворным, и осторожно кладу ее в самый центр – это мой алтарь бессознательному.
22
Кабинет УЗИ гинекологического отделения Королевской больницы находится на пятом этаже, и добраться до него можно только на лифте. Мы с Диной прислоняемся к серой стенке лифта, который с грохотом ползет вверх; по пути сюда между нами чувствовалось напряжение, мы подолгу молчали, а если и разговаривали, то не касались непосредственной цели нашей поездки.
– Надо будет пройти через родильное отделение? – спрашиваю я.
– Она так сказала, – отвечает Дина, не глядя на меня.
У нее выражение лица, которое я видел, когда мы ждали механика из «Зеленого флага» на Вестбурн-парк-роуд. Лифт останавливается на втором этаже, это отделение психиатрии. Массивные металлические двери открываются, и вместе с большой группой практикантов заходит доктор Прандарджарбаш.
– Здравствуйте, – неуверенно говорит он, заметив меня и слегка вздрогнув.
– Я Габриель Джейкоби. Несколько месяцев назад я приводил к вам своего соседа, у него был каннабинольный психоз.
– Да-да, конечно, – говорит он. – Помните, Стив, я вам рассказывал про пациента с подозрением на шизофрению…
Стив, худощавый двадцатитрехлетний блондин в белом халате, с готовностью кивает, хотя глаза выдают его замешательство. Лифт отъезжает.
– Как у него дела? – интересуется доктор Прандарджарбаш.
Я пожимаю плечами.
– Сложно сказать.
Он кивает в ответ. В его глазах зажигается огонек подозрения, и он спрашивает, тыча в меня указательным пальцем:
– Подождите-ка, это же вы поучаствовали в драке в Роял Парк.
Стив смотрит на меня с интересом, возможно даже, не без уважения.
– Да, – признаюсь я, в моем голосе, как ни печально, чувствуется гордость за эту драку. – Но не бойтесь, я не собираюсь разносить эту больницу.
Он пытливо смотрит на меня, словно хочет внимательно выслушать.
– Глупость получилась, – объясняю я. – Столько всего тогда навалилось. Ник заставил меня отвезти его в больницу…
– Ник – это ваш сосед?
– Да. И он не захотел ложиться на лечение по доброй воле, вот я и вышел немного из себя. Доктор пытался меня успокоить, а я резковато с ним обошелся, а следующее, что я помню, – это когда на меня навалились дежурные.
– И чем все закончилось?
– Меня обвинили в нападении на врача.
Лифт остановился на четвертом этаже. Молодой араб в солнцезащитных очках помогает выбраться своему подопечному – бородатому старичку в кресле-каталке.
– Ну, – говорит доктор Прандарджарбаш, наклоняясь вперед и нажимая на кнопку «11», – насколько я помню, ваш визит сюда тоже не обошелся без происшествий.
– Да уж…
– Это была не его вина, – вступается за меня Дина; я думал, что ей сейчас не до того и она даже не слушает. – Что здесь, что там.
Доктор Прандарджарбаш с отвлеченным любопытством изучает ее задумчивое лицо. Лифт останавливается на пятом этаже. Мы уже выходим, когда он говорит, не переставая глядеть на свои длинные, возможно, даже с маникюром, ногти:
– Да, на буйного вы, пожалуй, не похожи. Я замолвлю за вас словечко – может, и удастся снять обвинение.
– Спасибо, – говорю я.
Пытаюсь поймать его взгляд, чтобы показать, что я действительно благодарен, но это сложно сделать на ходу, и двери уже закрываются. Я только успеваю заметить, что они со Стивом обсуждают уже что-то другое, оживленно жестикулируя.
– А Габриель – это ваш…
– Друг, – уточняю я.
При этом чувствую всю абсурдность этого определения, ведь я с Диной вытворял такое, что настоящий друг никогда бы себе не позволил. Доктор Левин – человек с обнадеживающим голосом, редкими зубами и цыганской копной седых волос – кивает головой и явно небрежным почерком записывает что-то в свой блокнот.
– Это мой постоянный партнер. Мы вместе около трех месяцев, – объясняет Дина.
– Ясно… – говорит он, не переставая писать.
Окна в кабинете закрыты шторами только наполовину, так что видны висящие в воздухе пылинки. Он отрывается от блокнота и спрашивает у меня:
– А вы на что-нибудь жаловались? Гнойники, боль при мочеиспускании, импотенция, неспецифический уретрит?
Да как вы смеете такое спрашивать?
– Нет.
– Некоторые опасные для матки бактерии могут переноситься мужчинами, и они даже не будут ни о чем подозревать…
– И… – говорю я.
У этого доктора Левина есть привычка обрывать предложение, будто вывод слишком очевиден, чтобы его озвучивать.
– Ах да! Наверное, будет лучше, если вы тоже проверитесь. Обследование проведем в клинике Мальборо. Это на восьмом этаже.
– А… – пытаюсь сформулировать я мысль, пока доктор что-то пишет на новом листе бумаги, – это происходит с помощью таких штук, которые похожи на маленькие зонтики?
– Нет, Габриель, маленькие зонтики – это когда тебе коктейль в баре приносят, – шутит Дина.
Спасибо за шутку, но я знаю, о каких зонтиках я спрашиваю. Эти зонтики не в коктейли засовывают.
– Да просто мазок возьмут, – отвечает он, протягивая мне лист бумаги. – Позвоните им и…
– Записаться на прием? – подсказываю я.
– Да.
Меня такая перспектива не очень радует. Однажды я проходил осмотр в кожно-венерологическом диспансере, это было несколько лет назад. Тогда я думал – причин на то было много, и о некоторых вы можете сами догадаться, – что у меня проблемы с предстательной железой. В тот раз мне тоже сказали, что возьмут мазок; это была сама страшная боль в моей жизни. А человека, который управлял тем «маленьким зонтиком», звали Эдвин. Я ни на что не намекаю. Просто его звали Эдвин. И все.
Но Дина глядит на меня так, что я понимаю: проверка еще не кончилась. По-моему, какая-то часть Дины радуется, что и моему половому органу придется помучиться. Я складываю лист вчетверо и кладу в карман.
– Напомните мне, – просит доктор Дину, переключая внимание на нее, – вы испытываете эти боли периодически в течение вот уже двух лет?
– Двух с половиной.
– Именно тогда у вас было воспаление в тазовой области…
– Да.
– Вам прописывали доксициклин?
Дина вздыхает.
– Да. Целых три раза. Но он так по-настоящему и не помог, и…
Она умолкает, но не оттого, что вывод очевиден, а потому, что не хочет говорить о том, что она, возможно, бесплодна.
– А когда вновь начались боли?
– Месяца два назад.
Он еще что-то отмечает в блокноте и убирает ручку.
– Что ж, давайте приступим. Проходите туда и переодевайтесь, а я пока все подготовлю.
Дина кивает и тянется к сумке, но она лежит с другой стороны, около меня. Я поднимаю сумку, отмечая столь несвойственную ей рассеянность – наверное, это все стресс. Мы встречаемся взглядами, и я изо всех сил пытаюсь освободить свой взгляд от всего, кроме любви. Защитные створки в ее глазах чуть приоткрываются на мгновение, и я успеваю заметить в них нечто не совсем мне понятное – разбитую надежду на что-то, страстное желание чего-то, от чего пришлось отказаться; она встает и уходит в смежную комнату.
Когда мы остаемся с доктором Левином наедине, возникает не просто ощущение легкой неловкости, я даже немного напрягаюсь; от осознания того, что в кабинете сидят двое только что познакомившихся мужчин и один из них уже знает, страдал ли другой неспецифическим уретритом, легче не становится. Я бесцельно смотрю по сторонам. Какое-то время он делает то же самое, а потом вдруг вспоминает, зачем он здесь, и отходит к кушетке в углу. Мурлыкая что-то себе под нос, он нажимает на какие-то кнопки стоящего рядом с кушеткой аппарата.
– Доктор Левин? – отвлекаю его я.
– Да?
– А в клинике Мальборо нет никого по имени Эдвин?
Он задумчиво хмурит брови.
– Эдвин? Хм. Эдвин. Эдвин, Эдвин, Эдвин…
Появившаяся из-за двери Дина в длинной белой рубахе одаривает нас несколько смущенной улыбкой.
– Переоделись? Давайте забирайтесь на кушетку! – командует он.
Несколько рассеянная бойкость доктора Левина что-то мне напоминает. Точно: медосмотры в начальной школе. Сначала врачи быстро прослушивали меня стетоскопом, а потом именно таким тоном говорили: «Ну а теперь приспусти штаны!» – и зачем-то просили кашлянуть. Наверное, людям, каждый день сталкивающимся с десакрализацией сокровенного, приходится разговаривать таким тоном – это своего рода самозащита.
Дина неподвижно лежит на кушетке и смотрит в белый потолок. Доктор Левин натягивает резиновые перчатки и берет в руки небольшой белый пластмассовый зонд.
– Возможно, сначала вы почувствуете холодок…
Лицо у нее чуть искажается, когда доктор вводит зонд внутрь. Он нажимает еще на какую-то кнопку – на экране появляется серый треугольник с дугой в основании и будто заполненный какой-то жидкостью. Похоже на жалкую попытку устроить лазерное шоу. Постепенно изображение Дининой матки становится все четче, хотя по краям остается расплывчатым. У меня нет ощущения, будто я узрел святая святых или еще что-нибудь в этом роде. Слишком туманно и расплывчато. Вдруг замечаю черное пятнышко в углу. Похоже, это просто пятно на самой поверхности экрана, но сердце у меня все равно замирает: только не рак. Только не это.
– Надо полагать, вы беспокоитесь, что боли в матке – это симптомы бесплодия… – говорит доктор Левин, переводя взгляд с экрана на Дину и обратно.
– Да. Это меня тоже беспокоит, – отвечает Дина, продолжая глядеть в потолок.
– А вы пытались забеременеть?
Наконец-то она переводит взгляд на него.
– Нет.
– Тем не менее вы беременны. Я бы сказал… на девятой-десятой неделе.
В этот момент окружающая меня действительность теряет смысл. Дина смотрит на меня, доктор Левин смотрит на меня, даже черное пятнышко смотрит на меня; но на меня с небес обрушился огромный серый треугольник с дугой в основании, под ним я и погребен.
Мы сидим в кафе «Хангер» на Чалк-Фарм-роуд. Дина долго помешивает ложечкой свой черный кофе, будто в нем полно сахара и молока.
– Ну, в общем… – мямлю я, – если ты хочешь переехать ко мне, то я не против – тем более, что Ник съезжает… И если ты захочешь оставить ребенка, то я не буду возражать… Если не захочешь – тоже не буду. Я готов принять любое твое решение.
Уже в третий раз говорю это, ну или что-то в этом духе; что-то подобное я и должен говорить в такой ситуации. Дина кивает, но похоже, что она не слушала меня.
– Как это могло произойти? – удивляется она.
– Ну…
– Мы же все время пользовались презервативами, разве нет?
– Да, но один раз…
– Габриель. Забеременеть можно только через влагалище.
– Я знаю. Я просто подумал о презервативах. Хотя подожди-ка, – осеняет меня. – В первую ночь – в самую первую ночь, когда случилась вся эта история с лягушкой…
– Что?
– Я тогда, помнится, пошел в уборную, чтобы спустить презерватив в унитаз. И…
Ее взгляд требует продолжения; я улыбаюсь из последних сил.
– Кажется, он немного протекал…
Наконец-то она перестает помешивать свой кофе.
– Почему ты мне не сказал?
– Я ж не знал наверняка! А сама хоть разок попробуй наполнить эту хрень водой. Брызги по всей ванной летят. Да какая уже тогда была разница?
– Я бы могла утром выпить таблетку, и все!
– Но ты же сказала, что не можешь забеременеть.
– Я никогда этого не утверждала!
Наблюдая за тем, как она впадает в истерику, я придумываю стишок: «У тебя проблемы с маткой? Так с тебя и взятки гладки».
– А на задержки ты не обратила внимания?
– Да с этим у меня уже сто лет полный бардак, – отмахивается она. – Еще с тех пор, когда у меня впервые возникли проблемы по женской части. Так что я и не заметила.
«Хангер» практически пуст, что неудивительно для понедельника, тем более в пятнадцать двадцать три. Официантка в черных лосинах сидит у барной стойки, разговаривая с мужчиной, выглядывающим из кухонного окошка. По-моему, с таким количеством волос на теле ему не стоит работать на кухне.
– Ну послушай, – говорю я и протягиваю руку к ее рукам, все еще сжимающим чашку с кофе, – это же хорошо. По крайней мере, теперь ты знаешь, что у тебя все в порядке. Ты можешь иметь детей.
Она слегка кивает и делает глоток кофе, освобождаясь от моей руки. Я вдруг понимаю, что какая-то часть меня хочет этого ребенка. Эта часть хочет, чтобы я остановился, она понимает, что где-то буквально за поворотом я найду мир и спокойствие, которое не потревожит ни постоянный зуд желания, ни надоедливо копошащийся соседский садовник, ни Элис. Какая-то часть меня.
Официантка вопросительно смотрит в нашу сторону; Дина тянется за сумкой.
– Не стоит, я расплачусь, – говорю я.
Похоже, с этого момента я беру на себя обязанности кормильца.
– Ладно. У меня все равно с собой денег нет, – рассеянно отвечает она, расстегивая сумку и доставая оттуда пачку «Силк Кат».
– Слушай…
– Чего?
Псевдо-«Зиппо» выскальзывает из кармана, и ее недовольное лицо скрывается за маской пламени.
– Может, тебе не стоит курить?
Окутанная облаком дыма, она отводит руку с сигаретой в сторону и с наигранным недоумением смотрит на зажигалку.
– А как мне иначе его оттуда выкурить? – спрашивает она, наклоняясь чуть ближе ко мне; впервые за последние недели бровь у нее приподнята.
– Ну Дина…
– Я не собираюсь оставлять ребенка, Габриель.
Какая-то часть меня умирает.
– Почему?
Она тушит сигарету в белой фарфоровой пепельнице; сигарета разламывается в двух местах, и оттуда высыпается табак.
– Потому что это самая большая глупость, которую мы можем сделать. Потому что рожать – охрененно больно. Потому что я не хочу провести следующие два года в разговорах о коликах. Потому что ни у одного из нас нет нормальной работы.
Я смущенно смотрю на официантку, притворяющуюся, что она протирает столы, затем вновь перевожу взгляд вновь на Дину и наклоняюсь чуть ближе к ней, к ее лицу, до которого мне так хочется дотронуться.
– Но это все неваж…
– А еще потому, что ты влюблен в мою сестру.
Она говорит с едва слышным намеком на всхлип в середине фразы – это легкая неровность тона, как у Карен Карпентер. Ее взгляд проникает в меня, подобно хакеру, проникающему в главный компьютер, и я на удивление беспомощен, этот взгляд вытягивает из меня все, всю мою сущность вытягивает со скоростью света; уловив мелькнувшее на мгновение в моих глазах чувство вины, она опускает голову.
Время от времени слышится звук ударяющихся друг о друга пепельниц – это единственный звук, раздающийся в кафе, если не считать всхлипов Дины. Секунды мне хватает на то, чтобы понять, что не стоит ничего отрицать. Слишком поздно, к тому же я все равно хочу ей рассказать – она ведь мой друг.
– Откуда ты знаешь?
– Ты мне сам сказал…
Она резко поднимает голову и вытирает слезы.
– …во сне.
Теперь я жалею о том, что не стал все отрицать.
– Быть того не может, – кипячусь я. – Я никогда не разговаривал во сне. Я никогда так крепко не засыпаю.
– Один раз заснул.
– Когда?
– У Элисон.
Я собираюсь что-то выдохнуть в ответ, но не решаюсь.
– Ты, наверное, подумал, что так и не побывал под гипнозом? – зло спрашивает она.
– Ну… нет… – запинаюсь я, исчерпав все запасы красноречия, – я помню, как на мгновение отключился…
Она угрожающе спокойно кивает головой.
– Да, когда я тебя обнимала, – подсказывает она, медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. В каждой паузе между словами я слышу звук взводимого курка.
Меня точно судорогой сводит – я хочу повернуть время вспять.
– Точно… Но только на мгновение.
Она перестает кивать и уже мотает головой.
– Мы ушли в пятнадцать минут седьмого. Я соврала тебе на станции. Ты больше часа был под гипнозом.
Это заставляет меня нахмуриться. Сморщить лицо. Сморщиться.
– А как же человек, который должен был к ней прийти? – спрашиваю я.
Мой запутавшийся мозг наугад выуживает мелкие подробности того вечера.
– Он не пришел.
– А, понятно.
И что, по ее милости я впал в какую-то специальную исповедальную кому?
– И о чем я говорил?
Похоже, мне ничего больше не остается, только вопросы задавать. Она снова щелкает по дну пачки и берет сигарету.
– Ты перечислял мысли. Те мысли, которые не дают тебе заснуть.
– И что это были за мысли?
Она выдыхает дым и носом, и ртом одновременно.
– Бред, по большей части. Что-то про твоего дедушку было.
Зрачки у нее сужаются.
– А потом ты назвал ее.
Похоже, почетная обязанность назвать имя возложена на меня.
– Элис.
Вылетев из моего рта, это слово повисло между нами летучей мышью.
– Да.
– Что, и все? Просто «Элис»?
– В общем, да. Только громко. Чуть ли не срываясь на крик. Ну и «пожалуйста».
– Что «пожалуйста»?
– Ты так сказал. «Элис. Пожалуйста».
Я чувствую, как краснею, представляя себе это жалкое зрелище: я лежу и реву, как маленький ребенок, от которого отошла мама.
– Понятно, – отрезаю я. Ощущение, будто надо мной надругались.
– Ах, теперь ты злишься.
– Ну…
– Считаешь, что тебя обидели? Раздели? Унизили? – чуть ли не набрасывается на меня Дина. – Что ж. Пожалуй, у нас обоих такое ощущение.
Повисает тишина. Официантка тактично удалилась на кухню. Я, конечно, должен извиниться, но с чего начать? Если я буду извиняться так долго, как она этого заслуживает, то мы отсюда до Хануки не уйдем.
– Позволь мне кое-что сказать тебе, Габриель, – тушит она очередную только прикуренную сигарету. – Той первой ночью, когда еще приключилась история с лягушкой… Знаешь, почему я с тобой переспала?
– Ну… мне, в общем, иногда казалось, что, возможно, я тебе понравился.
– Нет, – отрезает она.
Спасибо на добром слове.
– Я серьезно повздорила с Элис перед тем, как прийти к тебе. Ей не нравилось, что мы, возможно, будем встречаться. Думаю, не нравилось это скорее Бену, но тогда они с Беном еще одинаково относились ко всему.
В зале кафе начинает играть какая-то бесцветная фоновая музыка. Кажется, «Симпли Ред». Похоже, официантка решила немного нам помочь.








