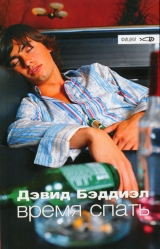
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
– Я рада, что ты подошел, – говорит она, продолжая трепать меня по щеке. – И я особенно рада, что подошел ты, а не какой-нибудь… Саймон или раввин, чтобы рассказать мне о том, что все нормально и в один прекрасный день мы все встретимся.
– Это не так, – гляжу я на могилу. – Все не нормально. Правда?
Милли качает головой, а я, человек, которого заставляет расплакаться большинство бессмысленных голливудских уловок, который в один прекрасный день расплачется над сериалом «Соседи», вдруг чувствую, как к горлу подкатывает комок – в первый раз с того момента, как умерла бабушка. Над нами пролетает самолет. Я запрокидываю голову и гляжу на него. Со стороны может показаться, что я смотрю в никуда, просто использую силу притяжения земли, отчаянно пытаясь сдержать слезы, но это не так, просто хочу оказаться на том самолете: я не хочу лететь в какое-то конкретное место, я просто хочу лететь, парить бесконечно в вышине, над облаками, никуда не прилетать, лишь скользить по воздуху, глядя на небесные айсберги.
– Здравствуй, Бен, – говорит Милли, выглядывая из-за моего подрагивающего плеча.
– Симха, Милли. Габриель? Можно тебя на минуту?
Мы с Беном идем по усыпанной гравием дорожке, огибающей виллесденское кладбище; по сторонам растут деревья – уж простите, но понятия не имею, что за деревья, – а еще по бокам стоит чуть ли не двухметровая изгородь, вместе они изо всех сил стараются скрыть мертвых от живых.
– Как ты думаешь, каково сейчас маме? – спрашивает он после того, как мы около минуты шли в тишине.
– Думаю, не очень.
Я прекрасно понимаю, что этот банальный вопрос – не истинная причина нашей прогулки. Под ногами продолжает хрустеть гравий.
– Вот у наших родителей и не осталось родителей, – почему-то говорит он.
– Да уж.
В следующий раз слов «у наших родителей» уже не будет, будет просто: «Вот и не осталось родителей». А потом вообще не будет никаких слов.
– По ней я действительно буду скучать.
– Да, мы, пожалуй, были слишком маленькими, когда умерли остальные.
Продолжаем бесцельное блуждание. Отсюда видно, как родственники окружили могилу. Тучи чуть поредели, выжженные первым апрельским солнцем, так что скорбящие принялись болтать и ходить кругами, радуясь тому, что выбрались на свежий воздух.
– Только погляди на эту могильную плиту, – говорю я, указывая на одну из трех могил перед нами; это новые черные плиты, отполированные, на них золотом высечены какие-то слова. – «Доброй памяти Брайана Гранмерси». Как он ухитрился прожить… – щурюсь я, – семьдесят три года, так и не поменяв фамилию?
Бен останавливается, но смотрит не на меня, а на дорогу.
– Габриель. Насколько ты серьезно настроен по отношению к Дине?
– Серьезнее, чем раньше. А что?
Он продолжает смотреть на дорогу.
– У меня завязался роман на стороне, – говорит он, будто подразумевая, что роман до сих пор продолжается.
Меня прямо подкосило. Я, конечно, много раз переживал этот момент, но только в мечтах. И в них все было немного иначе. Начнем с того, что не на похоронах бабушки. И обычно все начиналось с Элис: она мне звонит, не выдерживает и признается в том, что уверена, будто у Бена есть другая, я еду к ней, утешаю, трах-тибидох. Впрочем, меня такие мысли уже давно не посещают. Да и когда они входили в обязательную программу моих мечтаний, я никогда не зацикливался на них. Знаете, у некоторых желаний существует определенный кредит доверия на то, что они могут осуществиться. Безработный актер ожидает главную роль в фильме, полупрофессиональный футболист в мечтах поднимает первый в своей жизни кубок районного первенства, Стивен Мурер сидит в одиночестве на перемене и думает, каково это – дружить с кем-то. Везде есть хотя бы малейшая лазейка для возможности, есть хотя бы малейшая надежда на «авось». Я о возможности даже не задумывался – это было исключительно умозрительное предположение. В конце концов, ну как кому-то может прийти в голову изменить самой красивой женщине в мире?
– Ты слышал, что я сказал? – спрашивает Бен.
– Не уверен, – отвечаю я. – Ты не мог бы повторить еще разок?
Бен пристально глядит на меня.
– Хватит дурака валять, Габриель. Это серьезно.
– Нет, – говорю я. – Это несерьезно. Совершенно несерьезно.
Я замолкаю. Боюсь, как бы не выдать себя с головой, и хотя у меня возникает ощущение, что, быть может, сейчас для этого самое время, но это не так.
– Что ты вообще имел в виду, когда говорил, что завязал с кем-то роман на стороне?
– Роман завязал ся.К тому же я подумываю о том, чтобы все прекратить.
– Да о чем тут думать?
Внешней стороной стопы Бен отбрасывает небольшой камень с дорожки. В футбол он всегда лучше меня играл – камень летит вправо и опускается точно на надгробие Брайана Гранмерси, на самый угол, чуть поцарапав то место, где написано: «Любящая тебя жена Дорис».
– Ну посмотри, что ты наделал, – упрекаю его.
Продолжая вести себя как обиженный трехлетний ребенок, он отворачивается и уходит.
– Кто она такая? – спрашиваю я, пытаясь мысленно нарисовать портрет женщины более красивой, чем Элис, но не получается – все время выходит Элис.
– Ты ее не знаешь, – отвечает он, не оборачиваясь.
Я вспоминаю, что начал он с вопроса о Дине. «Насколько ты серьезно настроен по отношению к Дине?» Серьезность вообще сложно измерить, но я даже готов был это сделать, у меня все инструменты вплоть до линейки были под рукой, но теперь им опять пришлось отправиться обратно в ящик. Медленная, но настойчивая черепаха моих чувств к Дине осталась далеко позади после неожиданного возвращения на дистанцию зайца Элис.
– А какое это имеет отношение к нам с Диной? – интересуюсь я.
На этот раз он оборачивается.
– Она не еврейка.
В моей голове вопрос с ответом никак не сходятся.
– Ну и что?
– Пойми, – начинает объяснять он, придавая вес своим словам тяжелым, несколько театральным вздохом. – Я знаю, что по-твоему это глупо и смешно, но в последнее время меня стало беспокоить, что я отдаляюсь от религии. Я ее теряю.
– Доктор, мы ее теряем, срочно дефибриллятор, – меланхолично замечаю я.
– Я так и знал, что ты это скажешь. Какой ты предсказуемый.
– Извини, – пристыженно говорю я. – Продолжай.
Из его больших ноздрей с шумом вырывается воздух.
– Последние полгода я все больше и больше об этом думал. Я даже поговорил с Элис об обращении в иудаизм.
– И что она на это сказала?
– Сказала, что согласна, раз уж для меня это так важно. Но, знаешь, этот процесс занимает целых два года, к тому же если у нее душа к религии не лежит, то она может не пройти испытания.
– Ладно, но мы-то с Диной тут при чем?
– Ну, в общем… Моя жена – не еврейка. Когда мы женились, мне даже в голову не могло прийти, что это окажется проблемой. Но вдруг оказалось. А потом у тебя что-то началось с Диной. Что-то серьезное.
– Ну, и?
– Ну, я и подумал: вот и все. Не быть больше роду Джейкоби еврейским.
Ничего себе. Он начал настолько издалека, что у меня это в голове не укладывается, так что я даже не беру на себя труд возражать, а ограничиваюсь предположением, которое вполне вытекает из его сумасбродной логики.
– То есть ты, надо полагать, трахаешь еврейку?
Он не отвечает.
– И ты, получается, думаешь, что ребенок, которого она могла бы от тебя родить, стал бы продолжателем нашего славного еврейского рода? Весьма похвально. На самом деле. Хотя, подожди… – щелкаю я пальцами, – что там в заповедях говорилось про адюльтер? Есть у меня такое подозрение, что «не прелюбодействуй».
– Послушай…
– Или ты просто решил прикрыть свою интрижку ворохом религиозной бредятины?
Я слишком сильно злюсь – меня вполне можно заподозрить в том, что я долго ждал этого момента. Кстати, что я вообще вытворяю? Что мне-то надо? Хочу ли я, чтобы Бен разрешил эту проблему, или я все же хочу, чтобы он отправился по неизведанному семитскому пути, оставив Элис на обочине, потерянную и не знающую куда податься, чтобы к ней на помощь пришел человек, на удивление похожий на того, с кем она разошлась? Довольно долго мы молча смотрим друг на друга.
– Тебе не понять… – в итоге выдает он.
– Да, не понять. С каких это пор ты стал беспокоиться о продолжении еврейского рода?
– Бен! Габби! – раздается в кладбищенской тишине веселый мамин голос. – Нам пора!
Я оглядываюсь; родственники и друзья устало тащатся в сторону ворот, похожие на грузного черного динозавра. В центре я различаю Элис и Дину, смотрящих в нашем направлении; наверное, они укоризненно глядят на это наше своеобразное дезертирство, но о предмете нашего разговора они даже не догадываются. Милли нигде не видно.
– Ты прав, – вдруг соглашается Бен, подходя и кладя руку мне на голову, так что моя кипа небрежно сползает набок. – Это было очень глупо с моей стороны. Надо все это прекратить.
Я киваю и приобнимаю его за плечо. Я чувствую, как главный вопрос моейжизни теряет право на свою.
– А Элис знает? – спрашиваю я, когда мы уже направляемся к выходу.
– Нет, что ты! – несколько испуганно отвечает Бен. – То есть она заметила, что в последнее время у нас все не так, как раньше, но об этом – нет. Думаю, если бы она узнала про мой роман на стороне, ее бы тут же как ветром сдуло.
Тоже верно.
20
Если говорить о принуждении в сексуальных отношениях, то надо признать, что в той или иной мере всепринуждали кого-то вступить в половую связь. К счастью, лишь немногие используют для этого физическое давление; но, к несчастью, все мы используем для этого психологическое давление. Мой любимый способ – это сказать: «Ладно. Будь по-твоему. Нет, серьезно. Если ты не хочешь этим заниматься, мы не будем этим заниматься», затем отвернуться, не пожелав спокойной ночи, после чего старательно повздыхать, поцокать языком и подвести черту, несколько раз раздраженно перевернувшись с одного бока на другой; во всех этих действиях должно сквозить: «Вот видишь, я теперь заснуть не могу – а по чьей вине?» Но так не только мужчины поступают. Однажды, когда у нас с Диной все только начиналось, она забежала ко мне, хотя мы не договаривались. Она была возбуждена до предела, даже дышала с трудом (честно); к сожалению, я как раз вытер сперму с пола – в четвертый за сегодня раз – и хотя мог, приложив усилия, заняться мастурбацией и в пятый раз, секс требует куда больше усилий. Я сделал вид, что ничего не хочу. То есть я на самом деле не хотел, но все же решил намекнуть, что все в порядке, просто у меня нет настроения, и дело совсем не в том, что если мы займемся сексом, то моя простата этого не выдержит. Если пересказывать последовательность ее реакций, то она такова: сначала Дина искренне смутилась, потом еще искуснее, чем я, изобразила безразличие, через секунду снова набросилась на меня (я отбил атаку), за этим последовало немного пафоса («Я тебе больше не нравлюсь?») и эмоционального шантажа («Только в следующий раз, когда тебезахочется секса, не надо ни о чем меня просить»), под занавес она пригрозила переспать с первым встречным и ушла.
Хотя сегодня – как, впрочем, и на протяжении последних трех недель – нежелание Дины имеет причины гинекологического свойства, я оказываюсь в весьма сложном положении. На самом деле подобные женские проблемы – это лакмусовая бумажка отношений; одно упоминание о них непременно означает, что сейчас тебе будут лезть в душу с дотошностью таможенника. Если помните, в свое время, чтобы проверить, работает ли телефон – или просто спастись от одиночества ночью, – вы могли набрать «175» и последние четыре цифры вашего номера; тогда записанный на пленку женский голос говорил: «Начинаем проверку. Начинаем проверку». Именно этот голос всплывает в моей голове каждый раз, когда Дина заговаривает о своих болях в матке.
Я пыталсяне превращаться в обиженного ребенка, причем я бы вряд ли так старался, если бы Дина иначе объяснила продолжающееся воздержание; я совершенно искренне пыталсяуспокоить ее и с сочувствием слушать рассказы обо всех страхах касательно бесплодия и воспалений; но – и это весьма значительное «но» – это все происходит (я уже говорил об этом?) три недели.
– Ладно, – говорю я, соскальзывая с ее живота. – Будь по-твоему. Нет, серьезно. Если ты не хочешь этим заниматься, мы не будем этим заниматься.
Повисает тишина, изредка прерываемая цоканьем языка и вздохами, доносящимися с моей стороны кровати. Я чувствую теплое прикосновение руки к своей нахально отвернувшейся спине.
– Габриель, прости, – говорит она, глядя, как мне кажется, в потолок. – Я понимаю, что уже много времени прошло. Но меня до сих пор мучают ужасные боли в матке.
– Проехали, – бормочу я, будто в полудреме, мне уже настолько все равно.
– Не притворяйся, что спишь.
– Я не притворяюсь.
Теперь ее очередь цокать языком и вздыхать.
– Я могу сделать тебе минет, если хочешь… – предлагает она.
– Проехали, – тут же отвечаю я, хотя и запоминаю это предложение.
– Просто… внутри больно будет.
– Я же сказал, проехали.
Какая-то часть меня требует в этот момент сравнений с Майлзом Траверси, но это худшая моя часть.
– О чем вы с Беном разговаривали на похоронах? Когда ушли от остальных?
– Что, тебе прямо сейчас рассказать?
– Да. А что в этом такого? Или ты со мной больше не разговариваешь, раз я отказалась заниматься с тобой сексом из-за того, что мне больно?
Начинаем проверку. Начинаем проверку.
– Нет, – поворачиваюсь я. – Из-за того, что сейчас два часа ночи.
– И что? Минуту назад ты был готов не спать еще по крайней мере… – она делает паузу, – минуты три.
– Ха. Ха. Ха.
– И с каких это пор ты считаешь, что два часа ночи – это поздно?
– Тебе на работу завтра.
– Это тоже тебя, кажется, еще минуту назад не волновало.
Я знаю, что проиграл. Подмышкой едва касаюсь ее груди, дотягиваясь до прикроватной лампы, чтобы включить ее.
– О чем ты спрашивала? – моргаю я.
– О чем вы с Беном разговаривали на похоронах?
– Это ж было два дня назад!
– Ну, я только сейчас вспомнила.
А вот я не забывал. Я размышлял об этом долго и мучительно. В некотором смысле, я снова стал зацикливаться на Элис, на ее лице, ее теле, только теперь я сам оказывался в кадре, тогда как раньше ограничивался ролью оператора. Почему в некотором смысле? Потому что, хотя моей симпатии к Дине и пришлось нелегко в первые минуты после признания Бена, сейчас, когда я немного отошел от потрясения, симпатия поднялась, отряхнулась и теперь по привычке устраивается поудобнее в моей голове, скрываясь между строк. Но после разговора с Беном я задумался даже не столько об Элис, сколько о самом Бене. Всем известно, что даже самые нежные объятия иногда не в силах удержать от измены. В конце концов, страсть живет новизной, открытиями и откровениями; но алмазный рудник истощается так же быстро, как и медный. Я не думаю, что в данном случае дело было именно в этом, хотя я, в общем, именно в этом и обвинил Бена у могилы Брайана Гранмерси. Похоже, причина в том, как устроены его мозги, в его манере выбирать женщин, отмечая галочкой все их особенности, словно анкету заполняя. Я всегда подозревал, что он не искал совершенства; возможно, Бен искал совсем другого – недостатков, чтобы с полным правом можно было продолжать поиски. А когда появилась Элис – само совершенство, – ему пришлось остановиться; а потом он вдруг понял, что есть один признак, по которому она не подходит, что она не обладает одним важным достоинством – Элис не еврейка. Он уцепился за нееврейство именно потому, что с этим она ничего поделать не сможет.
– Да так, ни о чем, – отвечаю я. – О футболе.
– А об Элис он ничего не говорил? – недоверчиво спрашивает она.
– Нет. А что?
– Она беспокоится. Похоже, этот его сдвиг по еврейской фазе серьезно повлиял на их отношения. И, знаешь, Элис кажется, что ей надо что-то делать с этим…
– Что?
– Ну, не знаю, ходить в синагогу, учить иврит. Откуда мне знать? Но похоже, она считает себя виноватой в том, что не родилась еврейкой.
Я смотрю на изящные, мягкие линии ее лица, светящегося сочувствием, и уже не в первый раз удивляюсь, почему я вообще думаю об Элис. Мне, естественно, очень хочется рассказать ей всю правду, но все же это было бы очень большой ошибкой. Проникаясь альтруизмом, я хочу поберечь чувства брата, которому все расскажет Элис, которой расскажет Дина; проникаясь эгоизмом, хочу, чтобы если Элис обо всем и узнала, то именно от меня, как бы при этом ни пострадали чувства моего брата. Бесцельно блуждая под одеялом, мои пальцы оказываются у ее соска.
– Да, еще мы говорили о Мутти, похоронах, еще о чем-то, – добавляю я для убедительности. – Но об Элис он даже не заикнулся.
– Понятно, – говорит Дина, хватая меня за руку, уже добравшуюся до пупка.
Хватка у нее железная.
– Чего? – не понимаю я.
– Габриель!
– Чего?
– Если ты со мной пять минут поболтал, это еще не значит, что у меня прошли боли в матке.
Я убираю руку и отодвигаюсь чуть дальше на свою половину кровати, хотя без прежней озлобленности и не отворачиваясь.
– А что говорит гинеколог?
Она отводит взгляд.
– Он говорит, что мне нужно сделать УЗИ. Это единственный способ узнать, действительно ли у меня проблемы. Но я не записалась на прием.
– Почему?
– Потому что я боюсь.
Ножом по сердцу. Я пытаюсь погладить ее по щеке, она прижимается лицом к моей руке. Решительным жестом заталкиваю все мои буйные фантазии об Элис обратно в ящик с надписью «Не вскрывать», снова готовый любить Дину. Я почти всегда так делаю, когда она позволяет себе быть ранимой – а это стало происходить все чаще с тех пор, как она поверила в то, что я совершенно искренен в своей ранимости. Возможно, это банальность, но, помня ее прежнюю раздраженность, я все сильнее и сильнее ее люблю; лишившись защитного панциря, Дина как никогда нуждается в том, чтобы ее чем-нибудь укутали.
– Лучше уж знать, – говорю я.
– Да…
Ее брови приподнимаются, придавая ей горестный, немного жалостный вид, мне даже становится трудно дышать. Я уже знаю, что Динины способности по части приподнимания бровей совсем не ограничиваются попытками подчеркнуть иронию. Они могут выражать заинтересованность, беспокойство, изумление и многое другое; смотреть на ее брови – все равно, что смотреть на соревнования по синхронному плаванию. Красота ее лица заключается по большей части в его непостоянстве, в его готовности оказаться на мгновение безобразным; эта красота словно противопоставляет себя красоте Элис, чье лицо постоянно красиво, но это постоянство похоже на стагнацию.
Слышно, как за окном кто-то хлопает дверью машины, мужской голос что-то кричит, но что – не разобрать.
– Ты сходишь со мной? – просит она.
И тоном, и взглядом она похожа на человека, который слишком молод для таких проблем.
– На УЗИ?..
– Да.
А теперь я боюсь: восемьдесят процентов моих мыслей пытаются справиться с дурными вестями, а остальные двадцать отправляются в запретную зону женского начала.
– Я же сходила с тобой на сеанс гипнотерапии, – говорит она, чувствуя мое смятение.
А тебе не кажется, что это немного разные вещи? Во-первых, мы ходили к твоей подруге, а во-вторых, я не думаю, что тебе пришлось выслушивать при этом какие-то ужасные вести. Нашла с чем сравнивать.
– Ладно, – соглашаюсь я. У меня есть на то свои причины.
Она нежно целует меня в лоб, потом дотягивается до светильника и выключает его.
– Дина… – говорю я после небольшой паузы.
– Да?
– Помнишь, ты что-то говорила насчет минета…
Я сижу в спальне и печатаю статью о Лори Каннингеме, уже пятую в серии «Бутсы с изнанки», когда ко мне врывается Ник. Он хочет меня убить. Конечно, с некоторого времени я уже ко всему готов, но все равно испытываю шок.
– Ублюдок! – орет он, сильно надавливая мне большим пальцем на адамово яблоко, что не составляет для него особого труда, учитывая, что я лежу на лопатках и мои руки прижаты к полу его коленями. – Гребаный урод!
– Что с тобой? – спрашиваю я. Точнее, пытаюсь спросить я.
В моей затуманенной страхом и усиливающейся болью голове возникает вопрос: как некоторые люди получают от подобного сексуальное наслаждение?
– Тебе ведь обязательно надо было от нее избавиться?
Он убирал руки с моей шеи – слава богу. Но убирал лишь для того, чтобы схватить меня за волосы и бить головой об пол – по удару на каждое слово. Представляет угрозу для самого себя или общества.
– От моего единственного настоящего друга на этой земле! Единственного человека, с которым я мог поговорить! И все оттого, что ты увидел в ней угрозу!
Я слишком занят попытками отдышаться – кстати, делать это, когда тебя бьют головой об пол, довольно сложно, – чтобы сосредоточиться на его словах. Судорожно глотаю воздух, но легким лучше не становится. Уже в третий раз за последний месяц мне выпадает случай вблизи рассмотреть ту границу, за которой начинается бессознательное.
– Зачем?! – орет он, поднося мой звенящий от ударов череп к своему лицу.
Кажется, я уже чувствую, как тонкий ручеек крови щекочет затылок. Хотя кто его знает? Вполне возможно, что это лишь первый симптом повреждения мозга.
– Что «зачем»? – удивляюсь я, успевая заметить, что у него странно пахнет изо рта: смесью лимона и требухи.
– Только не притворяйся, будто не знаешь, о чем речь, – с презрением отвечает Ник.
– Я не притворяюсь. Пока я только знаю, что ты на меня напал.
Резким движением он подносит мое лицо еще ближе к своему – уверен, что это забытая было привычка болельщика «Брэдфорда».
– Это ты ее отшил!
– Кого?
– Чего?
– Не чего, а кого. Кого я отшил?
Ник недоверчиво глядит на меня.
– Фрэн! – кричит он.
Он разжимает пальцы, и моя голова падает на пол. Опять.Это начинает меня злить.
– Она плакала, – рассказывает Ник, при этом у него наворачиваются слезы. – Прямо по телефону.
Он шмыгает носом.
– Сказала, что не может больше навещать меня. Не может навещать… – снова направляет он на меня взгляд вылезающих из орбит глаз, – потому что тыздесь.
– Ник, послушай…
– Она сказала, что вся сыпью покрылась от стресса.
Хм. А красивый у меня все-таки стол.
– Слушай, Ник, – объясняю я. – Я понимаю, что мы с Фрэн не очень ладили, но я никогда не запрещал ей навещать тебя.
Он пропускает мои слова мимо ушей.
– Я съезжаю отсюда, – заявляет он.
Я замечаю над его головой какое-то свечение. Может, просто электричество.
– Ну… если… если ты хочешь… – запинаюсь я. К счастью, мои руки прижаты к полу, иначе они бы уже взмыли вверх в победном жесте.
– Да. Думаю, так будет лучше для всех.
– Может, ты и прав.
Ник отпускает меня и встает с достоинством человека, который принимает разумные решения при помощи удушения и ударов чужой головы об пол.
– Естественно, я заплачу все, что должен тебе за аренду.
– Ладно.
Естественно, ни хрена он не заплатит; я от него уже четыре месяца ни пенни не видел. Но я не собираюсь спорить.
Ник зачем-то отряхивается, хотя отряхиваться ему не от чего, поворачивается и идет к двери. Я, все еще лежа на полу – мне вдруг перехотелось вставать, – зову его:
– Ник.
– Да?
– А что, по словам Фрэн, я натворил?
Ник непонимающе хмурится.
– Чего?
– Что в моем поведении ее так расстроило?
Возможно, глупо ждать разумного поведения от человека, который не в ладах с собственным разумом, но все-таки неприятно, что меня кто-то ненавидит, даже если я сам ненавижу этого человека. Достойно презрения, правда? Ник чешет макушку, и его ногти приобретают морковный цвет.
– Она сказала… – напрягается он, пытаясь вспомнить, – она сказала… сказала… что не сможет меня больше навещать, потому что ты грубый, саркастичный, нечуткий, что тебе наплевать на всех, кроме себя самого, и что вы с братом – два сапога пара.
– Можно еще раз?
– Она не сможет меня больше навещать, потому что ты гру…
– Нет, последнюю фразу.
У него – минуту назад пытавшегося меня задушить – вид человека, который действительно желает помочь, но не понимает, чего от него хотят.
– Насчет моего брата, – объясняю я.
– А, понятно. Она так и сказала. Что вы с братом – два сапога пара.
– И все?
Он задумчиво хмурится.
– Насчет брата?.. – вежливо подсказываю я.
– А, нет.
Разум Ника – это информационный центр в духе Кафки; сколько ни пытайся что-то узнать, все равно придешь в никуда. Однако мой разум пресыщен информацией, он отравлен ею.
– Ладно, – заканчиваю я разговор; мне уже не терпится, чтобы он ушел. – Жаль, что ты съезжаешь, конечно, но…
– Да уж. Но я засиделся. Пора двигаться дальше, – высокомерно говорит он.
Слава богу, он хотя бы про это не забыл.
Ник уходит в свою комнату собирать… даже не знаю… что уж там поместится в носовой платок, привязанный к палочке. Я бегу на кухню и хватаю телефонную трубку, даже не обращая внимания, что у меня весь затылок в крови.
– Журнал «За линией».
– Здравствуйте. Я могу поговорить с Беном?
– Он в данный момент разговаривает по другой линии.
– Скажите, что его брат звонит.
– Сейчас попробую.
Голос исчезает, и вместо него я слышу песню «Наш „Сандерленд“ вернулся в Первый дивизион» в исполнении «Кристалл Эйр». Потом раздается щелчок.
– Але, блин.
– Але, блин? Урод, блин.
– Что, прости?
– Урод ты последний, вот что.
– Слушай, Габриель, я бы с удовольствием с тобой еще поболтал, но…
– Это была Фрэн, ведь так?
Он замолкает. Удивительно, но и мой телефон тоже замолкает – наверное, ему тоже не верится.
– Подождите минуту, – говорит он в сторону от трубки. – Ага. Нет, попроси его повисеть пока на линии.
– Бен?
– Извини, тут все пытаются со мной поговорить.
– Я прав, ведь так?
Он тяжело выдыхает.
– Да, – доносится до меня.
– Получается, я ее не знаю…
– Погоди минуту…
Опять щелчок. Я опять слушаю песню о триумфальном возвращении «Сандерленда». Затем:
– Габриель?
Его голос звучит четче – он перешел в кабинет поменьше.
– Ты не мог бы поставить обратно – я как раз хотел послушать куплет про разгром «Бернли»…
Он смеется; ведь шутка – это свидетельство того, что я уже не так зол, как был в начале разговора.
– Почему?
– Что «почему»?
Почему ты променял самую прекрасную женщину в мире на самую ужасную?
– Почему Фрэн?
– Не знаю. Так получилось.
– Ладно, хорошо. Но как? Я думал, что вы встречались только раз – когда в прокате нам дали не ту кассету…
– Нет, мы потом еще раз встретились.
– Логично.
– Она работает в аптеке в Сент-Джонс-Вуд. Месяца два назад я заехал туда, чтобы купить… кое-что для Элис.
Не знаю, отчего он замолкает. То ли пытался что-то припомнить, то ли просто осекается при упоминании о жене.
– Я не знал, что она там работает. На самом деле, когда я подошел к прилавку, я даже не вспомнил, кто она. Я понимал, что знаю ее откуда-то, но больше ничего. Но она вела себя так…
– Будто вы сто лет знакомы?
– Что-то в этом роде, – с неохотой соглашается он. – Как бы то ни было… Сначала я сообразил, откуда ее знаю, а потом и еще кое-что. Помнишь, как Дина сказала, что Фрэн безобразна, потому что еврейка?
Моя память делает крюк.
– Дина сказала, что лицо у нее еврейское до безобразия. Это не совсем одно и то же.
– Возможно. Я смотрел на нее и вдруг вспомнил про этот эпизод. И он страшно меня разозлил. Почему – одному богу известно. Я подумал: как она посмела? Как Дина посмелатакое сказать?
– И тебе, конечно, показалось, что перед тобой стоит красивая женщина.
Какое-то время он не отвечает.
– Со мной что-то происходило тогда. Она почему-то показалась мне красивой, – тихо говорит он.
Картинка начинает обретать цельность.
– А что это был за день?
– Обычный день, – мнется он.
– Какой день недели?
Опять пауза; Бен понимает, к чему я клоню.
– Ах, ты об этом. Суббота.
– А ты совершенно случайно не из синагоги ехал?
Он вздыхает.
– Ну да. Возможно, я был… в особенном расположении духа.
Мы оба замолкаем. Затем, с ощущением, что самое страшное уже позади, Бен говорит:
– В итоге следующие недели две я довольно часто захаживал в ту аптеку, а потом как-то так получилось, что мы начали встречаться…
– Прямо на заднем дворе синагоги?
– Нет. Да это и было-то несколько раз. У нее дома.
– И все это ради того, чтобы доказать, что еврейство и сексуальная привлекательность совместимы?
Он снова смеется.
– Нет, с этим как раз промашка вышла. Но для меня было важно… все, о чем я говорил на похоронах Мутти.
Я выглядываю в окно. Старушка с тележкой из супермаркета изо всех сил тянет руку, пытаясь не дать отъехать с остановки автобусу номер «31 Б», словно это вопрос жизни и смерти, словно это единственный в мире автобус, который может довезти ее до дома.
– Это она тебе рассказала? – спрашивает он.
– Нет. Ник рассказал.
– Ник?
– Да. Правда, при этом он пытался меня задушить.
– Как это?
– Ну, ты, очевидно, сдержал обещание и порвал с ней…
– Да.
В это небольшое слово он вкладывает весь ужас человека, которому пришлось сказать женщине, которая не воспринимает себя иначе, как объект притеснения, беспомощную и вечно обманываемую мужчинами жертву, что он не желает ее больше видеть.
– А теперь она не желает приходить в эту квартиру. Наверное, сильно страдает.
– Должно быть, ты ей чем-то напоминаешь меня.
– Я уточню: саркастичный, грубый, нечуткий, которому наплевать на всех, кроме себя самого. Похоже, именно это у нас общее. И как она забыла, что мы оба брюнеты?
Стекла в коридоре дрожат – «31 Б» отъезжает с остановки.
– А Нику, получается, было очень неприятно…
– Ну да. Похоже, он уверен, что это все моя вина. В следующий раз можно будет просто натравить его на тебя.
Во мне вдруг просыпается еврейский инстинкт, и я вспоминаю о другой стороне дела.
– Правда, из-за этого он подумывает о том, чтобы съехать. В общем, слава яйцам.
– А куда он собирается?
– Мне все равно.
Но при этих словах у меня сводит живот – я все же не могу полностью снять с себя ответственность за него. В трубке слышно, как открывается дверь, затем – приглушенный голос.
– Ага, понял. Я подойду через минуту, – говорит кому-то Бен. – Слушай, мне пора.
– Ладно…
– Да, кстати! А ты не дописал «Бутсы с изнанки»?
– Нет, пришлось отложить на время. Тяжеловато печатать, когда тебя при этом душат.
– Тоже верно. Ладно, постарайся быстрее.
Он сомневается, прежде чем перейти к совсем нормальному тону разговора.
– Гэйб?
– Чего?
– А ты не думаешь, что Ник может взять на себя труд… – голос его теряется в треске телефонной трубки; этот телефон начинает издавать звуки, которые должна издавать кофеварка.
– Рассказать Элис?
– Да.
Эта мысль не приходила мне в голову. Я сильно сомневаюсь, что в обычных обстоятельствах Ник может где-то пересечься с Элис, но обстоятельства, в которых он оказался, обычными уже не назовешь.
– Не думаю. Я сомневаюсь, что он вообще знает.
– Ты, кажется, говорил…
– Нет, он только знает, что Фрэн не хочет больше сюда приходить и что это как-то связано с тобой. То есть с тем, что мы с тобой похожи.
– Но он может догадаться.
– Не думаю. То есть прежний Ник сразу же догадался бы. Он бы просто предположил, что тут дело в сексе – он про все так думал. Но теперь он слишком запутался.








