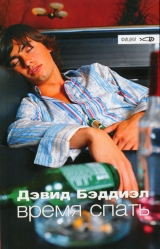
Текст книги "Время спать"
Автор книги: Дэвид Бэддиэл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
– Как бы то ни было, не растекаясь мыслью по древу, скажу, что когда я к тебе пришла, то была более чем уверена, что мы будем встречаться – и все для того, чтобы ее позлить. По-взрослому, правда?
– Я тогда такой решимости не заметил.
– Ну, я не так проста, как ты думаешь. Но я не об этом.
– А о том, что ты начала со мной встречаться, хотя я тебе совершенно не нравился. Так?
– А кто ж тебе-то нравился, когда мы начали встречаться? – громко спрашивает она. – Надо полагать, не я. Человек, похожий на меня при плохом освещении, – это еще не я.
Официантка делает музыку погромче. Звенит дверной колокольчик, и в кафе, подгоняемые холодом, заходят человек пять хиппи – судя по запаху, живут они где придется.
– Но я и не об этом, – уже тише продолжает Дина. – Я о том, что все наши отношения строились на чувствах к Элис. Ты ее любишь, я ее ненавижу.
– Ты не можешь ее ненавидеть, – поражаюсь я.
– Иногда ненавижу. Ненавидела тогда, когда пришла к тебе… И ненавижу сейчас.
«Симпли Ред» умолкают; один из хиппи кашляет, слишком сильно для молодого человека.
– А почему ты не бросила меня сразу же после гипнотического сеанса? – удивляюсь я.
Она пожимает плечами.
– Я привыкла к тому, что мужчинам больше нравится Элис. В свое время я нашла, чем себя утешить. Возможно, я надеялась, что все изменится. Но это… – прикасается она к животу, – это слишком серьезный шаг. Слишком много я знаю.
Похоже, мой выход.
– Слушай, – говорю я. – Ты, возможно, не поверишь, потому что… ну, возможно, потому, что ты и так мне уже не веришь… а еще потому, что у тебя такая заниженная самооценка и ты просто отказываешься верить, когда про тебя говорят хорошее, но, по-моему, все изменилось.
– Конечно, – отвечает она, не глядя в мою сторону и язвительно улыбаясь.
– Ты меня изменила.
– Ой, я тебя умоляю.
– Изменила. Я готов признать, что в моей жизни было время, когда я сходил с ума по твоей сестре. Да, возможно, это имело определенное отношение к тому, что ты мне понравилась. Но причин, по которым люди сходятся, – миллион, и далеко не всегда это достойные причины.
Я снова пытаюсь взять ее руку. На этот раз Дина не возражает.
– Какая разница, с чего все началось? Мы вместе. И я никогда больше не вспомню об Элис.
– Никогда?
– Ну, буду вспоминать все реже и реже.
Судя по ее взгляду, лучше всего было сказать «никогда» и уверенно кивнуть головой, но сейчас я не могу врать.
– Ты любишь меня? – спрашивает она, пронзая меня взглядом. – Только меня.
Она высвобождает руку и показывает на себя:
– Вот эту меня?
Трудный вопрос. Я знаю, что любил ее иногда; еще я знаю, насколько по-идиотски это звучит, но ведь такова любовь, она существует мгновениями. Не думаю, что можно любить постоянно. Мы же любим глотками, мгновениями – нежности, грусти, секса; любовь кроется в плавных очертаниях ягодиц и слез. Я любил ее на прошлой неделе, когда она рассказывала про свой страх перед УЗИ; а еще я любил ее прошлой ночью, когда она заснула на моей груди; есть еще часть меня, которая ее любит прямо сейчас, потому что я понимаю, насколько близок к тому, чтобы ее потерять. Достаточно?
– Да, люблю, – отвечаю я, но в ее черно-белом мире мое смущение воспринимается как «нет».
– Нет, не любишь.
– Люблю.
– Вряд ли, – вздыхает она.
Официантка приносит хиппи капуччино и пирожные; я думаю о том, сколько еще подобных разговоров будет у мужчин и женщин.
– Знаешь, во что ты влюблен, Габриель? В упущенную возможность. И Элис для тебя – это вечно упущенная возможность. Ты умеешь любить только в сослагательном наклонении.
Она встает, положив сигареты и зажигалку в сумку.
– Ты куда?
– В Америку.
– Что, прости?
– Я вернусь обратно в Америку. Мне нужны друзья, кто-нибудь, с кем я могу поговорить. А с кем мне здесь разговаривать? Не с сестрой же.
Мне в голову приходит несколько фраз, все они начинаются со слова «получается»: «Получается, это все…», «Получается, надо прощаться…» и еще одна, не совсем с «получается» – «Не уходи. Пожалуйста, не уходи. Скажи, что останешься навсегда». Но это избитые, потертые фразы, а я слишком устал, чтобы придумать что-то новое. И где-то внутри я доволен тем, что она хотя бы не расскажет Элис: моя тайна надежно укрыта ее горечью.
– А как же…
– У меня на Манхэттене есть знакомый гинеколог, которому можно доверять. Он обо всем позаботится.
От ее банальности мне почему-то становится грустно.
– Ну, Габриель, – говорит она, – не надо так. Если бы ребенок пошел в тебя, он бы страдал от лишнего веса и бессонницы, а если бы пошел в меня, то был бы… даже не знаю…
– Красивым, – рискую я.
Да, эта фраза – словно из кино, но ведь я серьезно, абсолютно, черт побери, серьезно; хотя ее глаза и увлажняются, она мотает головой, а по лицу становится понятно, что зря я это сказал.
– Нет, – отвечает она. – Я сомневаюсь, что на генетическом уровне можно унаследовать что-то от тетушки.
– А как же Майлз?
– Он мертв.
– Но ведь тебе придется столкнуться со всякими последствиями.
Она улыбается.
– Габриель, погибло несколько человек. В Америке.Там уже давно об этом забыли.
Я смотрю на Дину, уже готовую идти; похоже, она все решила. Она тянется ко мне, чтобы поцеловать в щеку, я тоже целую ее в щеку. Обычно поцелуй в щеку понимается как знак завершения отношений, когда губы уже под запретом, но именно в щеку я и хочу ее поцеловать, хочу прикоснуться своей кожей к ее, чуть повернуть голову и почувствовать, как наши щеки сливаются в единое целое, и тут же заглотнуть – словно пловец, ныряющий под риф, – только не воздуха, а ощущения, памяти о ее коже. Дина тоже прижимается ко мне щекой, и на мгновение исчезает и кафе «Хангер», и Чалк-Фарм-роуд, и Лондон – весь мир исчезает, остается только ее кожа; когда я открываю глаза, то вижу, как она уходит – с лязгом открывающаяся дверь выпускает ее на улицу.
В какой-то момент у меня возникает желание догнать Дину, но как только закрывается дверь кафе, раздается скрип другой двери, едва приоткрывающейся, и я уже слышу гудение толпы возможностей и вариантов. Хотя какая-то часть меня – та, о которой я уже говорил, – хочет рыдать, и рыдать безутешно, другая часть меня уже подумывает о том, как много интересного я узнал о Бене и Элис, о той свободе действий, которая у меня теперь появилась. Поэтому я не пытаюсь догнать ее, а заказываю еще кофе и продолжаю сидеть, забывая обо всем, что говорил несколько минут назад; разрываюсь на части, противоречивый, как поцелуй насильника.
23
– Давай спросим у мамы. Айрин! А что у нас на обед?
– «Крошка Стю», дорогой. Целая кастрюля!
– Чудесно. Я прямо жду не дождусь.
– А подождать придется!
Это дом моего отца? В пятницу вечером на Салмон-стрит, 22, царит совершенно чуждая этому месту атмосфера домашнего уюта и буржуазной безмятежности. Будто в рекламе оказался.
– Что происходит? – интересуюсь я.
Я спрашиваю достаточно тихо, чтобы меня не было слышно, и отец мог так же тихо все объяснить, но он безучастно смотрит на меня, будто пункт о приветливом общении с мамой не былвычеркнут из брачного договора.
– Желаешь выпить, Габриель? – спрашивает он, подождав, пока мой вопрос растает в воздухе.
– Я бы не возражал, – отвечаю я, мысленно вздрагивая и убеждая себя в том, что в моем ответе подразумевалась ирония, просто я был слишком удивлен его поведением.
Отец отходит к совершенно ужасному застекленному шкафчику годов семидесятых, хотя кажется, будто он стоит здесь еще с пятидесятых, и берется за позолоченную ручку.
– Виски? Джин с тоником? Водка? Вино? В холодильнике еще лимонад есть…
– Вина, пожалуй.
– Красного или белого?
– Красного, – с подозрением отвечаю я.
Он достает бутылку и бокал из синего дымчатого стекла. В этот самый момент в комнату входит мама в переднике, на котором изображена центральная часть «Гинденбурга».
– Привет, бродяга! – говорит она и целует меня в щеку.
По-моему, я мог бы приехать и весь день бегать за ней по дому, как спаниель, но она все равно бы сказала это так, будто я уже целую вечность ее не навещал.
– Что у тебя новенького? – спрашивает она.
– Практически ничего.
– Ой, да ладно тебе. Я слышала, что твоя колонка в журнале Бена имеет большой успех.
– Да, – вторит отец, протягивая мне бокал, – похоже, Бену нравится, как у тебя выходит.
Что здесь творится? Отец не ругается – это уже настораживает, но он еще и проявляет отеческую заинтересованность в делах сына, а это и вовсе страшно.
– А Тина? Как она поживает?
– Дорогой, ее зовут Дина…
Глаза отца сверкнули яростью, так что еще не все потеряно.
– Я уверен, что ты говорила мне про Тину, – объясняет он, не теряя самообладания.
– Вечно он все путает, – со смехом говорит мне мама.
Я отчетливо слышу звук закипающей крови.
– Она вернулась в Америку, – отвечаю я.
Маму это явно расстроило.
– Правда? Может, она так, отдохнуть?
– Вряд ли.
Повисает молчание.
– Понятно, – говорит мама, и мне даже на мгновение кажется, что она сейчас расплачется.
Я стал замечать, что после смерти Мутти мембрана, разделяющая маму и реальность, растянулась и стала пористой. Если она порвется, то у мамы точно случится нервный срыв; может, именно поэтому отец изменился…
– Да ладно, – вступает отец. – Баба с возу – кобыле легче.
Я ушам своим не верю – что он несет? – но потом вспоминаю, что он только начал нормально разговаривать. Наверное, ему придется сначала воспринять все языковые штампы, эти дурацкие наросты на языке, прежде чем он найдет оригинальный способ самовыражения. Жаль: ведь когда он сквернословил, в оригинальности ему было не отказать.
– Не думаю, что Элис в восторге от этого… – вздыхает мама, взяв себя в руки.
– Да, не в восторге. Бен думает, она как раз начала ценить то, что сестра рядом, в Лондоне.
– Ну да ладно, – говорит отец, подходя к жене, приобнимая ееи наливая вина ей в бокал. – Я предлагаю тост. За Габриеля. И его удачи на личном фронте.
– Да пошел ты, – отвечаю я.
– Габриель! – громко, по-отечески строго отчитывает он меня. – Не смей такого говорить при матери!
Отец засовывает винную пробку обратно в горлышко; мама оборачивается, благодарно ему улыбаясь, будто только что осуществилась ее заветная мечта.
– Я думаю, это чудесный тост, – мягко настаивает она, поднимая бокал. – За Габриеля. И его удачи на личном фронте…
– За Габриеля. И его удачи на личном фронте.
– За меня. И мои удачи на личном фронте.
Я сильно сомневаюсь, что в эту фразу можно вложить еще больше сарказма. Чокаюсь с ними, стараясь, чтобы звон бокалов вышел как можно более резким, звуча в унисон с моим настроением, и подношу бокал к губам. Я взбешен, словно маленький ребенок, и даже не замечаю, как вино проскальзывает внутрь; но послевкусие такое-такое… дубово-маслянисто-перечно-выдержанное – я в шоке.
– Получается, это тоже пойдет вместе со всеми остальными вещами? – спрашивает отец, дергая мамин передник.
– Знаешь, я как раз хотела с тобой поговорить об этом.
Не теряя ни секунды, я отпиваю еще – точнее, даже отхлебываю. Господи! Это же совершенно особый напиток. Знаете, во всех статьях о винах обычно только и разговоров, что о богатой и бедной палитре вкусов. Так вот у этого вина богатейшая палитра. Оно будто обретает объем во рту. Это вкус, обретающий форму совершенства. Я нашел его! Я его нашел!
– Я уже не уверена, что хочу продать коллекцию целиком… – объясняет мама.
– ЧЕГО?!
Резко повысив голос до прежней громкости, отец возвращает меня на землю.
– Не начинай, Стюарт.
– Совсем сдурела? Ты что, не слышала, как он предлагал нам за все про все восемьдесят тысяч?
– Как он предлагал мнеза все про все восемьдесят тысяч.
– Черт с ним, ты понимаешь, о чем я.
Это уже чуть тише.
– А ядумаю, что он занизил цену. Подумай, одна шляпа капитана Леманна должна потянуть тысячи на три. А папина модель… Мне просто кажется, что, возможно, стоит немного подождать.
– Вот не надо. Я ж тебя знаю. Ты просто нашла отговорку. Ты никогда ее не продашь.
– Папа…
– ЧЕГО?!
– Где ты купил это вино?
– ДА НЕ ЗНАЮ Я НИ ХРЕНА НИ ПРО КАКОЕ ВИНО!!!
– Ладно, можно я хотя бы взгляну на эт…
– Ты ж все это подстроила, а?
Он подходит к маме вплотную.
– Ты махала у меня перед носом картинкой, где был нарисован настоящий рай – обосраться можно: дом без этого гребаного «Гинденбурга» и восемьдесят тысяч на счете в банке. А теперь эту картинку вдруг убираешь.
Он смотрит в сторону, через силу вдыхает и выдыхает.
– Я знаю, почему ты так сделала. Потому что мне было все равно. Я и так был на самом дне. Вот ты и решила меня чуть приподнять, а потом снова бросить – и все для того, чтобы мое движение вниз продолжалось.
Мама закрыла глаза, ее немного трясет, руки сложены на надписи «LZ-129». Кажется, отец готовит последний удар.
– «Гинденбург» разбился вдребезги, Айрин. Ты слышишь? Он не был пригоден для полетов. Эта хрень взорвалась и рухнула на землю. БУ-БУ-У-УМ!!!
При этом он разводит ладони в стороны, изображая взрыв.
– Так что, может, хватит прославлять его гребаную память?
Он заходит слишком далеко.
– Пап. Ты не мог бы…
– ДА ПОДАВИСЬ ТЫ СВОЕЙ БУТЫЛКОЙ!!!
Он бросает бутылку в мою сторону слишком неожиданно, чтобы я мог ее поймать, хотя сомневаюсь, что отец хотел использовать ее в качестве снаряда. Просвистев рядом с моей головой, бутылка влетает в стеклянную дверцу шкафа с пятью моделями «Гинденбурга» и всякими мелочами: билетами, паспортом какого-то пассажира, картой с отмеченным маршрутом. Вино струится по дверце, словно кровь этих экспонатов-путешественников.
Осознав, что зашел слишком далеко, отец недовольно вздыхает и выходит из комнаты. Я смотрю в пол ровно столько, сколько требуется для того, чтобы понять: надписи на этикетке уже не разберешь; потом поднимаю глаза на дрожащую мать.
– Поверить не могу, что все дело в деньгах, – говорю я, протягивая ей чашку чая.
Я хотел положить туда побольше сахара, как и положено делать при шоковом состоянии (и, по-моему, не важно, что ставшее причиной этого шока событие произошло пятьдесят девять лет назад; до некоторых новости доходят с большим опозданием), но мама попросила сделать чай как обычно, слабенький и без сахара. Она выжимает тряпку, сливая чуть пенящееся вино в раковину.
– Восемьдесят тысяч фунтов – это большие деньги. Они бы нам пригодились. Не знаю, как долго твой отец продержится в «Амстраде».
– А что так?
Она вытирает руки о передник и берет чашку.
– Он поссорился с Брайаном Голдрингом.
Как ни странно, имя Брайана Голдринга мне знакомо; это непосредственный начальник моего отца.
– Неудивительно…
Мама кивает и делает глоток чая, вытягивая губы задолго до того, как чашка оказывается у ее рта.
– Ах… – довольно выдыхает она. – Но ты прав, конечно: дело не только в деньгах. Когда Мутти умерла, все изменилось.
Она смотрит на меня, словно только что закончила долгий курс лечения.
– Знаешь, Габриель, мне кажется, какая-то часть меня занималась всем этим только ради нее. Лишь для того, чтобы она не подумала, будто я забыла отца.
Хотя голос у нее бодрый, как у телеведущих в дневных программах, в нем едва чувствуется правдивость трагедии. Возможно, мама в первый раз в своей жизни не отвернулась ни от правды, ни от трагедии – я пытаюсь выжать из этого все возможное. Она берет из раковины нож для резки хлеба и принимается рассеянно его натирать.
– Мам?
Она поднимает глаза, чуть испуганно, сама не понимая почему; а все дело в том, что я уже целую вечность не обращался к ней так – не называл ее мамой.
– Ты когда-нибудь помиришься с отцом?
Она моргает, глядя в пустоту.
– Не знаю, Габриель. Честно, не знаю.
Что ж, это уже лучше; в свое время она бы спросила: «А мы разве с ним ссорились?»
– Ты знаешь, каково это, Габриель, – говорит она. – Ты сам недавно потерял человека, который был тебе дорог. Это тяжело. Тебе приходится делать выбор и жить с этим. Пару дней назад я смотрела телевизор, и на экране вдруг появились два слова, которые, пожалуй, лучше всего выразят мою мысль: «Любить больно».
Я пытаюсь найти, что на это ответить.
– А это было не шоу с Адамом Фейтом?
– Оно.
По своему обыкновению я уже готов закончить этот разговор. По дурацкому обыкновению человека, который преодолевает все трудности, опошляя их, подчеркивая их банальность. Но в этот момент я заглядываю маме в глаза и вижу в них отчаяние, отчаяние загнанного в угол зверя; я понимаю, что она дважды была загнана в угол: один раз замужеством, другой раз – высказыванием. Пусть слова старомодны, фальшивы и лишены всякой логики, но этого нельзя сказать о грусти, ярости и ощущении несправедливости. А что она может поделать, если такие фразы сами возникают в ее голове? Представьте себе Йейтса, лишенного поэтического дара, и получится любой из нас. Я слишком много ставил на слова.
– Ты права…
Кладу руку ей на плечо – это самое искреннее мое прикосновение с тех пор, как она перестала кормить меня грудью.
– Любить действительно больно, – договариваю я.
Мама прикасается к моей руке.
– Я так устала, Габриель. Я устала от такой жизни. А твой отец…
Она замолкает.
– Ну, если ему не ужиться с «Гинденбургом»…
Это шутка, но мама смотрит на меня убийственно серьезно. Она обводит взглядом кухню, уставленную мебелью из сосны; новую кухонную мебель подарила Мутти, которой захотелось перед смертью избавиться от всех своих денег. Мамин взгляд случайно останавливается на открытой двери в столовую – вдалеке, не зная стыда, вращается под потолком модель дирижабля, сделанная ее отцом.
– Но ведь он прав? – спрашивает она, не сводя глаз с модели. – «Гинденбург» потерпел крушение.
– Мама!
– Ну потерпел же!
Я вдруг замечаю решимость в ее глазах; если бы я был консультантом, столь резкое улучшение меня бы обеспокоило.
– Разве ты не знал? Погляди!
Она бросает тряпку на пол и быстрым шагом направляется в столовую, держа нож перед собой – настоящий климактерический мститель. У меня недоброе предчувствие, которое только усиливается, когда она задирает передник и забирается на один из четырех стульев, стоящих у стола с уже накрытым ужином. Мама стоит ко мне спиной, я вижу, как ее голова в обрамлении окрашенных в «осенний багрянец» волос слегка покачивается, наблюдая за безразличным кружением огромного раздувшегося жестяного аэростата, похожего на откормленного гуся, которому разрешили в последний раз махнуть крылом.
– Подожди… – бормочу я.
Она оборачивается.
– Вотчто случилось!
Одной рукой мама натягивает веревку, а другой перерезает ее ножом. Быть может, это просто последствие шока, но мне кажется, что цеппелин на мгновение зависает в воздухе, как гнавшийся за Джерри Том на самом краю обрыва, словно Бог сжалился и позволил дирижаблю классическую сцену «И ты, Брут?»; он обрушивается вниз, только не в воды Гудзонова залива, а в огромную кастрюлю «Крошки Стю».
Проходя на кухню, я слегка пригибаюсь, чтобы не получить куском мяса по лицу – меня не учили спасаться от осколочных гранат. Остроконечная задняя часть дирижабля торчит из кастрюли, словно разбухший черпак.
– Он сломан, – констатирую я, поднимая гордость коллекции Айрин Джейкоби и соскребывая с его боков неуместные для дирижабля кусочки тушеного мяса. – Ты уже не сможешь его продать.
Мама смотрит на меня, лицо ее заляпано подливкой, но она улыбается. У меня возникает ощущение, что именно этого она и хотела, она бросила вызов не только отцу, но и мужу; возможно, эта чертова штука и вправду была фаллическим символом.
24
Район Малая Венеция называется так потому, что он очень мало похож на Венецию: в городе каналов нет плавучих домов, там не надо надевать шоры, чтобы не замечать трассу Вестуэй. Лондонской Малой Венеции нельзя верить: в ней встречаются действительно прекрасные места, только не заглядывайте за угол – там может оказаться страшное урбанистическое чудище. Церкви Гринвича граничат с казармами Вулиджа, наводненный молодоженами Финсбери врезается в богемный Хокстон – все это безо всяких приграничных зон. Лондон никогда не дает расслабиться.
Я уже проехал приятную, венецианскую часть Малой Венеции – мне потребовалось секунд пятнадцать (и не забывайте, что из «доломита» больше тридцати километров в час уже не выжать). Теперь тащусь вдоль канала по набережной Деламер-террас, справа вижу воду, лодки – здесь их меньше, чем было в начале набережной, квартал оштукатуренных домов, а слева – громады разрисованных граффити подпорок шоссе А40 (М), под которыми расположились заасфальтированные мини-футбольные площадки и стихийная свалка. Я уже собираюсь остановиться, почувствовав, что если проеду еще чуть-чуть, то могу оказаться в какой-нибудь межгалактической черной дыре, как вижу его, ползущего по палубе крохотного, напоминающего буксир судна небесно-голубого цвета.
– Ник! – кричу я, опуская стекло.
Он отвлекается от своего занятия, похожего на насмешку над мореходами – завязывания толстого каната в сложный до бессмысленности узел, – поднимает голову и машет рукой. Глядя на его синий рабочий комбинезон и фуражку с коротким козырьком, можно подумать, что он – приверженец Мао и Культурной революции.
Я не без труда паркуюсь – кажется, на задний ход у машины просто не осталось сил – там, где набережная плавно переходит в Харроу-роуд. Полсудна скрыто под мостом, но расположение солнца таково, что мост бросает тень на все судно целиком. Спускаюсь к воде. На улице уже лето, так что пахнет канал отвратительно, хотя если вспомнить, что у Ника изо рта пахнет смесью лимона и требухи, то можно догадаться, почему он чувствует себя здесь как дома.
– Привет, – здоровается он, все еще мучаясь с канатом. – Как дела?
– Нормально.
Я мнусь на берегу, сомневаясь, стоит ли запрыгивать на судно.
– Получается, именно здесь…
Он снова поднимает глаза, отрываясь от завязывания узла, и улыбается:
– Ага, «Уандерласт».
– Чего?
Он указывает направление кивком головы. По левому борту, на левом борте – хрен его знает, – в общем, с той стороны, которая ближе к берегу, черной краской написано название судна. Оно, оказывается, называется «Вандерлуст», но Ник решил не обращать внимания на правила чтения в немецком языке.
– Это значит «жажда путешествий», – объясняет он.
Ник выглядит более худым, чем три недели назад, когда съехал; в каком-то смысле он уже не такой безумный, хотя очевидно, что он просто сильнее свыкся со своим безумием.
– Я знаю.
– Название все решило. Именно поэтому я и купил это судно.
Я спокойно киваю головой.
– Ну, что думаешь?
Я думаю: девять тысяч фунтов? По-моему, прежний капитан «Вандерлуста» тебя просто облапошил. Это весьма небольшое судно, с такой высокой деревянной штукой для парусов (я не особенно знаком с морской терминологией, так что извините), а все остальное закрыто брезентом; посередине есть люк, через который можно, наверное, попасть в каюты. Когда Ник позвонил мне неизвестно откуда и сказал, что знает, как поступит – купит лодку, – я понял, что у какого-то нечистого на руку торговца сегодня будет очень хороший день.
– Очень мило, – отвечаю я.
Естественно, меня поразило не то, что Ник собирается купить лодку (мне все равно, собирается ли он купить лодку, сделать операцию по смене пола, открыть сырную фабрику, переехать к принцессе Маргарет), а то, что у него было девять тысяч фунтов. Вы можете себе это представить? Когда вы в следующий раз встанете на светофоре и к вам подойдет человек с ведром и губкой, не теряйтесь: либо остановите его, прежде чем он поднимет дворники, либо пусть моет, но когда зажжется зеленый, давите на педаль газа и уезжайте, прихватив с собой его губку.
– Прошу на борт, – протягивает он руку.
Какое-то мгновение я сомневаюсь, потом хватаюсь за нее; Ник тянет меня, и я отрываюсь от уверенности берега, приземляясь на покачивающуюся палубу. Палуба узкая, и мы стоим лицом к лицу; я начинаю беспокоиться, не будет ли его следующей мыслью выкинуть меня за борт. Но он отводит взгляд и говорит:
– Эта река… Правда, она великолепна?
– Да, великолепна.
– Чувствуешь непрекращающееся движение. Даже если никуда не плывешь.
– Тоже верно.
– Так что нет риска, что останешься на одном месте.
Он убирает руку, а когда вновь поворачивается, я изо всех сил стараюсь сделать вид, будто из его слов открыл много нового.
Ник поднимает крышку люка, отстегивает крючок лестницы, и она скользит вниз (под корму? под срединную часть судна?); хватаясь за лестницу обеими руками, он поворачивается, ставит ногу на третью ступеньку и начинает спускаться – во всех движениях сквозит: «Да, море – это моя стихия». Я осторожно следую за ним, довольный своей ролью сухопутной крысы.
Внизу есть два иллюминатора, по одному с каждой стороны, но непохоже, чтобы они пропускали хоть какой-то свет. В нос ударяет запах бензина, и почему-то мне становится грустно, а потом я понимаю, что этот запах напомнил мне о Дининой зажигалке, причем очень отчетливо – на такое только чувственная память способна; Ник зажигает керосиновую лампу, от нее исходит слабый неровный свет, в котором становятся видны темные очертания стен, но не более того; лампа едва подрагивает у Ника в руках, заставляя тени прыгать, отплясывая на стенах свой странный танец.
– Присаживайся, – говорит он. – За твоей спиной диван.
Верю ему на слово и сажусь на что-то мокрое. Привыкнув к темноте, я понимаю, что каютка совсем маленькая, а мой «диван» – это накрытый туристическим ковриком сундук.
– Он поменьше того, на котором ты раньше сидел… – говорю я.
Он не отвечает; наверное, потому что видит в моей фразе негативное отношение к еще одному изменению в его жизни. Мне не особенно нравится находиться в ситуации, когда я не вижу его глаз; иных способов понять Ника у меня нет.
– А туалет здесь есть?
Он кивает и наклоняется в сторону; оказывается, что на самом деле одна из стен – это дверь. Ник ее со скрипом открывает. Просовывая туда лампу, он освещает самое маленькое помещение не только в этом плавучем доме, но и, возможно, во всем мире; внутри стоит отвратительный биотуалет, и я не успеваю отвести взгляд, не заметив того, что, судя по содержимому, Ник уже раза три-четыре им пользовался. Комнатка настолько крохотная, что ее нужно воспринимать не как туалет, а, скорее, как коробку для биотуалета.
– И как ты от этого избавляешься?
– Недалеко отсюда есть специальное место для всех лодок. Я туда все отвожу.
Мысль о том, что Ник прыгает, разливая дерьмо по берегу, практически невыносима.
– Как Дина? – спрашивает он, не без труда захлопывая дверь в туалет.
– Вернулась в Америку.
– А… – отмахивается он, будто давно знал, что этим все и закончится.
Стоп. Еще не закончилось.
– Знаешь, мне тоже всегда хотелось иметь лодку.
– Правда? – удивляется он.
Судя по голосу, он думает, как жестоко я ошибся, не войдя в число избранных.
– Ты куда-то собираешься сплавать на ней?
Он кашляет. Этот громкий, болезненный кашель идет прямо из груди; возможно, дело в том, что, хотя на улице и тепло, здесь безнадежно сыро.
– Да, – отвечает он, прокашлявшись. – Но надо еще кое-что доделать. Нужно заменить пару деталей в двигателе.
– А, так у него еще и двигатель есть…
– А ты как думал? Но паруса я тоже подниму. И отправлюсь на восток.
– В восточную Англию?
– В Индонезию, – объясняет он, принимаясь кашлять. Опять.
– Вы с Фрэн видитесь?
Повисает тишина, только волны плещутся о борта судна; мне в голову приходит мысль зайти сюда как-нибудь и записать эти звуки на кассету, чтобы потом использовать для релаксации. Голубоватый свет мерцает на его небритой щеке, тени делают многодневную щетину еще гуще.
– Она заходила как-то раз, – говорит Ник. – Но даже не посидела. Она была рада, что у меня появилась лодка, и вообще радовалась, что я оказался подальше от дома. Но сказала, что ей тяжело и она не может со мной видеться. Слишком много неприятных воспоминаний.
– Каких еще воспоминаний?
Он подносит лампу поближе к лицу, и я вижу, как в его глазах пляшут огоньки – отражение огня лампы.
– Ну… воспоминаний. О том времени.
– Я думал, это было чудесное для вас время. Вы же столько всего нового узнавали о себе.
– Да, а потом ты положил этому конец.
– Яэтого не делал.
– А кто тогда?
Презрительно фыркнув, я спрашиваю:
– А Фрэн о Бене ничего не говорила?
Он хмурит брови: такие обычные мыслительные процессы, как попытки вспомнить, о чем шел разговор в тот раз, даются, должно быть, нелегко, когда у тебя в голове гудит.
– Не думаю. А что?
– Помнишь, она о нем упоминала в том телефонном разговоре…
– Да…
– Не знаю. Просто меня беспокоит….
– Что? – с интересом спрашивает он, заглотив наживку.
– Не сказал ли он ей чего-нибудь такого, что заставило ее уйти.
Я на мгновение выглядываю из-за своей маски напряженных раздумий.
– Я все это тебе говорю для того, чтобы ты не думал, будто это я пытался вас разлучить.
Даже в этом полумраке вижу, что Ник мне верит. Страдающим психозами людям свойственно полагать, что мир вертится вокруг них.
– Ясно, – говорит он. – Но Фрэн – сильная женщина. Ее бы никогда не отпугнули слова Бена, что бы он ни говорил.
Я киваю, отдавая ему инициативу. Подсказки и намеки сами возникают.
– Если только… – задумывается он.
– Что?
– Если только между ними ничего не было.
Старый добрый Ник. ПрежнийНик. Он все еще где-то там, вынюхивает секс, как собака в парке.
– Вряд ли. Разве она стала бы от тебя скрывать?
Прежний Ник вступает в схватку с теперешним.
– Ну… да. То есть я бы хотел думать, что не стала бы. Мы были так близки. Но теперь я склонен полагать…
– Все равно не верю. Ну зачем Бену изменять Элис?
– Элис – это не Фрэн, – решительно говорит он.
– Я Знаю.
– Не думаю, что ты поймешь, но Фрэн… у Фрэн есть внутренняя красота, и если ее увидеть, то поверхностная внешняя красота уже с этим не сравнится.
Для него становится важным – нечто похожее произошло с Беном – утвердить привлекательность Фрэн как личности.
Судно дает небольшой крен, и, проскользив по полу, мне в ногу врезается нечто тяжелое и остроконечное. Я наклоняюсь и поднимаю рулевое колесо, классическое – как в фильмах про пиратов.
– А оно не должно быть приделано к чему-нибудь? – интересуюсь я.
– Это не родной штурвал, – объясняет он. – Я купил его в антикварном магазине на Эджвер-роуд. Надо будет разобраться, как оно присоединяется.
Я ставлю колесо себе на колени.
– Она была так расстроена, – лицо Ника становится жестче. – Наверное, он повел себя как последний подонок.
– Начнем с того, что ему вообще не стоило завязывать с ней отношения.
Мысль его шагает широко, и он не замечает моего резкого перехода от сомнений к уверенности.
– Ни в коем случае, – соглашается он.
Ник опускает лампу, но мне уже нет необходимости видеть его глаза – цель моя уже достигнута. Это было нетрудно – человеку, возомнившему себя Мессией, необходимо предназначение. Сидя в темноте, я верчу рулевое колесо и подумываю, не будет ли лишним напомнить ему адрес Бена и Элис.








