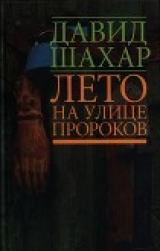
Текст книги "Лето на улице Пророков"
Автор книги: Давид Шахар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Раздражение его нарастало и крепчало с каждой фразой, слетавшей с его уст, и когда процессия достигла кладбища, глаза его за стеклами пенсне уже туманились бессильным гневом на госпожу Луриа. Ведь пока она еще пребывала в своем доме, у него оставалась надежда на то, что если удастся ему, несмотря на все трудности, прорваться через один из наглухо заколоченных входов, то он наконец доберется до нее, но с того момента, как она, хорошенько все обдумав, исчезла навсегда, иссякла и надежда аптекаря до нее добраться. И если бы речам его даже удалось расчистить эти заросшие уши и настежь распахнуть все входы оставшегося пустым тела, хозяйка дома уже не виднелась за потухшими глазами и голос ее не слышался за завесами заросших ушей, и в то самое время, когда он брел рядом с ее покинутым домом, возвращающимся к камням и праху, из коих был взят, адрес ее был для него недоступней, чем адрес ее сына Гавриэля, утаенный от него, хоть детская тайна сына и осталась ей неведома, а к известным ей деталям этой истории отнеслась она как к озорству, с расстояния тридцати лет заслуживающему лишь снисходительной улыбки.
Что до меня, то я не знаю, заслуживают ли они снисходительной улыбки, поскольку дошли до меня из уст аптекаря, а не от нее, да еще и в то время, когда глаза его были затуманены бессильным гневом на ее исчезновение. Я не знаю не только чего они заслуживают, но даже и того, как их воспринимал он сам, по крайней мере однажды бывший им свидетелем. Но с тех пор как они сорвались с его уст, словно древние глиняные черепки, пробуждающие глухим стуком память об ином бытии, существующем за пределами приходящего с рождением забвения, я не мог уже больше видеть новолуния без того, чтобы не обновился во мне образ отрока Гавриэля, который по достижении тринадцати лет принял ярмо заповедей и потому спустился со своей голубкой в долину Кедрона, но не в новолуние, а в день полной луны.
Когда он лег в постель, темная комната наполнилась томлением, настежь распахнутое на восток окно начало светлеть от подоконника вверх, и крылья его голубки, порхавшей снаружи, били по лунным струнам, пока не упала она искрой с высоты и не опустилась на подоконник, став силуэтом на фоне лунного диска, всплывавшего снизу, чтобы послужить ей золотистым нимбом. Он встает на ее зов, одевается и выходит за нею на улицу, к луне, осыпающей свое червонное золото в туманы Моабитских гор и становящейся все круглее, все серебристее по мере подъема. Нога его не преткнулась о камень и голова не сорвалась в пропасть у основания стены, по гребню которой спешил он от Башни Давида к долине Иосафата над Геенной, над Цитаделью, над руслом Гихона, над потоком Кедроном, и никакое зло с ним не приключилось и не должно было настигнуть его, пока не пострадала душа его, связанная воедино с жизнью голубки и бьющаяся меж ее крыльев. Когда однажды камень из рогатки ранил ее крыло, он слег в постель и не поправился прежде, чем не зажило крыло.
Он знал, что с ее смертью иссякнет душа его, и потому только за голубку, летевшую перед ним, волновался на всем протяжении этого бега над древними пропастями, пока спускался у Цитадели, и миновал ее, и повернул ко дну русла и поднялся по Кедрону, и прошел между могилой Захарии и гробницей Авессалома, и достиг каменной площадки, на которую не поднимали железа[29]. Голубка опустилась на вершину скалы, повинуясь пульсирующей в ней незримой линии, тянущейся от потока Кедрона, через долину Иосафата, к точке, где восточный склон Подзорной горы встречается с западным откосом горы Масличной. Он же лег на живот, вытянув руки и ноги по линии, соединявшей голубку и луну. Древняя, просторная, благовонная и радушная тишина наполнилась в равнодушной лунной стуже дрожью лунных струн с ускоряющимся трепетом нарастающей жажды в мучительном влечении земли к земле. Пока не открылся канал сфирот[30] и поток благодати не хлынул по нему к дыханию луны, вдыхающей красноту холмов и выдыхающей лиловое серебро свое, при свете которого он поднялся и держа голубку свою, бьющуюся и клекочущую над жертвенником, простер руку свою и заколол ее. И овен не запутался в чаще рогами своими, и кровь ее хлынула и пролилась на жертвенник, не покрытый дровами для костра[31]. По углам жертвенника капля за каплей стекала синяя в лунном свете кровь, и огонь не объял трепещущее тело, дабы донести до ноздрей Бога благоухание, что будет угодно ему и станет во искупление души приношением души, иссякшей с жертвою и не простившей ему.
– Никогда себе не прощу, что не смог добиться от нее адреса Гавриэля, – сказал аптекарь, когда мы возвращались с похорон хозяйки нашего дома, и снял с носа пенсне, чтобы протереть его от испарений собственного гнева.
Как и в прошлом, во время учебы во Франции, так и сейчас, после того, как Гавриэль вернулся и исчез, мать никому не открывала его местонахождение, и потому не нашлось никого, кто бы знал, откуда вызвать его, когда настало время похорон. Без линз глаза аптекаря выглядели глубоко запавшими в глазницах и оттуда беспомощно взирающими на чуждый им мир.
– Теперь уж у меня не будет иного выбора, – сказал он, возвращая пенсне на его постоянное место, четко обозначенное красным, огибающим переносицу желобком, с тем же сосредоточенно-мыслящим, боевито-решительным и сморщенно-презрительным выражением лица, с которым переносил лекарства из секции в секцию, – иного выбора, как попытаться изучать Пятикнижие в университете. Кто знает, может, они там понимают законы жертвоприношений получше, чем наш ребе, который обучал нас в детстве Пятикнижию с комментариями Раши… Ведь я уже не мальчонка, и в моем возрасте настало время относиться к вещам серьезно и основательно.
Как раз в этом последнем пункте я с ним согласился. Однако должного душевного покоя в своих занятиях Пятикнижием на Подзорной горе[32] не обрел сей дипломированный аптекарь, который с тех пор, как снял свой длинный белый халат и для всего мира стало очевидным, что повыше выпуклых голубовато-белесых коленок у него все-таки имеются штаны, выглядел более или менее приличным человеком, ибо в те дни многие, и отнюдь не худшие, люди имели обыкновение носить короткие штанишки. Тот бессильный гнев, что охватил его впервые на похоронах домовладелицы и казался связанным, выражаясь спокойно и рассудительно, с известной переменой ее адреса, по всей видимости, должен был пройти с привыканием аптекаря к данной перемене, гнев этот не только не утих, но все усиливался по мере того, как росло количество прослушанных им на Подзорной горе лекций по Пятикнижию и обсуждений оных с педагогами и сокурсниками. На самом деле он уже не способен был выражать свои соображения вслух, и не только касательно скинии с ее принадлежностями, ковчега Завета и жертвоприношений, но и по всякому иному вопросу, не крича и не размахивая в пространстве руками, словно тонущий в пучине вод, вотще ищущий, за что бы уцепиться. Его голос, некогда бывший чистым, громким и благозвучным (по крайней мере для моего уха, по сей день чуткого к той мягкой мелодике, что характерна для давних уроженцев страны, начавших говорить на иврите еще в турецкие времена), охрип от постоянных криков и, словно струя в частично засоренной трубе, вырывался – иногда высокий и тонкий, иногда шепчущий с клокотанием и кудахтаньем, и одного этого голоса было уже достаточно, чтобы не только отпугнуть педагогов, которых аптекарь оскорблял на людях, но и резать уши всякому, кто не был заведомо глух. Даже я несколько раз ускользал от него на улице, притворяясь настолько озабоченным своими важными, не терпящими ни малейшего отлагательства делами, что не замечал встречных. Больше всего злило его в этом высшем учебном заведении, угрожая окончательно лишить голоса, то сходство, которое он, к несчастью, обнаружил между своим деятельным и сеющим знания в массах профессором и нашей почивающей в раю домовладелицей.
– Ужасающее сходство между ними, – говаривал он, – в один прекрасный день еще сведет меня с ума.
Подобно ей, профессор сей полагал, что все аспекты священства, скинии, ковчега Завета и различных жертвоприношений суть ребячества, которые с расстояния в три тысячи лет заслуживают лишь снисходительной улыбки. Но то, что простительно простой женщине безо всяких претензий, непростительно ему, увенчанному степенями и званиями и взявшемуся сеять знания и толковать Тору от имени беспристрастной науки. Из его слов я также понял, что по поводу беспристрастной науки между ним и профессором вспыхнул яростный спор. По его мнению, профессор пользовался недостаточно научными методами, и это мнение, которого он ничуть не старался скрыть от оппонента, ранило профессора Пятикнижия в самое сердце и привело его к принятию решения избавиться от студента-аптекаря во что бы то ни стало.
Какую форму приняло окончание аптекарем его занятий на Подзорной горе, я в то время не знал, ибо оно пришлось как раз на тот период, когда я его избегал, но из того, что он рассказал мне впоследствии, при нашей последней встрече в кафе «Атара», я понял, что эти двое вместо выпускного вечера предприняли совместное путешествие в биологическую лабораторию, куда прибыли, обнявшись и прилепившись друг к другу, под торжествующие клики всех студентов и ликующее ржание студенток. Сама биологическая лаборатория никак не была связана с изгнанием аптекаря из университета, решение о котором было принято еще раньше, чем они туда прибыли, и оказалась замешанной в эту историю исключительно благодаря аптекарю, воспользовавшемуся лабораторией лишь в качестве примера связи между наукой и Пятикнижием. Тот, кто собирается исследовать теорию жертвоприношений подлинно научными методами, обязан произвести многочисленные и предельно точные эксперименты, – постоянно заявлял он своему профессору, всем студентам и вообще каждому, кто готов был его слушать.
На одном из занятий он высказал мнение, что университет должен построить скинию и ковчег Завета со всеми принадлежностями и деталями, и там профессор со своими ассистентами и студентами послужит святому делу, принося жертвы в полном и буквальном соответствии со всеми законами, и только после множества точных экспериментов у нас будет право высказать хоть сколько-нибудь обоснованное мнение, обладающее научной ценностью, относительно силы священнодействия, описанного в Торе, вселить в нашу среду Бога Израиля, чтобы снова стать ему народом, и тогда он вновь откроется нам и миру в чудесах своих и дивных деяниях, в знамениях и во всем величии славы своей.
По мере произнесения сих слов хрипота его смягчалась и таяла, и чем более различал он на лице профессора признаки согласия со своими словами, тем увереннее возвращалась к его голосу былая приятная мелодика прежних дней. Профессор не только согласно кивал головою, но излучал такое победное ликование, словно добыл огромные трофеи. Он уже давно только и мечтал о подходящем случае, чтобы устранить аптекаря со своих занятий, и теперь, когда прекрасный момент наступал, окончательно решил его не упускать. Наслаждаясь элегантной и одновременно шутливой формой, в которой он собирался избавиться от этого божеского наказания, профессор поднялся и торжественно объявил, что у него нет ни малейших возражений против методов его коллег-биологов и, более того, он питает к ним глубокое уважение, смешанное с преклонением перед силой их дерзновенного духа. Только однажды он осмелился зайти в биологическую лабораторию, и, когда собственным глазами узрел, как препарируют и свежуют там жабу, на него напала такая слабость, что он не мог прийти в себя, пока не принял валериановых капель. Чудо еще, что в тот момент они не занимались жертвоприношениями, закланием вола и кроплением лаборатории кровью его, ибо тогда не помогли бы и валериановые капли. А теперь, поскольку учащийся, уважаемый доктор Блюм, изъявил желание приносить жертвы экспериментальным путем, а жертвы, как известно всякому, кто извлек полезный урок из его собственных лекций, приносятся из представителей животного мира, точнее – всего из пяти видов: из быков, из баранов, из коз, из горлиц и из голубей, а животный мир, как известно, всецело принадлежит, со всеми видами и подвидами, включая пять вышеупомянутых видов, к разделу биологии, где трудятся с достойной восхищения отвагой его друзья-биологи, то доктору Блюму следует перейти на биологический факультет немедленно и без лишних разговоров, прямо сейчас. И пусть доктор Блюм отныне и впредь не смеет показываться в этом зале.
Аптекарь, обычно быстро соображающий, сначала не понял, на что намекают сии слова, настолько был он взбудоражен и потрясен ошибочным впечатлением, полученным еще в то время, как сам держал речь: что вот наконец ему удалось прочистить уши профессора Пятикнижия, глухие не менее, чем уши домовладелицы, почивающей ныне в раю. Он даже с восторгом воспринял идею привлечения других факультетов к великому эксперименту. Только когда все учащиеся разразились смехом, он понял смысл своего положения на отделении Священного Писания, и тогда постиг его приступ гнева, равного которому не испытывал он даже на похоронах почивающей ныне в раю домовладелицы, и гнев его придал элегантному дебюту резкое завершение, хотя все, что касалось общественных увеселений, от него нимало не пострадало, обретя новый, неожиданный оттенок.
– Всем сказанным, – произнес аптекарь пронзительным фальцетом, срывавшимся на предвещавший недоброе храп. Было ясно, что еще немного – и самому ему понадобятся пресловутые валериановые капли, которые были упомянуты в педагогической проповеди, – вы только подтверждаете мое утверждение, что у вас нет ни малейшего представления о научных методах. Вы самолично признаетесь, что за всю жизнь только один-единственный раз зашли в лабораторию! Поэтому вам следует сделать единственно возможный логический вывод: это не я, а вы должны отправиться отсюда в биологическую лабораторию! Я… я – доктор химии. Я, слава Богу, уже знаю, что такое лаборатория. Не я, а вы отправитесь туда!
– Нет, не я, а вы отправитесь! – закричал в ответ профессор.
Так они и стояли один против другого и посылали друг друга в упомянутое место жестами вытянутых рук и мимикой выпученных глаз, и кто знает, сколько бы времени они простояли, приросшие к своим местам, предаваясь подобным церемониям, если бы аптекарь не решился привести свой намек в исполнение и не кинулся на оппонента, не обнял и не потащил за собой. Как уже говорилось, таким образом оба прибыли, обнявшись и прилепившись друг к другу, на выпускные торжества в биологическую лабораторию.
Выше также упоминалось, что подробности эти касательно обстоятельств окончания курса его обучения на факультете Священного Писания, что на Подзорной горе, были переданы мне из его собственных уст, через несколько лет после всего произошедшего, во время нашей последней встречи в кафе «Атара». Точности ради замечу, что то была не только наша последняя встреча в этом кафе, но также и первая, ибо прежде я никогда не видал его в каком-либо кафе. Как видно, он слишком был занят в то беспокойное время или переноской секции ядов и секции готовых форм из одного шкафа в другой, или яростными спорами с профессором и студентами о месте жертв мирных, очистительных, искупительных и всесожжения. Сперва я его не узнал, несмотря на то что сел за соседний столик, посмотрел в его сторону и приметил господина в сером костюме. Только когда к нему подошла официантка и он заказал стакан чаю и коржик, мягкая и приятная мелодика его голоса вдруг вызвала отзвук в моей памяти. Я снова повернулся к нему, узнав его по этой мелодике, и убедился, что он приятен и привлекателен не только на слух, но и на вид, и не из-за той колоссальной перемены, которую произвел во всем его облике светло-серый костюм, но главным образом из-за излучающего уверенность выражения лица. Его пенсне наконец обрело подобающее себе место в компании синего галстука, выглядывавшего из-под крахмального воротничка, выделявшегося своей белизной поверх светло-серого костюма, тщательно сшитого по мерке и придававшего ему, вместе с ростом и шириной плеч, облик, внушающий почтение и вселяющий доверие. По великолепию его костюма и излучаемому им довольству крепко стоящего на ногах человека сразу делалось ясно, что он достиг не только спокойствия и упорядоченности, которых тщетно искал в свое время в Торе, выходившей от Подзорной горы[33], но и завидного достатка. Он вел беседу по-французски, сдабривая ее арабскими выражениями и присказками, с присевшим рядом с ним человеком, лысым, тучным и, казалось, еще гораздо крепче стоявшим на ногах, источая еще большее довольство. По пышным усам, жестам и всему облику лысого толстяка я сделал вывод, что он один из арабов-христиан, торговцев квартала Нашашиби, и, как выяснилось, ошибся только относительно его адреса. Когда тот удалился, аптекарь поведал мне, что этот толстяк – один из знатных жителей Бейрута, известный своим богатством, и они здесь сообща ведут одно из тех дел, которых у толстяка масса по всему Ближнему Востоку. Когда-то они вместе учились в университете Бейрута, где и завязалась их дружба, которая только в последнее время, как выясняется, стала приносить плоды, ибо лишь недавно аптекарь наконец согласился на его многократно повторявшиеся предложения. Еще в годы учебы этот друг предложил ему участвовать в своем предприятии по производству и продаже лекарств, и теперь они работают вместе.
Я спросил его, учится ли он еще на факультете Священного Писания, и тут он беззлобно и в деталях рассказал вышеизложенную историю о том, как он тащил профессора Пятикнижия в биологическую лабораторию.
– На самом деле, – сказал он, – этот бедняга заслуживает лишь снисходительной улыбки. Извини, конечно, но я должен подойти к тому типу, который все время сидит там в углу и ждет меня. Он еще новичок в торговле гашишем и потому такой нервный и напряженный. Мы уже производим куда более совершенные синтетические наркотики, но палестинские клиенты их еще не знают и предпочитают гашиш.
Он встал, чтобы подойти к нервному новичку, и, протягивая мне на прощанье руку, вдруг надумал взглянуть на меня и спросить:
– А Гавриэль, как он поживает? Когда ты видел его в последний раз?
Шаги на Абиссинской улице
Начав брать книги в библиотеке Бней-Брит, я обнаружил, что библиотекарь, этот низенький косоглазый очкарик, тоже учился в годы детства с Гавриэлем Луриа в Старом городе. Я любил этого библиотекаря главным образом из-за ворот, которые он открывал мне четыре-пять раз на неделе. Тогда, в дни летних каникул, я был способен дочитать книгу до конца едва ли не за день, а когда для меня не находилось новой книги, я снова перечитывал полученного в подарок на день рождения «Дон Кихота» в переводе Бялика, и знание всех подробностей того, что встретит меня на следующей странице, не только не умаляло к ней интереса, но, напротив, прибавляло радостного трепета от предвкушения уготованного мне повторения прежнего удовольствия, ожидающего меня, как только я переверну страницу. То был ручеек предвкушения, струившийся по определенному, давно известному руслу среди валов страстного нетерпения, окатывавших меня при виде каждой книги, принесенной из библиотеки. Первые же волны настигали меня еще прежде, в сущности, в тот момент, когда я выходил из дворовых ворот, отправляясь менять книгу в библиотеке.
К библиотеке Бней-Брит я ходил по Абиссинской улице, петлявшей дважды, словно две волны, вскипевшие одна за другой, ухватившиеся одна за другую и внезапно окаменевшие в течении своем вдоль домовых оград, тех самых глухих каменных оград, полностью замыкающих таящуюся за ними жизнь, словно твердые обложки вернувшихся от переплетчика книг, обложки, стоящие одна подле другой, храня непроницаемое в своем единообразии выражение лица, обращенного ко внешнему миру, в то время как каждая из них прикрывает обособленный жизненный поток, единичный в оттенке и неповторимый в звучании, вкусе и извивах пути. Я страстно стремился попасть за ограду, так же как рвался раскрыть книжную обложку, томясь по чудесному и единственному в своем роде миру, спрятанному в нем за непроницаемым защитным покровом. Однако подобно тому как встречались книги, чей вид, названия или шрифт наводили на меня скуку еще до того, как я начинал их читать, и которые поэтому я спешил вернуть на книжную полку, были и ограды, мимо которых я проскакивал бегом, отводя от них взгляд, ибо сама мысль о возможности попасть в огражденный ими дом вызывала во мне содрогание. Как раз таким был самый первый, угловой дом, одной стороной выходивший на улицу Пророков, а другой – на Абиссинскую. Каменная ограда его была такой же, как и все прочие, но сам дом почему-то был покрыт листами жести, словно аккуратный гараж, на диво чистый и лишенный малейшего пятнышка масла или ржавчины, ибо никогда не выполнял своего прямого назначения, или как военный барак, лишившийся всех своих солдат и потому посещаемый время от времени серьезными людьми в черных костюмах, приносящими ему свои соболезнования. Из-за отвращения к жести как к материалу, ее виду, фактуре, а особенно – звуку, во всем его диапазоне, мне всегда неприятно любое жестяное изделие, будь то ведро для воды или умывальный таз, а уж тем более – целое здание, крытое жестяными листами, отчего и казавшееся мне не настоящим домом, но чучелом дома и вызывавшее чувство гадливости, вроде того, что однажды вызвало у меня прикосновение к лимону, который я намеревался понюхать. Вместо излучающей упругую и прочную легкость корки, скрывающей живую плодовую плоть и струящей успокоительный в своей остроте запах прохлады, которую я надеялся ощутить, мои пальцы внезапно коснулись мертвого целлулоида, из которого был сделан пустой игрушечный лимон. Рядом с этой оградой окаменела, выгнувшись параллельно двум уличным волнам, ограда абиссинского квартала с церковью под зеленым куполом, монастырем и жилыми домами. И за эту ограду меня в те дни тоже не тянуло проникнуть, хотя и по совершенно иной причине. Я чувствовал, что за нею струятся потоки коптской жизни, настолько чужой и далекой, что для того, чтобы проникнуть в нее, недостаточно ни взгляда снаружи, ни даже переодевания в рясу коптского священника. Чтобы действительно постичь сокрытое за ней, мне следует сменить кожу и стать настоящим эфиопом, а в то время это вовсе меня не прельщало, как не прельщало и погружение в книгу, действующие лица которой поднимаются на гору Килиманджаро, поскольку меня тянуло к ночам на южных островах. Чтение про Килиманджаро, как и проникновение в мир абиссинцев, я отложил на более позднее время, когда душа моя будет в состоянии, подходящем для этого дальнего плавания, но когда завершились южные ночи и книга приключений в горах Африки уже была в моих руках, мне стало известно о двух новобранцах коптского монашества нечто такое, что навсегда уничтожило во мне даже намек на желание проникать в мир всех коптских монахов, хотя знание это, как уже говорилось, касалось лишь этих двоих. Когда я поднимался вслед за библиотекарем по библиотечной лестнице, мимо нас прошли, возвышаясь над оградой, как две шеи черных жирафов, два молоденьких абиссинских монаха в цилиндрических своих клобуках, словно с фетровыми колоннами на головах. Они спорили между собой шепотом, но их высокие голоса носились в воздухе, звонкие и ясные, словно тонкие струны, рвущиеся в бурной перебранке. Их головы под клобуками были, как видно, полностью обриты, виски и затылки оставались такими же гладкими и блестящими, как и кожа лица, подобная полированному черному мрамору. Лица этих юных великанов выглядели на диво детскими, быть может, как раз из-за их высокого роста, но надо полагать, что они были уже взрослеющими молодцами лет семнадцати-восемнадцати.
– Ты, конечно, понял, – сказал мне библиотекарь, – что эти двое несчастных – скопцы, причем рукотворные, а не солнечные. Их, судя по всему, оскопили еще в детстве. Ты, верно, не знаешь, что значит «солнечный скопец»? Так вот, имеется в виду скопец от рождения, потому что солнце не видело его в подходящий момент.
Что-то в тоне голоса библиотекаря ласкало мой слух – его тембр вместе с манерой артикуляции, общей для него и аптекаря, для моих папы и мамы, а также для всех южан, уроженцев Иерусалима, начавших говорить на иврите с детства, пришедшегося на годы турецкого владычества в Палестине. Его мелодичность смягчала слова, даже когда содержание делало их колючими и, не будь этого смягчения, способными оцарапать. Но на сей раз мягкое покрытие не способно было сгладить шок от удара. То был болевой шок: казалось, что те двое все еще носят в своей крови неизбытую боль отсечения яичек, одновременно отсекшую их от дерева жизни, семя которого в них, чтобы приносить по роду его плод[34], и с тех пор, как осуждены были на пожизненное заключение, каждый в клетке своей отшельнической жизни, истребились вовсе с дерева жизни, того, чьи корни пронизывают все прежние поколения, а крона колышема ветрами, что пронесутся над всеми поколениями будущего. И, осужденные на отсечение по вертикали, от будущего к прошлому, непроницаемые для мелодии того потока биения волн, что переливаются из клетки в клетку, были они отсечены и от горизонтали жизни в настоящем, как две клетки в холодном и безразличном пространстве, бессмысленно высящие в пустыне.
Много лет спустя после внезапного исчезновения библиотекаря, оставившего за собой туман слухов о чем-то ужасном, приключившемся с ним и заставившем тайно бежать из страны, Гавриэль рассказал мне историю о кастрировании кабанов в деревне Карнак во французской провинции Бретань. Перед возвращением домой Гавриэль нанялся сельскохозяйственным рабочим к фермерше, занимаясь любой тяжелой работой в доме и в поле до тех пор, пока не встал вопрос о кастрировании кабанов. Несмотря на то что Гавриэль по естественным причинам терпеть не мог это создание и чем лучше узнавал его в крестьянском хозяйстве, тем сильнее становилось его отвращение, тем не менее заставить себя лишить его мужества он не мог. Старый сельскохозяйственный рабочий из местных поймал поросенка и продемонстрировал Гавриэлю, как это делают неким напоминающим садовые ножницы орудием, отделяющим мошонку. Гавриэль, которого от всего увиденного пробила дрожь, заявил, что этим он заниматься не будет. Если бы от него потребовалось заколоть кабана, прикончить его каким угодно способом, он бы ничуть не колебался, как не брезговал до сих пор резанием птиц и забоем скота по требованию старой хозяйки фермы, но кастрирование, даже той самой отвратительной и гадкой ему твари, почему-то вселяло в него содрогание перед зверством, которого он ни в коем случае не мог вынести – ни совершить его, ни наблюдать за ним.
Еще не придя в себя от слов библиотекаря, открывших мне глаза на ужас, сотворенный человеческой рукой над двумя проходившими перед нами абиссинскими юношами, я был потрясен их тонким и звонким, как серебряные колокольчики, смехом, самой возможностью и способностью этих неизлечимых скопцов радоваться и смеяться. Радость забурлила в их голосах в тот момент, когда они очутились у ворот абиссинской церкви с зеленым куполом и встретили направлявшегося к выходу священника с брызгами седины во вьющихся волосах. И когда тот бросил им несколько слов, двое разразились раскатами смеха, продолжавшимися и после того, как он расстался с ними, удаляясь в направлении улицы Пророков. Этот отнюдь не был скопцом, как о том свидетельствовали все признаки, начиная с бороды, завивавшейся филигранью серебряных нитей, и телосложения и кончая жадным взглядом, вспыхнувшим в его глазах при виде зигзагами носившейся на роликовых коньках девочки в плиссированной шотландской юбочке. Он сказал ей на иврите: «Привет папе» и, когда та, из шалости, сделала вокруг него быстрый и опасный круг на своих роликах, протянул руку, чтобы схватить ее, и крикнул на подхваченном от уличных мальчишек и потому так странно, фальшиво и неуместно звучащем в устах черного седобородого священника иврите:
– Ой-ей-ей тебе, если я тебя схватит! Увидишь, что я с тобой сделает!
Оба рассмеялись, и он провожал неприкрыто похотливым взглядом пляску юбочки поверх порхавших на роликах и выписывавших восьмерки на асфальте ножек, пока и ролики, и ножки, и пляшущая юбочка не исчезли за зелеными железными воротами девочкиного дома, теми самыми, в которые я мечтал проникнуть всегда: по дороге в библиотеку, и на обратном пути, и лежа в постели ясными летними ночами, когда из-за этих ворот доносились звуки рояля, таившегося в недрах дома, полностью скрытого высокой оградой, парили надо всей улицей Пророков и влетали в наши окна, распахнутые навстречу звездному небу. Иногда фортепьянная капель вливалась в арабские мелодии, доносившиеся со стороны Шхемских ворот и квартала Мусрара, и текла сквозь круглое, отверстое на восток окошко, и тогда летний воздух дрожал от нараставшего напряжения, ибо стаккато западных ритмов не смешивалось с восточными напевами, дабы создать сбалансированную благозвучную смесь, как это нередко случается с музыкой, впитывающей мотив чужой культуры и способной поглотить и переварить его, но, просачиваясь в чуждый ритм, приводило к образованию горючей смеси, готовой взорваться от малейшей искры. Первой жертвой ночного сражения за воздушное пространство улицы Пророков на участке от Абиссинского переулка до Итальянской больницы, разыгрывающегося между вальсами Шопена, вылетавшими из дома доктора Ландау, старого окулиста, и любовными песнями Фарида эль-Атраша, рвавшимися во всю мощь из новых радиоприемников, недавно установленных в арабских кофейнях на спуске квартала Мусрара, пала госпожа Джентила Луриа, наша домовладелица.
С первыми беглыми аккордами, падавшими, словно гладкие холодные бусины, в трепещущие арабески струн катроса, сопровождавшего голос арабского певца (о нем говорили, что он не араб, а египетский еврей), на госпожу Джентилу нападали доводившие ее до рвоты сильные головные боли, и она призывала на помощь сестру свою Пнину:
– Поспеши, смочи платок холодной водой! (Тот самый платок, пропитанный студеной водой, которым она, словно тюрбаном, обвязывала голову для облегчения болей.) И закрой окна, да скорее, скорее! Разве ты не слышишь, что польский филин докторши уже расклевывает рояль? Чтоб он сдох вместе со своей госпожой! Жив был бы мой муж, такого бы не случалось. Он сказал бы ему – городскому голове, Рагеб-бею Нашашиби, чтобы запретил этому барабанить ночью и нарушать покой всей улицы. Слыханное ли дело, чтобы целая улица должна была страдать только потому, что женушка доктора Ландау не смогла найти себе никакого другого любовника, кроме этого польского филина, ни на что не годного, кроме как колотить по клавишам рояля! Если бы он хотя бы играл приятные, греющие душу мелодии! Но ведь даже и на это он не годен. И не диво – будь он настоящим пианистом, он бы в ней не нуждался, в этой истеричной кошке, которой не довелось найти себе истинного мужчину. Все они были рухлядью, считавшей свои стоны и вздохи произведениями искусства.








