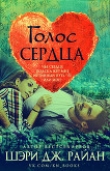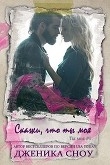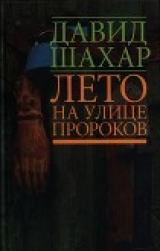
Текст книги "Лето на улице Пророков"
Автор книги: Давид Шахар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
И вместе с тем граница является важнейшей составляющей сюжета «Чертога». Улица Пророков определяется как пограничный район, за которым располагаются агрессивные миры арабов и ультраортодоксов. Но то, что лежит за границей, не есть некая чужая инаковость, соблазнительная тем, что она одновременно столь близка и столь запретна и недостижима. Напротив, инаковость, лежащая за границей, представляет угрозу гетерогенному, многоликому миру, столь дорогому повествователю, именно в силу своей ревностной охраны коллективной самоидентификации, единства и однозначности.
Михаль Пелед-Гинзбург,
Моше Рон
Улица Пророков в начале века
Памятен мне Иерусалим начала нынешнего века, выглядевший так: часть его, что за пределами стены, тянется от Яффских ворот до богадельни (ныне автовокзал), словно длинная, в две мили, лента, и с обеих сторон на нее нанизаны кварталы. Две главные улицы – улица Яффо и улица Пророков – проходят по середине почти что во всю ее длину, параллельные, как две лестничные балки, соединенные между собою несколькими короткими поперечными улицами и несколькими проходными дворами, наподобие лестничных ступеней. Близки эти улицы – за минуту проходит человек от одной из них до другой. И тем не менее весьма отличались они в те времена своими физиономиями. Улица Яффо была главной транспортной артерией города. Во все дневные часы, да и ранним вечером не прекращалось на ней движение пешеходов, шум колес пассажирских экипажей и грузовых повозок, поступь странствующих караванов, звон лошадиных бубенцов и верблюжьих колокольцев. На этой улице сконцентрировалась торговая жизнь. Ряды выходящих на улицу домов были заняты лавками и магазинами, а частично и мастерскими, над входами которых красовались разнообразные вывески.
А у улицы Пророков была совершенно иная физиономия. Повозка проезжала здесь лишь изредка. Не было здесь ни лавки, ни мастерской, ни ресторации. Стоит человек на углу улицы Пророков и смотрит на юг – видит шумную, оживленную улицу Яффо; а улица Пророков погружена в тишину. Единицы держат по ней путь, степенно, без спешки и без шума. Среди них выделяются люди почтенные – доктора, педагоги и различные общественные фигуры, когда зимою надевают они накидки – пелерины без рукавов, которые были знаком отличия просвещенных горожан. Среди домов по сторонам этой улицы есть такие, что служат общественными учреждениями, а есть и особняки местной знати. В противоположность будничной суете улицы Яффо, на улице Пророков царила почтенная и благородная тишина. Здесь были возведены здания больниц, учебных и культовых заведений христиан, и здесь же поселились врачи.
Давайте же пройдем по этой улице и последим за ее обликом и за ее жизнью в те дни, выйдя с западного конца, с того места, которое ныне называется площадью Давидки.
Первое в ряду медицинских учреждений на этой улице – Английская больница, занимающая большую площадь. Это учреждение в былые времена предоставляло медицинскую помощь и госпитализацию бесплатно или за символическую плату. Почти все ее клиенты были евреями, в особенности из бедного сословия. Евреи испытывали доверие (иногда доходившее до слепой веры) к профессиональным способностям врачей и персонала, но в сердце своем досадовали на них за их миссионерские устремления. Посетители этого заведения часто вынуждены были выслушивать чтение глав Нового Завета и даже проповеди христианских священников, толпясь возле служащего, выдававшего номерки на прием. Было широко распространено общенародное мнение, что нет специалистов, равных докторам этой больницы, и в час серьезной опасности все полагались на профессиональное мнение английского врача. Он также охотно соглашался на домашние визиты. Позвали – он тут же высвобождает время, садится на своего мула и является в дом больного, осматривает, объясняет на ломаном немецком языке, выписывает лекарство и с улыбкой удаляется.
От территории этого учреждения отходит налево боковая улица, ныне называемая улицей Пророка Исайи. На расстоянии нескольких десятков шагов стоит Народный Дом – здание в арабском стиле, одноэтажное, и в нем – большой зал, а по обеим его сторонам – маленькие комнатки. Здесь происходит культурная и общественная жизнь прогрессивных слоев – лекции просветителей, вечера писателей, торжественные встречи с выдающимися личностями и иностранными гостями. Доктор Шимони Меклер – первый специалист уха-горла-носа в Иерусалиме – старательно разъясняет публике целый раздел химии о кислороде и углекислоте, а К.Л. Сильман дополняет вечер юморесками и смешит публику. Завершилась лекция – собираются из публики активисты: рабочие, воспитанники учительской семинарии, учащиеся «Бецалеля» и просто молодежь в центре зала выстраиваются в круг и начинают пение, состоящее из вопросов и ответов:
Спрашивают: Мир вам, мир вам!
Отвечают: И вам, евреи, мир!
Спрашивают: Откуда вы, евреи? Откуда вы, евреи?
Отвечают: Из Галилеи мы.
Спрашивают: А что там в Галилее? А что там в Галилее?
Отвечают: Там работают, ликуют и на радостях танцуют.
И немедленно заводят танец, повторяя припев: «Там работают, ликуют» и т. д.
В перерыве публика разбредается по соседним комнатам. В одной из них стоит-гудит большой самовар[93], и добровольная дежурная наливает из него стаканы чаю. В другой комнате компания балуется шахматной игрою, а в следующей – сидит библиотекарь Ломер (его имя сегодня носит Рабочая библиотека) и под звуки доносящегося из зала шлягера тех времен «Бог отстроит Галилею» обменивает желающим книги.
А иногда один из учащихся школы отваживается сочинить пьесу, которую представляют в Народном доме, а бывает, что общество «Маккаби» готовит в Народном доме гимнастические показательные выступления на полу и на параллельных брусьях.
В считанных шагах оттуда стоит школа «Лемель» под эгидой общества «Эзра» – красивое и внушительное по тем временам здание. Здесь слушали мы на немецком языке лекции Йешайягу Переса по истории и географии, в которых особенно выделяется и распространяется всё, имеющее касательство к Германии, евреи которой были попечителями «Эзры». Здесь мы заучивали наизусть число жителей десятков немецких городов. Арифметика, природоведение, геометрия и гимнастика тоже преподавались здесь по-немецки, и мы научились исполнять даже несколько немецких песен под руководством Ц.Н. Идельсона. Однако лишь ивритские песни, такие, как «Идет Мессия» и «Дальше, Иордан, теки», заставляли сильнее биться наши сердца. Йосеф Йоэль Ривлин, только начинавший тогда свою педагогическую деятельность, вводил нас в мир ивритской литературы, в особенности – в сокровищницу поэзии Бялика. От него узнавали мы по книге Тавьева[94] о РИБАЛе и МИКАЛе, об Адаме Ѓa-Коѓене, о Фришмане, Ицхаке Эртере и других и учили отрывки из их сочинений наизусть.
На расстоянии нескольких десятков шагов стояло здание учительской семинарии под эгидой «Эзры». Молодые педагоги, заканчивающие курс обучения, иногда заходили в наш класс, практикуясь в педагогическом ремесле под руководством доктора А.И. Бравера. Были среди них такие, кто впоследствии достиг широкой известности, вроде Шпигельмана (он же – светлой памяти И. Яцив), покойного Иегуды Бурлы, ныне здравствующего профессора И. Рейхарта (специалиста по болезням растений) и других.
В атмосфере этой школы царило равнодушие к новым веяниям возрождающейся Земли Израиля. К деятельности Народного Дома относились они с негодованием. Однажды я услышал, как учитель в школе «Лемель» распекает ученика, провинившегося тем, что побывал в Народном Доме. В этом видели некий шаг навстречу бунту, навстречу утрате добропорядочности. Следует, однако, признать, что лишь в этом консервативном заведении учащиеся приобретали прочную базу общих познаний, и только семинар «Эзры» подготовил группу превосходных учителей, которые взрастили в стране и за ее пределами целое поколение в духе любви к языку иврит, к Земле Израиля и к еврейскому народу.
Вернемся же на улицу Пророков. Мы упираемся в международную англиканскую церковь, в которой ежевоскресно служат публичный молебен.
Несколькими шагами далее – пустырь, а на нем – фундамент госпиталя «Бикур Холим» («Посещение Больных»), которому предстоит перебраться сюда из Старого Города по окончании Первой мировой войны.
Сразу следом за ним – снова больница. Большое многоэтажное здание, над входом в которое – большая вывеска, а на ней – стих из Исайи (53:4): «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни» на немецком и арабском языках. Это тоже миссионерское учреждение, но евреи в него не ходили, и лишь арабы, главным образом христиане, пользовались его услугами. Ныне это здание находится в ведении больницы «Бикур Холим», расположенной напротив. По другую сторону улицы, на некотором отдалении – миссионерская школа Святого Джозефа, окруженная высокой стеною с запертыми воротами, дабы огородить ее от любого внешнего влияния. Здесь монашки воспитывают барышень, и по окончании школы последние знают французский язык, а также немного арифметики, прочих наук и рукоделия. Здесь учится немало евреек, и выходя отсюда они говорят по-французски, но совершенно не знают ничего по части всего, что касается еврейства.
Отсюда вдоль улицы начинают тянуться обширные участки с отдельными особняками, а за ними по левой стороне начинается улица Бней-Брит, ведущая к основанному Иосефом Хазановичем Дому книг. Ежедневно приходит сюда Аарон Коэн, заслуженный библиотекарь сего заведения, отпирает своим тяжелым ключом его двери и позволяет нетерпеливо ожидающей группе читателей пройти в длинный читальный зал на верхнем этаже. Здесь установлен длинный стол, а на нем – газеты и ежемесячники, еврейские и иностранные, местные и заграничные. По сторонам этого стола установлены длинные лавки, и читатели рассаживаются и погружаются в газетные страницы. Среди них вы встретите любителей чтения, по большей части бездельников, убогих – таких, кому нечего надеть и нечего есть, насыщающих душу свою чтением, молодых иешиботников, пробравшихся из ортодоксальных кварталов в районе Ста Врат ради того, чтобы вкусить от печатного слова, учащихся семинарии, любителей литературы, давно ждавших появления нового выпуска «Шилоаха» и «Моледет» («Родины»), Не слышно ни звука, кроме шелеста газетных страниц.
Тем временем библиотекарь занят на нижнем этаже – перетаскивает лестницу от одного шкафа к другому, залезает на нее и роется в поисках книги, которую у него спрашивает посетитель, как правило, из учащихся начальных школ, проверяет книгу, предупреждает, чтобы ее не попортили, записывает, пока не заканчивается вся очередь, достает часы из жилетного кармана и объявляет о закрытии библиотеки, торопит последних читателей, которым трудно выпустить газеты из рук, вставляет ключ и запирает двери до следующего дня.
Оттуда отходит налево Абиссинская улица, а рядом – абиссинская церковь, чей большой купол бросается в глаза издалека. Чернокожие и одетые в темное монахи и монашки проходят по улице, не разжимая уст, и незаметно исчезают на территории церкви, нырнув в калитку.
Напротив церкви временно располагается ивритская учительская семинария. Здесь черпаем мы Тору из кладезя премудрости блестящих педагогов: руководитель сего заведения – благороднейшая и наиприятнейшая личность – рабби Давид Елин, и с ним – А.М. Лифшиц, И. Меюхас, рабби Косовский, доктор Хеврони, Шломо Шиллер, Х.А. Зута, доктор Хахам, Ц.Н. Идельсон. В голове нашей, однако, остается мало места для Торы: в улицах носится отзвук труб турецких военных отрядов, отправляющихся на полевые учения, да и мы, ученики, уже вызваны на первую армейскую проверку, а за нею – и на вторую, и вскоре нам предстоит внести свой вклад в Первую мировую войну, уже около года бушующую в мире. Над нами нависла угроза местного командующего Джемаля-паши, преследующего иностранных подданных и «москобим» – выходцев из России, и мы затаив дыхание ждем, когда минует его гнев.
Чуть далее – снова учебное заведение – талмуд-тора «Тахкемони», по сути своей являющаяся компромиссом между традиционным хедером и современной школой. Рядом с нею – жилище Элиэзера Бен-Иегуды. Но кто его видит и кто замечает? Сидит он, затворившись в своей квартире, за письменным столом и все свое время отдает своему детищу – словарю иврита.
Мы возвращаемся на улицу Пророков и продолжаем держать путь на восток. Сразу же возникает перед нами больница «Ротшильд», в ней служит главный врач, доктор Сегаль. На входных воротах выбито название заведения на иврите и по-турецки. Атмосфера здесь уютная и умеренная, здесь нет крайней религиозности, ощутимой в «Бикур Холим» и во «Вратах Справедливости». Поэтому здесь среди больных встречается немало светской и нерелигиозной публики.
С восточной стороны с этой больницей граничит училище для слепых. Вблизи него всегда слышны звуки музыкальных инструментов, в основном скрипок и труб, ибо слепые воспитанники много занимаются музыкой. Заглянув во двор, можно увидеть воспитанников и воспитанниц, занятых вязанием метел, щеток и прочей соломенной утвари, предназначенной для продажи в городе. Во главе этого заведения стоит беззаветно преданный своему делу педагог Мордехай Ледерер, неутомимый в любое время дня и ночи. Иногда он берет своих воспитанников на прогулку в Моцу и там проводит с ними время в тени олив.
И тут мы оказываемся на перекрестке. Направо отходит узкая улица, и сквозь нее виднеется в отдалении церковь на Русском Подворье. Вид куполов, венчающих эту церковь, притягивает взгляд и приглашает подойти и рассмотреть ее вблизи. На этой боковой улице я был однажды утром поражен первой и последней в моей жизни встречей с Джемалем-пашой. Он промчался мимо меня галопом, окруженный группой из пятнадцати вооруженных солдат на откормленных, холеных, играющих мышцами конях, и быстро скрылся на Русском Подворье. Подворье это тогда было очищено от своих хозяев – русских священников и работниц – и захвачено армией. Пока я размышляю об этом происшествии, передо мною всплывает образ Авессалома, сына Давидова, замышлявшего вырвать у отца бразды правления и заведшего у себя «колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов» (2-я книга Царств, 15:1).
До сих пор улица Пророков идет почти по прямой, на одном уровне, без спусков и подъемов – прекрасные для ног топографические условия, и по ней можно прохаживаться, не напрягаясь и не утомляясь. По той же причине зимою дождевая вода скапливается здесь в лужах, покрывающих проезжую часть и затрудняющих движение. Проехала повозка по луже – колеса ее обдают брызгами полы одежд прохожих и украшают узорами грязи пелерины почтенных горожан. Иногда учитель, опоздавший и не успевший зайти в учительскую комнату, входит прямо в наш класс и, слушая урок в изложении одного из учеников, приподнимает полы своей пелерины, собирает с них засохшие куски грязи и кидает их в мусорное ведро.
От перекрестка улица Пророков начинает спускаться под значительным наклоном. На расстоянии нескольких десятков шагов по левую руку мы снова видим учреждение, расположенное в красивом здании посреди просторного двора. Это немецкая гимназия ордена Тамплиеров, поселившихся в Немецкой Колонии в Долине Духов. Сегодня в этом здании помещается одна из производственных школ системы «Орт». Через несколько минут пути оттуда мы подходим к перекрестку, где улица Пророков пересекается улицей Ста Врат (ныне – улица Колен Израилевых). Говорящие на идиш, которых в этом районе большинство, не трудятся полностью выговаривать название этой улицы «Меа́ шеари́м» и говорят «Мишо́рим»[95], с ударением на предпоследнем слоге. Арабские извозчики, ездящие со своими повозками по прямому маршруту от Яффских ворот до Ста Врат, выговаривают «муширим». Мушир по-арабски значит командир. И действительно, в квартале Ста Врат, особенно в его большой иешиве, имеются командиры, но не армейские, а командиры Торы, ибо этим именем прозываются знатоки, мудрецы и всяческие религиозные авторитеты.
На одном из углов этого перекрестка находится последняя в ряду медицинских учреждений улицы Пророков больница. Это Итальянская больница, обслуживавшая арабских пациентов из города и ближайших деревень. Сегодня это здание – собственность правительства Израиля, и в нем располагается часть Министерства просвещения. А на противоположном углу расположена школа общества Братского Единства, известная под именем Эвелины де Ротшильд, руководимая мисс Ландой, славящейся в Иерусалиме своим рвением в религиозном воспитании девиц. Большая часть воспитанниц – барышни из ортодоксальных семейств квартала Ста Врат и прочих религиозных кварталов, лежащих поблизости. Особое внимание уделяется здесь английскому языку и еврейскому законоучению. Однажды я видел в руках одной из воспитанниц молитвенник, где ивритский текст сопровождался английским переводом. Эта воспитанница просила свою старшую сестру, чтобы та во время чтения восемнадцати благословений подсказывала ей, где и когда «качаться», то есть сгибать колени и склонять голову.
И здесь улица Пророков в еврейской части заканчивается. Дальше она продолжается на чужой территории. Все больше открывается взгляду северная стена Старого Города с ее похожими на зубы выступами, вся окутанная атмосферой древних тайн. За нею открываются купола мечетей Храмовой Горы и Храм Гроба Господня, куполообразные крыши скученных жилых домов, лепящихся друг к другу – зачарованный сказочный город. Улица заканчивается у Шхемских ворот, кишащих многообразием людей, языков и одеяний, подобно живой, непрерывно изменяющейся мозаике – шумное окончание прекраснейшей из улиц Иерусалима тех дней.
Амоц Коэн
1971 г.
notes
Примечания
1
Восемь дней праздника Ханука приходятся на конец месяца кислев и начало месяца тевет (декабрь-январь). Новый год деревьев (Ту би-шват) – 15 число следующего месяца шват, обычно наиболее дождливого в году. (Здесь и далее – прим. перев.)
2
Намек на ст. 14 гл. 25 Притчей Соломоновых: «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками».
3
Известна еще как гора Скопус.
4
Реминисценция из главы 1 Книги Бытие: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их» (ст. 25).
5
Предмет, неприкасаемый из отвращения – понятие, рассматриваемое в Талмуде, трактат «Шабат»; «предмет, которым перестают пользоваться из-за того, что он делается отвратительным, вроде старого горшка для нечистот».
6
В православной традиции Первая книга Царств, гл. 7, ст. 17.
7
Вторая книга Паралипоменон (Летопись), гл. 16, ст. 14.
8
Талант – древняя мера веса, около 21 килограмма.
9
Антиох IV Эпифан – царь Сирии, совершивший нашествие на Землю Израиля во II веке до н. э. и побежденный Маккавеями.
10
Псалом 91, в православной традиции 90, ст. 12.
11
Ивритское слово (монит) – такси – еще не вошло тогда в употребление.
12
Парафраз из Книги Иеремии (гл. 13, ст. 23): «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои?»
13
После Войны за независимость и вплоть до Шестидневной войны.
14
В оригинале использован образ из ст. 21–22 гл. 30 Притчей Соломоновых: «От трех трясется земля, четырех не может она носить: раба, когда он делается царем…»
15
Здесь обсуждаются события глав 4 и 7 Книги Исход.
16
По достижении 13 лет, совершеннолетия, согласно еврейскому закону.
17
Бред Иегуды Проспер-бека, очевидно, связан с эпизодом из гл. 20 Первой книги Царств. Давид прятался от гнева царя Саула, обрекшего его на смерть. На вопрос царя, почему тот не пришел к обеду, его сын Ионафан отвечал: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня» (ст. 28–29). А также с историей Иакова, заночевавшего в «страшном месте» на пути к его будущей невесте Рахили из гл. 28 Книги Бытие: «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце» (ст. 11). Тема захода солнца, одного из аспектов отношений света и тьмы, постоянно занимающих автора и его героев, прочно связана с фигурой Иегуды Проспер-бека, стоящего на пороге смерти.
18
«Сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего» – образ из гл. 21 Книги Второзаконие (ст. 18).
19
Мишна, трактат «Авот» («Отцы»), гл. 2, мишна 10.
20
Бамия (Hibiscus esculentus) – растение из семейства мальвовых, плоды которого в вареном виде широко употребляются в пищу на Ближнем Востоке. У сорванных конусообразных плодов перед варкой полагается срезать несъедобные плодоножки.
21
КИАХ – сокр. «Коль Исраэль Хаверим» – «Весь Израиль – товарищи».
22
Нетурей-карта – «Стражи города», обособленная ультраортодоксальная иерусалимская община с чертами секты, бойкотирующая светское государство Израиль и считающая его существование одним из главных мистических источников всех бед еврейского народа.
23
Элиэзер Бен-Иегуда (Перельман) (1858–1922) – пионер возрождения иврита как разговорного языка.
24
В оригинале – непереводимая игра слов: «любая работа – чужая», построенная на том, что работа и богослужение обозначаются одним и тем же словом и идолопоклонство буквально называется «чужим богослужением», т. е. служением чужим божествам.
25
Ср. со ст. 1 гл. 3 Книги Екклесиаста: «Всему свое время и время всякой вещи под небом».
26
«Конец его – гибель» – формула из пророчества Валаама (Числа, гл. 24, ст. 20 и 24).
27
Мидраш – иносказательное толкование библейских текстов и образов, часто – дополняющая неясный текст история аллегорического характера. Также – сборник подобных текстов.
28
Ивритское «и стал» в приблизительной русской транскрипции напоминает крик «уайийи».
29
Аллюзия на ст. 5 гл. 27 Книги Второзаконие: «И устрой там жертвенник Господу, Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа».
30
Сфирот – ед.ч. сфира – число, центральная идея лурианской каббалы. Десять сфирот, предвечных «чисел», обозначают десять стадий эманации (потока благодати), образующих область манифестации Бога в его различных атрибутах.
31
Ср. со сценой жертвоприношения Ицхака в гл. 22 Книги Бытие: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (начиная со ст. 9), «и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими» (ст. 13).
32
Еврейский университет в Иерусалиме был открыт на горе Скопус (Подзорной) в 1925 г., где и сейчас размещается значительная часть его факультетов.
33
Ср. в ст. 3 гл. 2 Книги пророка Исайи: «Ибо от Сиона выйдет Тора, и слово Господне – из Иерусалима».
34
Ср. ст. 11–12 гл. 1 Книги Бытие: «И сказал Бог: да произрастит земля […] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И т. д.
35
Арон ѓа-кодеш (ивр., мн. ч. аронот-кодеш) – ковчег Завета, содержавший скрижали Завета, описан в гл. 37 Книги Исход. По традиции так же называется синагогальный шкаф для хранения свитков Торы.
36
Выражение, вошедшее в разговорный иврит из 69-го (в православной традиции – 68-го) псалма Давида: «Спаси меня, Боже: ибо воды дошли до души моей» (ст. 2).
37
Западная стена – она же Стена Плача, единственная сохранившаяся деталь Второго Храма, место, имеющее для евреев особое духовное значение.
38
Саддукеи – представители направления, в эпоху Второго Храма противостоявшего фарисеям – составителям Талмуда, основоположникам раввинистического иудаизма.
39
Начало 130-го (в православной традиции 129-го) псалма, именуемого Шир ѓа-маалот – т. е. «Песнь ступеней», или «Песнь восхождения».
40
Реминисценция из гл. 10 Книги Иисуса Навина: «И сказал [Иисус Навин] пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: „стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день“?» (ст. 12–13).
41
«Йевамот» – трактат Мишны, посвященный законам левиратного брака и отказа от него.
42
Гиллель и Шамай – крупнейшие авторитеты Мишны, отличавшиеся различным подходом к толкованию закона и создавшие две полемизирующие школы.
43
Ишув – буквально «населенный пункт». Этим словом именовалось еврейское сообщество в Земле Израиля в разные периоды до создания государства («Старый ишув», «Новый ишув»),
44
Исайя, гл. 49, ст. 17.
45
Перла – идишское имя, имеющее то же значение, что и ивритское Пнина, – жемчужина.
46
Йа аби – «О, папочка» или «Эй, папочка» – форма звательного падежа (араб.).
47
Лифта – деревня у въезда в Иерусалим по Яффской дороге.
48
Тридцать шесть скрытых праведников (ламед-вовники) – от буквенного обозначения числа 36 (ламед-вав).
49
Праведник – Цадик – название одной из нижних сфирот, образующих природную сферу космического древа. Другое название этой сфиры – «Основа мира» – Йесод ѓа-олам.
50
Шофар – ритуальный бараний рог, в который трубят в Дни Раскаянья. Дробь – шварим – один из трех стилей трубления.
51
Здесь явная аллюзия на переход израильтян через Чермное море под руководством Моисея: «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше; воды же были им стеною по правую и по левую сторону» (Исход, гл. 14, ст. 22), особенно в сочетании с «мышцей простертою» (см., например: Исход, гл. 6, ст. 8 и др.), которой Господь вывел евреев из египетского рабства.
52
Гомед – древняя мера длины, примерно равная локтю. Корень гмд выражает уменьшение, сокращение, сжатие.
53
Евус – одно из древних названий Иерусалима.
54
Автор обыгрывает значение слова шошан – лилия.
55
Авраам Ицхак ѓа-Коѓен Кук – основатель религиозного движения, солидаризировавшегося с сионизмом и с идеей национального и государственного строительства в Эрец Исраэль.
56
Гемара – поздняя часть Талмуда (от корня гмр – заканчивать), посвященная обсуждению более ранней Мишны.
57
Шулхан-арух («Накрытый стол») – компендиум религиозных норм жизни, составленный в XVI в. рабби Йосефом Каро из Цфата и впервые изданный в Венеции в 1565 г. До сих пор является главным сводом повседневных законов в ортодоксальной еврейской среде.
58
Тут в оригинале явственно слышится пародийная нота: урок христианской теологии назван уроком Торы; преп. Иоанн Дамаскин – рабби Йохананом из Дамесека; используется талмудический термин кушия – трудный вопрос, вызывающий дискуссию; построение этой кушии и даже ее мелодика полностью воспроизводят образцы из Гемары.
59
«Синай и корчующий горы – кто из них прежде?» – фраза из трактата «Благословения». Выражение «корчующий горы» стало в талмудическом иврите метафорой великого знатока Торы. Употребление его в тексте романа вместе с Синаем носит остро пародийный характер.
60
В трактате «Авот де рабби Натан», одном из т. н. «малых трактатов», сказано: «Сказал Бен Азай: Награда за исполнение заповеди – исполнение заповеди, и награда за грех – грех» (вариант 2, гл. 33-V).
61
Теодор (Биньямин Зеев) Герцль (1860–1904). Автор пользуется латинско-немецкой формой слова «сионизм», неупотребимой в иврите.
62
Аллюзия на ст. 22 гл. 27 Книги Бытия: «Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его, и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы».
63
Псалом 22, в еврейской традиции – 23.
64
«Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, гл. 27, ст. 46.)
65
Аллюзия на ст. 13 гл. 1 Первой книги пророка Самуила (в русской традиции – Первая книга Царств): «И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною».
66
Талес (талит) – молитвенное покрывало. Штраймл – округлая меховая шапка ашкеназских ортодоксов.
67
В оригинале: «буквами освящения месяца». По традиции текст освящения нового месяца вывешивается на улицах и отпечатывается особенно крупными буквами, чтобы его можно было прочесть ночью при слабом свете молодого месяца.
68
Новый день по еврейской традиции начинается с заходом солнца.
69
Пародийная аллюзия на Пасхальную агаду, в которой говорится: «[…] в каждом из поколений восстают против нас, чтобы нас истребить». Пародийность ситуации усугубляется тем, что текст агады читают за накрытым для трапезы столом.
70
Тут госпожа Луриа тоже применяет талмудический метод выведения законов на основе подобия уже существующим законам и пользуется соответствующей терминологией.
71
Аллюзия на ст. 19 гл. 3 Книги Бытие: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…»
72
См. гл. 18 Книги Бытие: «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение [сына]?» (ст. 11–12).
73
Прута – самая мелкая монета, бывшая в обращении в Эрец-Исраэль, равная 1/1000 лиры.
74
Исайя, гл. 30, ст. 20.
75
Ср. Плач Иеремии, гл. 3, ст. 15.
76
Мегалиты – сооружения 2–3 тысячелетия до н. э. из громадных камней, вероятно, ритуального назначения. Их разновидности – дольмен (от бретонского tol [стол] + men [камень]) и менгир (men [камень] + hir [длинный]).
77
Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 26–28.
78
В оригинале буквально повторяется труднопереводимая форма (кара равац), используемая в Библии, в частности в ст. 9 гл 49 книги Бытия. «Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Благословение, данное Иаковом Иуде.)
79
Трактат «Отцы», часть 4, мишна 3.
80
Вавилонский Талмуд, трактат «Шаббат», лист 25–II.
81
Рабби Абайе – один из мудрецов Талмуда, так же как и упоминающийся далее Равва.
82
В оригинале обыгрываются два значения слова руах – ветер и дух. Эта двузначность часто присутствует в данном тексте, так же, как и в ивритской литературе вообще.
83
Ахалан-васахалан – арабское приветствие и приглашение в гости.
84
Если Господу будет угодно (араб.).
85
Ср. напр.: Иеремия, гл. 39, ст. 5: «И взяли его и отвели к Навуходоносору […] в землю Емаф, где он произнес суд над ним», а также Иеремия, гл. 52, ст. 9 и т. п.
86
Еврейская община Иерусалима, сложившаяся в досионистский период.
87
В романе «Путешествие в Ур Халдейский».
88
См. «Путешествие в Ур Халдейский», с. 91–94. В тексте допущена опечатка: «Маралиас».
89
Обратите внимание на постоянные описания закатов в «Лете на улице Пророков» и в других книгах эпопеи.
90
В романе «День духов».
91
В романе «Сон в ночь Таммуза».