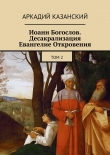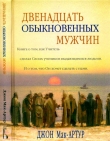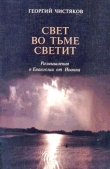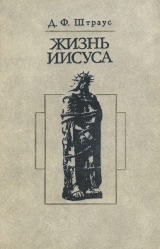
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 55 страниц)
К числу чудес, не подводимых под его формулу, принадлежат все воскрешения из мертвых, совершенные Иисусом, так как в этих случаях отсутствует тот дух, к которому Иисус мог бы обратиться со своим разбуждающим словом. Правда, сам Шлейермахер видит в воскрешенных, даже в Лазаре, людей мнимоумерших, но это его не выводит из затруднения, поскольку их бессознательное состояние тоже исключает возможность предположить духовное воздействие на них Иисуса; в этих случаях Шлейермахеру опять-таки приходится объяснять чудо обычными естественнонаучными соображениями и говорить, что Иисусу удавалось, не в пример прочим людям, подмечать и возвещать в мнимоумерших лицах сохранившуюся в них искру жизни. Еще труднее объяснить чудесное воздействие Иисуса на бездушную природу; так, относительно рассказа о насыщении толпы и превращении воды в вино Шлейермахеру пришлось ограничиться критикой соответствующих повествований, не дающих будто бы достаточно ясного представления о сообщаемых происшествиях; равным образом ему пришлось, под тем же предлогом, уклониться от объяснения чудесного хождения по морю и проклятия смоковницы. Что же касается чудес, объектом которых был сам Иисус, то взгляд Шлейермахера на крещение и преображение Иисуса совершенно сходится со взглядом Паулуса.
Однако Шлейермахер, наделенный тонким эстетическим вкусом и критическим чутьем и относившийся весьма свободно к евангельским источникам, не мог взглянуть глазами Паулуса на чудеса, случившиеся в отроческий период жизни Иисуса, не мог, подобно Паулусу, исказить в соответствующей повести явно поэтический элемент прозой прагматизма и гармонически слить воедино резко отличные рассказы Матфея и Луки. Чем крепче он придерживался Евангелия от Иоанна, как повествования очевидца, тем свободнее мог он относиться к трем первым евангелиям, считая их позднейшей переделкой старинных сказаний, отчасти уже утративших свой исторический характер; но так как Иоанн умалчивает об отроческом периоде Иисуса, Шлейермахер счел возможным указать на противоречивость сообщений Матфея и Луки и отрицать их исторический характер. Что же касается чудесного рождения Иисуса, его зачатия в отсутствии отца, то из "Вероучения" Шлейермахера уже известно, как вольнодумно он относился к этому догмату веры, так как молчание Иоанна по этому поводу в экзегетическом смысле окрыляло его; но если он считал возможным заявить, что в соответствующих рассказах Матфея и Луки этический элемент преобладает над историческим, то можно спросить, почему он в этом направлении не пошел и далее, ибо, например, рассказ об искушении Иисуса, о котором Иоанн тоже умалчивает, Шлейермахер признает наполовину историческим повествованием, находя, что это – притча, рассказанная первоначально Иисусом и впоследствии истолкованная в смысле исторического факта. Позднее он даже прямо объясняет, почему поступил именно так, а не иначе; в своих лекциях о жизни Иисуса он говорит: "Признавать все мифом, то есть поэтическим произведением христиан, нельзя, потому что в Новом завете мифов не содержится (но это именно и требуется доказать!); мифический элемент характеризует лишь доисторическую эпоху" (но что же надо считать доисторической эпохой?). Итак, мы видим, что аргументы Шлейермахера против мифического понимания евангелий не слишком состоятельны; в конце концов, они доказывают только то, как чужда и несвойственна была Шлейермахеру такая точка зрения в истолковании Писания или, выражаясь положительно, как глубоко он врос в почву рационализма, лишь от догматики которого успел избавиться.
Это весьма отчетливо сказалось и в отношении Шлейермахера к рассказу о воскресении Иисуса. Здесь он всецело солидарен с естественным объяснением Паулуса. По его словам, Иисус не умирал совсем: силой божественного произволения, то есть случайно и помимо человеческого вмешательства, он снова ожил, а затем, благодаря случайности, ему удалось уйти из могильного склепа, так как люди, не знавшие, что в склепе находился Иисус, отвалили камень. То, что Магдалина приняла его за садовника, по Шлейермахеру, объясняется тем, что Иисус, выйдя из склепа нагим, облекся в одежду садовника; затем, если в евангелии говорится, что Иисус проник в комнату учеников, несмотря на замкнутую дверь, то, по словам Шлейермахера, "мы, разумеется, и сами уже догадываемся, что дверь была отперта". Тот факт, что Иисус после своего воскресения встречался со своими учениками редко и тайком, доказывает, по мнению Шлейермахера, не то, что он перестал жить естественно телесной жизнью, а только то, что он умышленно встречался с ними редко, чтобы избавить их от ответственности. Такая нормально восстановленная жизнь Иисуса могла потом закончиться естественной смертью, и Шлейермахер полагает, что необходимость сверхъестественного расставания Иисуса с землей ничем не может быть доказана, однако он не отрицает и того, что сверхъестественная кончина (вознесение на небо) была весьма целесообразна, ибо могла раз и навсегда успокоить учеников, которые в противном случае еще долго искали бы его на земле. Такой несостоятельной догадкой завершается составленная Шлейермахером биография Иисуса! Очевидно, что и она не разрешила поставленной задачи – удовлетворить веру и науку в равной мере.
Что действующим началом в Христе было начало божественное, которым будто бы определялись все его речи и деяния, это – предположение новозаветных писателей, а не наше, не людей, стоящих всецело на научной точке зрения и признающих Иисуса человеком в полнейшем смысле этого слова.
Что божественное начало в Христе всегда выражалось только в формах человечных и согласно законам естественной энергии, это – наше собственное предположение, а не предположение новозаветных писателей, если оценивать их объективно.
Поэтому несправедливо приписывать им наши, а нам – их предположения, и совершенно невозможно таким приемом примирить современную науку с верой.
6. ГАЗЕ.
Ученики Шлейермахера доселе не собрались издать его лекций о жизни Иисуса (в отличие от остальных лекций): они так мало соответствовали консервативному направлению, все более господствующему в среде учеников Шлейермахера, так слабо противились вторжению мифических воззрений на евангельскую историю, казались столь непрочными устоями всей теологии Шлейермахера, что решено было не выпускать их в свет. К тому же лекции эти успели сделать свое дело, так как многочисленные слушатели Шлейермахера, проникшиеся взглядами своего учителя, распространили их в своих сочинениях. Почти все последующие осмысления евангельской истории вплоть до настоящего времени напоминают "Жизнь Иисуса" Шлейермахера; он и в этой области признан был оракулом, роль которого вполне соответствовала двусмысленности или двойственности характера этого заправского Локсия. (46)
С большим самодовольством Газе утверждает, что выпущенное им в 1829 году "Пособие" является опытом чисто научного описания "Жизни Иисуса"; ему он противопоставляет мою книгу ("Жизнь Иисуса"), которая появилась шесть лет спустя (1835) и в которой он видит одностороннее проведение критической линии и, следовательно, нечто ошибочное или, по меньшей мере, излишнее. В действительности же ненаучный характер его работы как раз и побудил меня выступить с моим критическим опытом, а позднейшие издания его "Пособия" только яснее показали, что даже изящно возведенное биографическое сооружение весьма непрочно, если оно построено на старом, не убранном критикой мусоре.
У Газе, как у Шлейермахера, все колебания и противоречия в описании жизни Иисуса происходят частью от двусмысленного понимания чудесного, частью же от взгляда на Евангелие Иоанна как на сообщение апостола-очевидца. В сущности, Газе, подобно Шлейермахеру, относился к чуду рационалистически, и первые три евангелия, как в большей или меньшей степени производные сами по себе свидетельства, не помешали бы ему взглянуть рационалистически и на евангельскую историю; но так как к Евангелию от Иоанна его влечет эстетико-сантиментальный интерес, а в этом евангелии взгляд на чудеса значительно возвышеннее, чем в первых трех, то в книгу Газе прокралось противоречие, которое привело к ряду необоснованных положений, чего не признает и не осознает сам автор. В этом якобы достовернейшем евангелии содержатся самые рельефные повествования о чудесах, поэтому автор вынужден до известной степени допускать чудеса, но так как недопустимы чудеса иррациональные, нарушающие связи природы, приходится усомниться в авторитете и достоверности самого евангелиста Иоанна, когда он повествует о подобных чудесах.
"Быть может,– говорит Газе (и этим "быть может" он как бы хочет предостеречь нас, что у нас может закружиться голова, если мы последуем за ним на занятую им шаткую позицию),– быть может, все исцеления, совершенные Иисусом, ограничивались лишь той областью болезней, в которой вообще обнаруживается хотя бы отчасти и в малой степени воздействие воли на тело". Следовательно, в данном случае Газе говорит точь-в-точь как Шлейермахер, которому он подражает также в том, что воскрешения из мертвых, не подходящие под эту формулу, он превращает в обнаружения мнимой смерти. Кроме того, он пристегивает сюда и животный магнетизм, который "в качестве силы, таинственно порождаемой живой здоровой природой и воздействующей на хилую природу", имеет, по его мнению, большое сходство с силой, обнаружившейся в Иисусе. Хотя этот дар Газе прямо именует даром или талантом, свойственным Иисусу, однако он чувствует, что этим умаляет личный авторитет и престиж Иисуса, ибо физическая целебная сила, родственная силе магнетизма, не свидетельствует ни о высшем достоинстве личности Иисуса, ни об истине его учения, подобно необычайной телесной силе или остроте внешних чувств. Поэтому Газе предпочитает заявить, что чудесный дар Иисуса состоит "в отчетливом господстве духа над природой, которое первоначально было предоставлено человеку в форме господства над землей и, в противовес неестественности болезней и смерти, восстановилось до своих былых пределов в святой безгрешности Иисуса, так что в этом случае наблюдается не уклонение от естественных законов, а внесение первоначальной гармонии и истины в нарушенный порядок вселенной". Такое положение, разумеется, весьма удобно, ибо дает возможность "подвести под это понятие не только чудесные исцеления, совершенные Иисусом, но и все акты насилия надприродой, и рассматривать их по аналогии с ускоренными естественными процессами". Однако такая точка зрения неоортодоксов-мистиков Газе не удовлетворяет, так как он не может забыть того, что предоставленное человеку господство над природой обусловливается изучением и пониманием ее законов, тогда как мнимо чудесным деяниям Иисуса присущ элемент волшебства, от которого сам Иисус неоднократно отрекался. Поэтому, если, с одной стороны, недостаточно даже усиленного воздействия воли на тело, и если, с другой стороны, предположение о втором Адаме как универсальном властителе природы не надежно, то остается лишь признать, что в Иисусе заключаются неведомые силы, и в частности сила внезапно исцеляющая, которая имеет много аналогий. Следовательно, Газе после долгих колебаний и блужданий приходит к некоторому дару "икс", который не имеет никакой связи с религиозной миссией Иисуса и представляется столь же случайным, сколь и загадочным, и, сверх того, подобно вышеупомянутой формуле Шлейермахера, не объясняет даже тех чудес Иисуса, о которых повествует Иоанн.
Поэтому уже в самом начале Иоаннова евангелия, в истории превращения воды в вино на свадьбе в Кане, никакие "неведомые силы" не могут вывести Газе из затруднений, и ему приходится заимствовать у Шлейермахера его увертки и ссылаться на недостаточную ясность рассказа и в довершение всего сделать счастливое открытие, что "присутствие Иоанна среди учеников в данном случае ничем не засвидетельствовано". Здесь некоторой новостью представляется лишь то, что автор, которого мы признали очевидцем, в данном случае признается таковым лишь когда его "присутствие" специально "засвидетельствовано". Однако если Иоанн случайно не присутствовал на свадьбе в Кане Галилейской и, надо полагать, несколько дней спустя снова присоединился к спутникам Иисуса, то он тогда же мог узнать о том, как совершилось пропущенное им угощение вином, и даже "под влиянием позднейших чувств и взглядов не могло, в его глазах, превратиться в неслыханное чудо то, о чем ему было сообщено как о простой свадебной забаве". Но кроме этого чудесного рассказа, записанного одним Иоанном, у него, как и у трех первых евангелистов, мы находим еще рассказы о насыщении толпы и о хождении по морю. Этими рассказами Иоанн ставит в большое затруднение биографа, отрицающего безусловное чудо, ибо заставляет его поверить Иоанну, как очевидцу, в том, в чем не поверил бы другим повествователям, рассказывающим с чужих слов или по слухам. Но где доказательство тому, что в данном случае он был очевидцем? Правда, у Марка и Луки перед рассказом о насыщении толпы упоминается, что апостолы, то есть все ранее разосланные двенадцать учеников Иисуса, вернулись из своей отлучки. Но разве мечтатель Иоанн не мог где-нибудь замешкаться и пристать снова к Иисусу в Капернауме или позднее и, узнав об упомянутых чудесных происшествиях, случившихся в его отсутствие, включить их впоследствии в свое евангелие и рассказать о них в той форме, какую им сообщила молва? Мы видим, что для определенного рода теологов Иоанн – настоящий клад, но он частенько злоупотребляет рассказами о чудесах, и тогда приходится его игнорировать и придумывать для него алиби (отсутствие), чтобы он не "стеснял" и его рассказам можно было верить лишь когда это желательно.
Но Иоанн не только рассказывает много такого, что не угодно нашему "чисто научному" биографу, признающему в нем очевидца; он часто не рассказывает о том, что он мог видеть собственными глазами будучи апостолом, и своим молчанием возбуждает вполне законное недоумение. Если автор четвертого евангелия (Иоанн) собственными глазами видел процесс изгнания бесов, о котором так много и подробно повествуют первые три евангелиста, заслуживающие в этом случае несомненного доверия, и если (что тоже вероятно) соотечественники Иисуса усматривали в этом деянии непреложное доказательство того, что Иисус – Пророк или Мессия, то было большой натяжкой заявлять, что Иоанн об этом важном чуде умолчал, считаясь с утонченным вкусом своих читателей, получивших греческое образование. (Так считает Газе.) Натяжкой было и то предположение, что о душевной борьбе, которую испытал Иисус в Гефсиманском саду и о которой не мог не знать Иоанн, член тесного кружка апостолов, Иоанн умолчал лишь потому, что после первосвященнической молитвы (изложенной в главе 17) молитва скорби и малодушия, произнесенная Иисусом в Гефсиманском саду, "нарушила бы стилистическую цельность его труда"; ведь это значило бы признать Иоанна каким-то беллетристом, который произвольно пишет одно и опускает другое.
Газе, вообще, весьма осторожно относится к речам Иисуса, передаваемым Иоанном; он считает их вольным пересказом и воссозданием того, что из речей Иисуса запало в сердце апостолу и что он бессознательно смешал по истечении полустолетия с собственными мыслями, и чем более эти речи являются прямым развитием понятия Логоса (а таковым они исключительно и представляются), тем более сомнительной становится их историческая ценность". (49) В частности, это говорится по поводу изречений Иисуса о его пресуществовании, которые "научный" биограф не решается использовать. Но тогда, естественно, возникает вопрос: если изречения Иисуса, приведенные в четвертом евангелии, недостоверны, то имеем ли мы там дело с идеями Иисуса (если уж не с подлинными его словами) или с идеями самого евангелиста? А если достоверны лишь те немногие события, очевидцем которых был Иоанн и которые он не разукрасил позднее чудесами, придуманными им самим или другими, то в чем же заключается особенная благонадежность этого евангелия? И если Газе уверяет, что истина апостольского свидетельства не опровергается тем обстоятельством, что сам апостол считал евангельский рассказ о детстве Иисуса поэтической легендой, в которой следы исторического элемента удается открыть лишь с большой натяжкой, ибо свидетельство становится апостольским лишь со времени крещения Иоанна, то мы вынуждены спросить: как в свете такого свидетельства может повыситься кредит евангелий, если три первые евангелия не составлены апостолами, а апостола, написавшего четвертое евангелие, можно лишь в ограниченной мере признать благонадежным свидетелем? (49)
У самого Газе двусмысленность и противоречивость его точки зрения особенно рельефно сказывается в конце жизнеописания Иисуса, в повествовании о его воскресении и вознесении. Сначала Газе пытается усомниться в достоверности смерти Иисуса, так как считает достоверным признаком смерти лишь начальную стадию гниения или разложение какого-нибудь важного для жизни органа, но последнее у Иисуса не наблюдалось, а первое опровергается указанием в Деяниях апостолов (2:27, 31). Поэтому, когда Газе полагает, что он не сходит с почвы правоверия, утверждая, что "органический принцип телесности Иисуса не дошел еще в своем разложении до стадии настоящего гниения", он лишь впадает в самообман. По смыслу евангельских рассказов, как и по современному популярному представлению, душа Иисуса отделилась от его тела и не могла бы снова вернуться в него не через чудо, по мнению же Газе, в нем прекратились только внешние жизненные функции, которые впоследствии снова оживились под влиянием сохранявшейся в нем искры жизни. Далее, относительно причины такого восстановления жизни мы замечаем тот же самообман. Газе говорит: "Можно легко поверить, что смерть как насильственное разрушение, первоначально не была присуща природе бессмертного существа и что она является позднее как последствие греховности, а потому того, кто от грехов свободен, она не поражает, и это противоестество смерти". Но мы уже знаем, что с подобными высокопарными изречениями Газе не приходится серьезно считаться. Его истинное мнение, по-видимому, выражено в следующих словах: "Естественно предположить, что чудесная сила исцеления, которой обладал Иисус, мощно проявила себя также и в нем самом". Но поскольку Газе эту целебную силу в другом месте квалифицировал как дар или талант, то, разумеется, и проявление этого таланта предполагает полную жизненность одаренного им лица, и мы не можем себе ясно представить талант самовоскрешения, поэтому слова Газе склонны понимать в том смысле, что мощь жизненной энергии в Иисусе, избыток которой в продолжении земной его деятельности целебно изливался на других людей, с распятием его на кресте проявилась в форме сопротивления собственному разложению. Но наш "чисто научный" биограф довольствуется даже меньшим. Вместе с Шлейермахером и противореча всему, ранее им сказанному, он заявляет: "Так как Иисус не имитировал сам мнимую смерть, а, наоборот, вполне серьезно готовился умереть, и так как смерть его не могла быть предотвращена человеческими мерами, то воскресение его в любом случае остается очевидным делом Промысла, как бы оно ни произошло". Решив сомневаться, он вполне мог бы сказать "случайность" вместо "Промысла", ибо если бы стражники во исполнение полученного ими приказа перебили голени Иисуса, как другим двум распятым, тогда немыслимо было бы и воскресение в смысле Газе. Из противоречащих друг другу знамений, которые упоминаются в евангельских рассказах о явлении воскресшего, Газе, подобно Шлейермахеру, отвергает те, которые указывают на сверхъестественность и призрачность явившегося, считая их субъективным продуктом страха, который объял учеников перед лицом воскресшего покойника, или пытается объяснить их, как и факт неопознания Иисуса Марией Магдалиной и учениками в Эммаусе, "отсутствием характерных черт лица"; с другой стороны, он признает вполне объективными и историческими те из них, которые отмечают, что тело воскресшего было осязаемо и нуждалось в пище и, следовательно, было вполне естественным человеческим телом.
По поводу последнего момента в жизни Иисуса, его вознесения на небо, Газе еще раз заявляет, что ему представляется "довольно вероятным, что Иисус покинул нашу земную планету каким-нибудь необычайным образом". Но если он не признает необходимость воочию зримого вознесения и в вознесении на небо усматривает лишь мифический перифраз идеи о возвращении Иисуса к Отцу его, то, в конце концов, он, видимо, представляет и воскресшего всеобщей участи всех земнородных, так как жить, много лет скрываясь, не соответствует характеру Иисуса, и так как в истории нет указаний на такую жизнь, поэтому и надо полагать, что Иисус, вероятно, вскоре после своего воскресения скончался. Но это противоречит другому и притом вполне справедливому замечанию Газе, что "в Иисусе хилом и бесприютном апостолы не могли бы признать существо, смертью смерть поправшее". Впрочем, такая придирчивость в отношении к их собственному мнению не нравится теологам означенного сорта, которые в конечном счете стараются нас успокоить замечанием, что и "евангельская история изобилует мистериями". Однако в действительности евангельская история нам в данном случае заявляет прямо и отчетливо, что воскресший не помирал вторично, а зримо или незримо был вознесен на небеса к своему Отцу. Таинственность или, вернее, запрещение додумывать до конца приводит лишь к созданию половинчатой теологии, которая не может верить в вознесение на небо и в то же время не желает допустить естественной, простой кончины Иисуса.
7. МОЯ КРИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЖИЗНИ ИИСУСА.
Отмеченные нами три последние обработки жизни Иисуса – пространный труд Паулуса, "Пособие" Газе и лекции Шлейермахера – были главными и наиболее выдающимися трудами в этой области, когда я тридцать лет тому назад впервые обратился к этому предмету. Ни один из этих трудов не удовлетворил меня, и мне казалось, что никто из этих авторов своей цели не достиг: Паулус вследствие того, что слишком последовательно развивал свой однобокий принцип, а остальные двое вследствие того, что были слишком уступчивы и непоследовательны, хотя на некоторые вещи и глядели правильно. Но главной и общей причиной неудачи, постигшей всех троих, я признал их взгляд на источник евангельской истории. Борьба между сверхъестественным элементом, о котором повествуется в евангелиях, и элементом естественным, которого требует историческая обработка, как единственно пригодного и ценного материала, не могла окончиться, пока все евангелия, или хотя одно из них, признавались историческими источниками в настоящем смысле этого слова. Что они – не исторические документы, это доказывалось уже тем, что в них говорится о явлениях сверхъестественных, а удалением сверхъестественного элемента из евангельских повествований или попыткой представить сверхъестественное как естественное, задавались ведь все предыдущие опыты разработки жизни Иисуса.
Итак, дело тогда заключалось в том, чтобы путем последовательного рассмотрения евангельских рассказов детально показать, что тщетны всё попытки устранить из них посредством объяснений сверхъестественное или затушевать то, что противоречит естественным законам, и что поэтому евангелия не могут считаться в строгом смысле историческими повествованиями. И таковыми они не могут считаться не только потому, что в них содержится сверхъестественный элемент, но и потому, что они друг другу противоречат, не соответствуют установленным фактам истории, и в историческом смысле неправдоподобны. Наконец, необходимо было показать и то, что в тех случаях, когда на сцену выступает что-либо сверхъестественное, гораздо легче уразуметь способы образования неисторичного повествования, чем совершения какого-либо неестественного деяния.
Действуя таким образом, мы выиграли многое в том смысле, что сразу избавлялись от тягостной необходимости совмещать несовместимое, считать и представлять неисторическое историческим и невероятное находить правдоподобным. Но, с другой стороны, мы, видимо, теряли много ценного. Вместо истинного Христа, которого мы, как казалось, обрели в евангелиях, мы, теперь обретали в них лишь относительно позднее представление о Христе; вместо исторических фактов жизни Иисуса мы, как оказывалось, черпали из евангельских рассказов только варианты и осадки мессианских идей той эпохи, которые лишь до некоторой степени конкретизировались воспоминаниями о его личности, учении и судьбах. Точно так же часть речей Иисуса, притом таких, которые всего полнее характеризовали его личные достоинства и приведены в Евангелии от Иоанна, оказывалась продуктом позднейшего времени и позднейшего идейного развития. Так, образ евангельского Христа, доселе казавшийся таким рельефным и определенным, хотя, быть может, и не полным, видимо, стал превращаться в какую-то сумбурную туманную картину.
Несомненно то, что отныне уже нельзя было и думать о составлении картины личности и жизни Иисуса из отдельных евангельских рассказов, как это делалось прежде, когда весь труд биографа сводился лишь к вопросу о том, в каком порядке разместить отдельные элементы, как совместить рассказ одного евангелиста с рассказом другого и, в частности, как примирить Иоанна с тремя его предшественниками. Отныне ни одна евангельская повесть уже не могла, в своем теперешнем виде, считаться историческим рассказом, каждую из них приходилось подвергать критическому испытанию, чтобы затем отделить в ней чуждые примеси от чистого, исторически достоверного ядра. Впечатление от этой операции и ее результатов получилось такое же, какое получается от всякой серьезной критики: казалось, что мы обеднели и даже совершенно обнищали, ибо приходилось поступаться многими, хотя и мнимыми, сокровищами. Если уместно будет сравнить ничтожное с великим, здесь, в более ограниченной сфере познания, происходит то же, что наблюдалось в более обширной сфере в эпоху Кантовой критики. Какой богатой мнила себя старая Вольфова метафизика и как беспощадно вскрыла все ничтожество этого инвентаря априорных представлений "Критика чистого разума"! Но метафизика не пожелала признать себя банкротом и продолжала хозяйничать при помощи своих воображаемых сокровищ, пока ее несостоятельность не стала очевидной для всех и каждого. Кант указал узкую тропу, которая приводила философию к закономерному приобретению вполне надежных представлений; этой тропой пошли его сторонники, и они чувствовали себя удовлетворенными, пока не сходили с указанного им пути. Неудивительно, что результаты нашей критики евангелий тоже не понравились большинству теологов, что они не пожелали расставаться со своим воображаемым богатством и уверяли, будто наша критика ничего серьезного и ценного не дала. Во всем, что было с этой точки зрения написано о жизни Иисуса после нас, приходится усматривать работу арьергарда, и признавать, что дело двинуто вперед лишь теми, кто продолжал идти вышеозначенной узкой тропинкой критики, добиваясь честно приобретенных сокровищ.
8. РЕАКЦИЯ И ПРИМИРЕНИЕ.. НЕАНДЕР, ЭБРАРД, ВЕЙСЕ, ЭВАЛЬД. НОВЕЙШИЕ ОПЫТЫ: КЕЙМ, РЕНАН.
Специально с целью опровержения моей критической обработки жизни Иисуса, Неандер написал свою "Жизнь Иисуса Христа". Уже добавка слова "Христа" очень характерна для этой книги. К чисто человеческому личному имени было добавлено наименование, обозначающее сан и титул данного лица, и предполагалось создание ортодоксального противовеса той рационалистической тенденции в обработке жизни Иисуса, которая сказалась в избранном мною наименовании и приводила к результатам отрицательного характера.
Написанная Неандером "Жизнь Иисуса Христа" снабжена тремя эпиграфами, заимствованными у Афанасия, Паскаля и Платона: автор призвал на помощь всех добрых героев теологии и философии, увидев свое затруднительное положение. Не хватает лишь еще такого эпиграфа, который характеризовал бы дух самой книги и который, по нашему мнению, автору следовало заимствовать из Библии, а именно из Евангелия от Марка (9:24): "Верую, Господи! помоги моему неверию". В лице Неандера критика встретила сопротивление, энергия которого была внутренне ослаблена вследствие некоторого тайного согласия с критикой; его можно уподобить крепости, в которой половина гарнизона перешла на сторону осадившего ее противника. Направление Неандера, в общем, правоверное; он видит в Христе посредника между Богом и человечеством и в противовес критике рассудочной говорит о критике душевной; однако в нем заметно философское образование, хотя оно и не свободно от той фантастичности, которая присуща натурфилософии и романтизму (53). С другой стороны, в обширных историко-церковных работах ему нередко приходилось поневоле заниматься исторической критикой, и искренняя жажда правды, хотя и не свободная от самообмана и благочестивой партийности, удерживала его от крючкотворской манеры других авторов, которые, не желая ни в чем уступить противнику, внешним образом цепляются даже и за то, во что они ничуть не верят внутренне. Такая книга, как написанная Неандером "Жизнь Иисуса Христа", может вызвать сочувствие, да и сам автор сознается в предисловии, что он чувствует, что книга отмечена печатью эпохи кризиса и изоляции, страданий и невзгод, в которой она создавалась.
В своей беспомощности Неандер, где только можно, ссылается на "великого богослова", то есть Шлейермахера; но мы уже достаточно наглядно показали, как ненадежен этот костыль и как легко он может искалечить руку, которая на него обопрется, в деле исследования жизни Иисуса. Теолог, обладающий чувствительной натурой и платонически-романтической образованностью Неандера, не может не предпочитать Евангелие от Иоанна всем прочим евангелиям, и так как в этом отношении он находит себе единомышленника в лице "великого богослова", сторонника неумолимо строгой критики, то он считает себя застрахованным от скептицизма слишком "крайней" критики. Всех евангелистов Неандер считает Богом вдохновенными писателями, но полагает, что эта вдохновенность не парализовала в них человеческого развития и сказалась лишь на религиозном, а не на историческом содержании их повествований, как будто религиозный элемент в этом случае может быть отделен от элемента исторического. Таким образом, получается нечто вроде эклектического метода, тенденция которого клонится к тому, чтобы убрать с дороги наикрупнейшие "соблазны", на которые наталкивается в евангельской истории современный мыслитель, чтобы тем легче было отстоять все прочее, как исторически достоверное, против атак мифической интерпретации. Автор пытается примирить современный образ мысли с чудесами Иисуса, указывая на отличие обыкновенного естественного процесса от более "высокого" процесса, вполне соответствующего чудесам, и заявляя, что, несомненно, в будущем будут открыты новые законы природы, которыми и можно будет объяснить чудесное. В чудесном превращении воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской он видит "потенцирование" (возведение) воды на степень "виноподобной" силы, по аналогии с образованием минеральных вод;