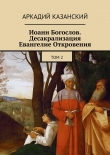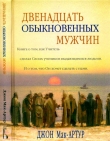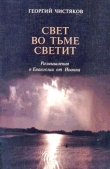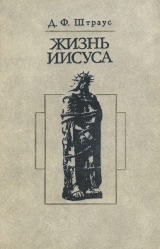
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 55 страниц)
Ввиду означенной проблемы третьему евангелисту пришлось считаться, с одной стороны, с тем обстоятельством, что, согласно сохранившемуся историческому сказанию, Иисус родился и проживал в Назарете, а с другой стороны, согласно догматическому предположению, приходилось утверждать, что Иисус-Мессия родился в Вифлееме. Мы не знаем, был ли евангелисту известен рассказ Матфея о рождении и отрочестве Иисуса, а если да, то, вероятно, он подумал про себя, что старейший его коллега по перу, Матфей, слишком уж упростил задачу. Он должен был спросить себя: как очутились родители Иисуса в Вифлееме? Ответ Матфея, что они издавна и постоянно проживали там, ему должен был показаться произвольно предрешенным. Их прибытие в Вифлеем Лука мог, в крайнем случае, мотивировать предположением о том, что явился ангел и велел Иосифу отправиться вместе с Марией в Вифлеем, дабы исполнилось пророчество Михея (к чудесным появлениям ангелов Лука питает такое же пристрастие, как и Матфей). Но такой выход Луке все же должен был казаться слишком искусственным и неожиданным, к тому же ангела пришлось ему выводить на сцену уже раньше, при благовещении об Иисусе и его Предтече, да и позднее, при рождении Иисуса, тоже еще предстояло призвать на помощь ангелов. Поэтому Лука, вероятно, предпочел мотивировать перемещение родителей Иисуса естественной причиной, историческими обстоятельствами данной эпохи, тем более что такое объяснение ничуть не исключало предуказаний божественного промысла. Наконец, в этом случае автор имел возможность отметить, что ему известно то, чего не ведали другие авторы евангелий, а именно что он знаком с историей и древностями не только иудейскими, но и римскими. Что Лука действительно не прочь был обнаружить свою эрудицию, это мы видим не только из данного рассказа, но также из его попытки хронологически определить момент выступления Предтечи (3:1 исл.) и из тех исторических экскурсов, которыми он изукрасил речь Гамалиила в Деяниях апостолов (5:34-39). Впрочем, все эти доказательства эрудиции евангелиста свидетельствуют лишь о том, что исторические познания его не отличались ни точностью, ни глубиной. Так, в евангелии он заявляет, что в 30-х годах по Р. X. в Авилинее правил некий Лисаний, который в действительности был убит уже за 30 лет до Р. X. Подробнее об этом, а также в связи с другими ссылками в настоящей главе см. в 1 томе первого издания моей книги "Жизнь Иисуса". В другом месте (в Деяниях) он устами одного из членов иерусалимского синедриона, Гамалиила, упоминает как о факте прошлого об одном восстании, которое случилось 10 годами позднее того времени, когда произносил свою речь Гамалиил; а вслед за тем как о последующем событии говорит о другом мятеже, который случился 30 годами раньше первого, а именно Гамалиил во времена Тиберия говорит: "Незадолго перед сим явился Февда" (Деян. 5:36), а затем рассказывает о восстании Февды так, как говорит о нем Иосиф Флавий, однако нам доподлинно известно, что восстание Февды случилось тогда, когда наместником был Куспий Фад, который в Иудею был послан Клавдием (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XX 5,1). Затем Гамалиил продолжает: "После него (Февды) во время переписи явился Иуда Галилеянин". Но в данном случае речь идет об известной Квириниевой переписи, произведенной после смещения Архелая Августом. Но, разумеется, теологи столь же любезно и предупредительно относятся к своим "священным" авторам, как на стрельбищах метчики относятся к высокопоставленным особам;
сколько бы промахов они ни сделали, метчики неизменно удостоверяют, что они в мишень попали. Точно так и в данном случае являются на сцену некий Лисаний попозже, а некий Февда пораньше, чтобы не уронить достоинства исторических знаний Луки или даже самого Святого Духа. Но если автор трижды пытается блеснуть своей исторической начитанностью (о третьей попытке сказано будет ниже) и трижды столь решительно "проваливается", что толковникам приходится потратить много сил и времени, чтобы затушевать его промахи, то, стало быть, начитанность и ученость евангелиста не так уж значительны.
Впрочем, автор не совсем несведущ в области истории: он имел понятие о "переписи", то есть о том римском цензе, осуществление которого так взволновало в то время иудеев и послужило поводом к восстанию Иуды Галилеянина. Неудивительно, что об этой переписи он вспомнил именно тогда, когда ему пришлось переселять родителей Иисуса, живших в Назарете, в Вифлеем, где надлежало родиться Иисусу-Мессии. Если эта перепись вызвала такую смуту и волнение в народе, то разве не могла она побудить и родителей Иисуса предпринять столь желательную для евангелиста поездку в Вифлеем? К тому же всякая перепись вообще способствует передвижению и переселению различных групп населения, а данная перепись могла евангелисту показаться очень подходящим предлогом, потому что по части хронологии он был нетверд, перепись он относил (в Деяниях апостолов) ко времени события, которое случилось тридцатью с лишним годами позднее, и, стало быть, он перепутал хронологию либо в одном, либо в другом случае или, вернее, в обоих случаях. Правда, в своем евангелии (2:1 исл.) он по части переписи обнаруживает большую осведомленность, чем в Деяниях; он замечает (и историографией это подтверждается), что эта перепись была "первой", произведенной римлянами в Иудее, вследствие чего она и повела к восстанию Иуды. (274) Далее Лука сообщает, что она была исполнена Квиринием, правителем Сирии, что подтверждает также Иосиф Флавий. Наконец, ему известно, что перепись эта состоялась в силу повеления кесаря Августа, который пожелал "сделать перепись по всей земле", то есть по всей Римской империи.
Относительно последнего заявления Луки следует заметить, что оно не подтверждается, ибо никто из более ранних писателей, современников Августа, не упоминает, чтобы этот император повелел произвести общеимперскую перепись. Светоний, как и Дион Кассий, и "Памятник Анкирский" сообщают лишь о многократных частных цензах народа, то есть римских граждан, и лишь источники значительно более позднего периода (конца V в. по Р. X.) говорят о переписи и измерении всей империи, и говорят об этом словами, свидетельствующими о зависимости от цитированного Луки. (274) Возможно, что евангелист в данном случае допустил преувеличение, предполагая, что повелителю римского мира приличествует издавать лишь "мировые" декреты или что родителей Спасителя мира могло побудить отправиться в Вифлеем только событие взволновавшее весь мир. Еще и сейчас христианский правовед Хушке говорит о "внутренней исторической необходимости" не только проведения имперской переписи при Августе, но и совпадения ее с рождением Христа, поскольку именно в тот момент, когда Август посредством имперской переписи утверждался как "новый земной Адам, должен был родиться Спаситель мира как второй небесный Адам". "Должно ли еще беспокоить нас,– добавляет этот правоверный человек, – что возражающие нам указывают на то, что эта всеобщая перепись не упоминается ни в одном современном или просто надежном историческом источнике?" Конечно нет, особенно если вычитать эту перепись в лакунах Диона Кассия и Анкирского памятника! Беда лишь в том, что перепись произведена была в Иудее не в то время, которое указывает евангелист. Выше уже было сказано, что, когда Архелай лишился сана народоправителя (этнарха) Иудеи и Самарии и область его была присоединена к провинции сирийской, наместник этой провинции, Квириний, по повелению императора распорядился произвести перепись (ценз) жителей и их имущества в целях обложения их податью (См.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVII 13,5; XVIII 1,1). Но к этому времени Иисусу было уже не менее семи лет от роду, если верить свидетельству Матфея (2:1) и Луки (1:5), что Иисус родился "во дни Ирода, царя Иудейского". Следовательно, перепись Квириния произведена была в действительности слишком поздно, чтобы к ней можно было приурочить отбытие Марии в Вифлеем для рождения Иисуса.
Но, может быть, перепись произведена была в Иудее 10 годами раньше? Допуская это, мы приходим к. выводу, что Лука смешал областную перепись с общеимперской и перепись раннего периода с переписью позднейшего времени. В таком случае Лука повинен не только в хронологической ошибке: более ранняя перепись, вопреки Луке, не могла произойти при Квиринии, правителе Сирии, так как Квириний назначен был наместником в Сирии много лет спустя после смерти Ирода. Далее, о переписи ничего не говорит Иосиф Флавий, который весьма подробно повествует об этом времени, да и римляне производили перепись обычно лишь тогда, когда какую-нибудь область им удавалось всецело отобрать у местных повелителей и подчинить римскому управлению, а перепись Квириния, состоявшаяся после свержения Архелая и вызвавшая смуту в народе, по-видимому, принадлежала к числу цензов, впервые произведенных римлянами среди евреев. Допустим, однако, что по той или иной из причин (указанных Иосифом Флавием) римляне в виде исключения (об исключениях подобного рода упоминает Тацит) действительно произвели перепись в Иудее, прежде чем последняя окончательно превратилась в римскую провинцию. В таком случае ценз этот должен был производиться обычным порядком и с такой целью, с какой цензы обыкновенно производились у римлян. Но Лука сообщает (2:3), что по приказу императора во время переписи "пошли все записываться, каждый в свой город", то есть каждый пошел в тот город, в котором прописан был его род, вследствие чего и сам Иосиф отправился в Вифлеем, город Давидов, потому что там 1000 лет назад родился его родоначальник Давид. Не подлежит сомнению, что так поступали иудеи при своих всенародных переписях, ибо иудейская государственность, по крайней мере в древности, покоилась на родовых и племенных началах. Но римляне преследовали статистико-финансовые цели, производя цензы (перепись) в провинциях, и не руководствовались при этом ни родовыми, ни племенными соображениями. По свидетельству наиболее достоверных источников, сельчане у римлян призывались в областные города и вообще всякий обыватель призывался в тот город, в котором числился гражданином его родной или названый отец. Весьма невероятно, чтобы оставшиеся в живых потомки Давида (а в том числе и сам Иосиф, если признать его потомком Давидовым) продолжали еще считаться гражданами Вифлеема после всех тех перемен и пертурбаций, которые произошли за тысячелетний период времени, и после того, как они уже успели расселиться по более или менее отдаленным областям. Нам могут указать на то, что римляне при производстве переписей на окраинах подстраивались к обычаям подвластных им народов. Но, вероятно, они даже и в подобных случаях все-таки не упускали из виду преследуемых целей, и данному предположению противоречит наш случай, когда человек (Иосиф) для дачи показаний о себе лично, о своей семье и своем имуществе является из отдаленной Галилеи в Вифлеем, где не было почти никакой возможности проверить правильность его цензовых показаний.
Далее, по словам Луки, Иосиф отправляется в Вифлеем не один, а вместе с обрученной с ним Марией, чтобы вместе с нею записаться (2:5). Но подобная совместная явка была не нужна по законам римским и иудейским. Из Ветхого завета нам известно, что при иудейских переписях женщины постоянно игнорировались, а относительно римских цензов известно, что, по закону Сервия Туллия, римский гражданин вовсе не обязан был приводить на перепись своих женщин и детей, а должен был лишь заявить о них; личного привода женщин не требовал римский закон также и от обитателей провинций. Стало быть, если Мария и отправилась в Вифлеем, то лишь по собственному желанию или по предложению Иосифа, да и вообще вся их поездка представляется актом их доброй воли, потому что, вопреки Луке, ничто не заставляло их ехать в Вифлеем. Перепись Квириния не могла понудить их к этой поездке, потому что она произошла десятью годами позднее, а относительно другой, более ранней переписи нам ничего не известно, не говоря уже о том, что такая перепись не соответствовала данным обстоятельствам. Перепись Луки не была ни римским цензом, потому что римский ценз не стал бы призывать галилеянина в Вифлеем, ни переписью иудейской, потому что при иудейской (как и римской) переписи Марии можно было преспокойно оставаться дома. Стало быть, самих родителей Иисуса никакая видимая причина не понуждала предпринимать эту поездку, да еще в такое время, когда Мария уже была беременна. Но евангелисту очень важно, чтобы они поездку эту совершили, и, хотя момент поездки для них был неудобен, он был удобен для него, чтобы он мог заявить, что Иисус родился в городе Давидовом и поэтому одно из самых главных требований, предъявляемых Мессии, им фактически выполнено.
3. Иисус-Мессия, подобно Давиду, помазуется на служение пророком.
56.
Чтобы быть вторым Давидом и в то же время превзойти его, Мессия должен был не только происходить от семени Давидова и родиться в городе Давидовом, но также получить еще помазание на царство от Бога через какого-нибудь пророка. Давида помазал на царство Самуил миром, которым он раньше помазал и Саула, первого царя. По случаю помазания Давида Бог повелел Самуилу пойти в Вифлеем и обещал ему там указать, кого из сыновей Иессея он избрал на царство (1 Цар. 16: – 13), Саулу же, наоборот. Бог повелел явиться к Самуилу, которому он указал на Саула как на избранника, заслужившего помазание миром (1 Цар. 9:15-16).
Но этот Давидов прообраз для посвящения Мессии был подменен другим представлением в эпоху, последовавшую за вавилонским пленением. Народу, предавшемуся несчастью, предстоял Страшный суд Иеговы но до суда, по словам пророка Малахии (4:5), Иегова еще раз попытается исправить и спасти народ свой, послав ему пророка Илию, который своей мощной проповедью подготовит людей к суду Божию и "представит Господу народ приготовленный" (Лк. 1:17). Илия был тот глашатай, который приуготовит пути Господу (Мал. 3:1); о нем же возвещал и глас, услышанный вторым Исаией (40:3) в конце периода изгнания в пустыне. Пришествия Илии, который должен был возродить всех заблуждавшихся и нравственно упадших, всякий благочестивый израильтянин стал ждать с нетерпением и называл блаженными тех, кто его увидит (Сир. 48:11), и так как в народе сложилось мнение, что после Илии придет не сам Иегова, а Мессия, то Илия был признан предтечей Мессии (Мф. 17:11); ему же надлежало совершить над Мессией то, что совершил Самуил над Давидом, то есть помазать его и при этом объявить ему, а также и другим, что он предназначен для высокой миссии, как Самуил возвестил Давиду о предуготованной ему роли. Об этом говорит Трифон Иудей в Юстиновом "Диалоге" (8,49) как о распространенном среди еврейского народа ожидании.
Что Илия воскрес и помазал Иисуса, этого не знал, да и не решался утверждать никто; поэтому всем, кому хотелось приписать Иисусу также эту мессианскую примету, приходилось искать среди людей, знавших Иисуса, человека, который походил бы на Илию и совершил бы над Иисусом манипуляцию, аналогичную миропомазанию пророка. Самым подходящим для этого лицом оказывался Иоанн Креститель, который незадолго перед выступлением Иисуса стал очень популярной личностью. Он проповедовал в пустыне иудейской и поэтому мог сойти за "глас вопиющего в пустыне", о котором говорил Исаия. Он призывал покаяться, ибо царство небесное уже близко, и, следовательно, он приуготовлял путь Господу. Он вел суровую аскетическую жизнь и мог быть и в этом отношении приравнен к Илии Фесвитянину. Правда, Иисуса он не помазал миром, а крестил водой; но и такое крещение могло сойти за миропомазание, так как вся эта церемония совершена была над Иисусом не для того, чтобы он изменил свои помыслы, а для того, чтобы посвятить его на мессианский подвиг и приуготовить к этому призванию. Христианское крещение в силу осуществляемого им духовного причащения иногда трактовалось как "помазание". См. I Послание Иоанна (2:20,27).
Крестителя, подвизавшегося на берегах Иордана, нельзя было послать к Иисусу в дом, как послан был Самуил в дом Давида, чтобы помазать его на царство; наоборот, Иисус должен был явиться сам к Крестителю на Иордан, что он и исполнил. Чтобы крестить Иисуса (Мф. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:2-22; Ин. 1:32-34), Иоанну не требовалось специального повеления от Бога, какое некогда дано было Самуилу, потому что он крестил вообще всех, обращавшихся к нему, но крещение Иисуса должно было иметь особое значение: оно должно было сообщить ему необходимые силы и способности для предстоящего мессианского подвига, так как крещение это было равносильно миропомазанию. Совокупностью таких божественных сил и способностей или, точнее говоря, передатчиком и насадителем их в человеке, по убеждению иудеев, был Дух Божий. Когда Самуил помазал Давида в кругу его братьев (1 Цар. 16:13), говорит Святое Писание, дух Иеговы вселился в Давида в тот же час. Об отпрыске корней Иессеевых о Мессии, Исаия (11:1-3) прорицал, что на нем почиет дух Иеговы, дух премудрости и разумения, дух совета и могущества, дух познания и страха Божьего.
В Ветхом завете преимуществом особо избранных угодников Божиих, царей и пророков (Ис. 61:1) признавалось то, что на них сходил Дух Божий, и сказывалось это в повышенном вдохновении. Эта черта в новоявленной общине Мессии стала общим достоянием, так как, согласно пророчеству Иоиля (3:1), через крещение, совершаемое во имя Иисуса, и через возложение рук от апостолов крещаемым сообщался дар Святого Духа (Деян. 2:38– 8:17; 19:5-6; Рим. 8:9; Гал. 3:2). Естественно, что от такого вторичного низведения Святого Духа на христиан первичное сошествие Святого Духа на Христа должно было во многом отличаться:
оно должно было не только проявиться в каком-либо необычайном результате, но также и принять характер чудесного внешнего происшествия. Естественным символом Духа Божия всегда считался огонь. Иоанн Креститель предрекал (Мф. 3:11), что идущий вслед за ним будет крестить "Духом Святым и огнем". Поэтому Христос, вознесясь на небо, ниспослал Св. Дух на апостолов сначала в виде раздельных огненных языков, а потом он незримо стал передаваться через рукоположение (Деян. 2:3), а в евангелии, которым пользовался Юстин, было сказано, что при крещении Иисуса воды Иордана загорелись огнем. (278) Кроме огня в Ветхом завете мы находим еще другой символ Духа Божия. В Св. Писании сказано, что на отпрыске Давидовом Дух Божий будет "почивать", что он "сойдет" на него свыше. Перед сотворением мира Дух Божий витал над первозданными водами (Быт. 1:2), а древнеиудейские толковники добавляют: Дух Божий витал над миром, как голубица витает над своими птенцами, не прикасаясь к ним. Над водами, затопившими землю во времена Ноя, тоже витала голубица (Быт. 8:8-12), и так как противоположностью всеуничтожающего потопа христиане признавали спасительную воду крещения (1 Пет. 3:20-21), которая сопоставлялась также с водой первозданной, то вполне естественно возникла мысль о том, что голубица появилась при крещении Мессии-Иисуса, отметив собой высокое значение этого акта. Символическое значение голубицы и агнца было хорошо известно христианам (Мф. 10:16), и этими символами кротость христианского учения определялась гораздо выразительнее, чем огнем (Лк. 9:54-56).
Евангелие Евреев утверждает, что Дух Божий в виде голубицы не только витал над Иисусом, но и вошел в него, но эбиониты, которые в противоположность позднейшему учению церкви утверждали, что Иисус был просто человеком, старались, разумеется, возможно нагляднее подчеркнуть его возвышенное естество. Также и в наших трех первых евангелиях рассказ о крещении Иисуса в своей первоначальной версии как и родословии Иисуса проникнут еще той идеей, что Иисус был человек, естественным путем рожденный. Но и при этой точке зрения евангелисты сочли возможным отрешиться от нелепого поверья в то, что голубица вошла внутрь Иисуса (вероятно, через рот), ибо и простое витание голубицы над его главой, о чем Иоанн говорит прямо и что другие евангелисты (согласно изречению Исаии, 11:1), видимо, подразумевают, могло сослужить им требуемую службу: оно символизировало
Юстин. Диалог с Трифоном, 88. постоянство, если и не имманентность божественного естества в Иисусе.
То обстоятельство, что голубица появилась из разверстого неба причем, по словам Евангелия Евреев, все место осветилось ярким светом, показывает, что эта голубица была не заурядной птицей, а существом высшего порядка. Однако эпизод этот являлся лишь немою сценой и требовал более или менее яркого освещения или изъяснения. Его мог представить Иоанн Креститель, которому надлежало указать, что это сошествие Святого Духа на Иисуса обращает его в Мессию и наглядно утверждает его в этом звании. Многим казалось, что это разъяснение взято из Ветхого завета, где сам Иегова устами псалмопевца (2:7) заявляет: "Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя". Что это изречение относилось к кому-то из царей израильских и обращало его в наместника Божия, это вполне очевидно и бесспорно, но для нас не представляет никакого интереса вопрос о том, кто именно из царей подразумевался псалмопевцем в данном случае. Наоборот, в Новом завете это изречение неоднократно (Евр. 1:5, 5:5; Деян. 13:33) относится к Иисусу и истолковывается в смысле указания на то, что он есть Мессия или сын Божий в высшем смысле этого слова. Такое указание было дано в псалме Давидом (Деян. 4:25) по повелению от Бога, поэтому вполне естественно, что Богу надлежало самолично подтвердить это теперь, когда настало время исполнить обетование. Небо разверзлось, чтобы дать сойти Духу Божию в виде голубицы, поэтому из отверстого неба мог послышаться и глас Божий, подчеркнувший высокое значение всей этой сцены известным изречением Божиим о Мессии.
Тут мы предполагаем, что глас с неба говорил ту фразу, которую цитирует Юстин из "Достопамятностей апостольских" по псалму 2:7: "Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя" (Диалог с Трифоном, 88,103). Так это изречение читали многие из позднейших отцов церкви, а в одном из наших рукописных евангелий данное место евангелиста Луки формулируется точно так же. В Евангелии Евреев Епифания эта форма уже сочетается с формой наших евангелистов;
так глас небесный сначала говорит так, как он говорит у Луки: "Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение", а затем прибавляет: "Тебя я родил ныне". Пораженный блеском света, появившегося при этих словах, Креститель спрашивает Иисуса: "Кто ты, Господи?", на что глас небесный отвечает, как у Матфея: "Сей есть сын мой возлюбленный, в коем мое благоволение". Что именно заставило сначала переставить слова "ныне я тебя родил", а потом и вовсе их отбросить, это мы узнаем из толкований Юстина, который говорит, что эти слова не значат, будто Иисус стал сыном Божиим лишь в тот момент; после крещения от Иоанна Иисус стал сыном Божиим не объективно, а субъективно, в представлении людей. Означенные слова отлично подходили к тому взгляду, который, как мы показали, лежит в основе родословий у Матфея и Луки и который мы позднее встретим еще у Керинфа и эбионитов,– что Иисус был естественно рожденным человеком, которому сообщилось высшее свойство при крещении. Но если мы, подобно авторам трех первых евангелий, а также Юстину, будем утверждать, что Иисус зачат был от Святого Духа, то вышеозначенные слова теряют всякий смысл и должны быть искусственно истолкованы или совершенно опущены. Но так как в последнем случае пришлось бы расстаться с небесным гласом, решено было ухватиться за Другое изречение Иеговы, которое тоже истолковывалось в мессианском смысле (Ис. 42:1) и которое Матфей применительно к Иисусу в другом месте (12:18) формулирует так: "Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя". Со сценой крещения это изречение вполне гармонировало, так как Иегова далее заявляет, что на него, возлюбленного отрока, он "положит" дух свой (хотя под отроком возлюбленным пророк, очевидно, разумел народ израильский). Сходство с изречением пророка особенно наглядно сказывается в той версии гласа небесного, которую находим у Матфея (сей есть сын мой возлюбленный), тогда как исключенное изречение псалмопевца всего более напоминает версию Марка и Луки (ты сын мой возлюбленный).
Строго говоря, не одно лишь это изречение псалмопевца пошло в разрез с изменившимся воззрением на личность Иисуса. Если Иисус был зачат и рожден от Святого Духа, то зачем же Дух сходил на него впоследствии? Если он был сын Божий (о том, что он представлял собой Божественное Слово, или Логос, мы пока не говорим), то можно ли было сообщить ему еще какие-то высшие и совершеннейшие свойства Божества? Да и приличествовало ли сыну Божию принять крещение покаяния от Иоанна? "Чтобы устранить этот последний соблазн", автор первого евангелия (Мф. 3:13-15) дополнил сцену крещения следующим диалогом: явившегося креститься Иисуса Иоанн хочет "удержать" или отговорить от этого намерения замечанием: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?", но Иисус ему возражает на это:
"Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" (то есть оправдать ожидание, основанное на мнимых прообразах и пророчествах о том, что второй Илия придет и помажет Мессию).
После устранения недоумения о неприличии крещения оставалось еще противоречие между последующим сообщением даров Святого Духа и первичным зачатием от Святого Духа, и это противоречие стало теперь выступать еще резче. Если Креститель и возражал против крещения Иисуса до акта крещения и тех чудесных знамений, которыми оно сопровождалось, то он должен же был знать, и знал заранее, что Иисус "сильнее" его, что он Мессия, ибо он сам же признает (Мф. 3:11), что ему "надо креститься" от Иисуса Духом Святым и огнем; следовательно, означенные чудесные знамения совершались не для него. Крестителя, а для народа или для самого Иисуса. По первоначальному смыслу повествования чудеса, ознаменовавшие крещение, относились к Иисусу и имели вполне реальную цель – наделить его дарами Духа Божия, но такой смысл знамений исключается более высоким взглядом на личность Иисуса; поэтому Матфей и Марк изображают этот эпизод в виде зрелища или манифестации, преподнесенной Иисусу (неведомо зачем), а также и Крестителю, тогда как у Луки, даже воплотившего голубицу, свидетелями-очевидцами этих чудес являются все присутствующие. Такое изложение не могло удовлетворить четвертого евангелиста, который полагал, что Христа уже нельзя было наделить какими-либо дарами или свойствами, которыми он не обладал бы предвечно, будучи божественным Логосом; поэтому он находил, что чудесные крещенские знамения относились не к Иисусу, а к Крестителю, и имели целью убедить последнего, что Иисус есть сын Божий. Но внушать ему такое убеждение необходимо было лишь в том случае, если бы он не знал заранее, что Иисус – сын Божий, и в данном случае разъяснение четвертого евангелиста противоречит словам первого евангелиста (Ин. 1:29-34). Но при такой версии отпадал и глас небесный, который у евангелиста заменен простым указанием на то, что о грядущем знамении Креститель уже знал от Бога.
Понимая евангельский рассказ о чудесах, сопровождавших крещение Иисуса, исторически, то есть в смысле и духе самих евангелистов и их времени, и не считая его по этой именно причине рассказом историческим мы избавляемся от множества неразрешимых недоумений и противоречий, с которыми встречаются теологи, пытающиеся истолковать их при предположении, что данный эпизод есть историческое, достоверное событие. Одни из них стремятся объяснить чудо в смысле видения, которое Бог будто послал Крестителю и Иисусу; другие предполагают, что над Иисусом случайно пролетела настоящая, вполне реальная голубица; третьи утверждают, что в данном случае имело место атмосферное явление, гроза с молнией и громом, который принят был за глас небесный. Однако все это – мелочь сравнительно с главным вопросом: зачем же сыну Божию, зачатому от Святого Духа, надо было дополнительно сообщать дары Святого Духа? Этот вопрос, с нашей точки зрения, разрешается легко и как бы сам собою, а теологам приходится решать его при помощи парадоксов и ухищрений, поражающих своей нелепостью. Одни при этом заявляют, что в Иисусе пребывал предвечно сын Божий, но Дух Святой, третье лицо Божества, вступил с ним в некоторую новую связь, которая отличалась от единосущности Бога-Духа, Бога-Сына и Бога-Отца. Другие уверяют, что Иисусу был врожден Святой Дух как начало жизни, но при крещении он сообщился ему как дух его призвания или миссии. Наконец, третьи говорят, что Иисус извечно сознавал себя сыном Божиим, но лишь в момент крещения наделен был силой показать себя сыном Божиим перед очами всего мира. Все эти объяснения представляются лишь жалкими софизмами и бессодержательными абстракциями, о которых, вероятно, и сами интерпретаторы не отдавали себе ясного отчета.
Итак, евангельский рассказ о происшествиях, отметивших крещение Иисуса, со всеми добавлениями, возникшими на почве иных, отличных представлений, в главных своих чертах подсказан был желанием показать, что Иисус, сын Давидов, получил помазание и соответствующие дары Святого Духа свыше, как предок его, Давид, получал их через Самуила. Это желание проявилось у одного из евангелистов в очень наглядной и определенной форме. Как книга Самуила, в которой главным действующим лицом является Давид, исходит из истории рождения Самуила, а не Давида, так и Лука предпосылает истории благовещения и зачатия Иисуса историю его Предтечи, причем нисколько не скрывает, что он кому-то подражает. (281) Поэтому здесь было бы уместно выяснить происхождение рассказов о детстве Крестителя, но так как они тесно сплетаются с рассказами о благовещении и рождении Иисуса и их приходится рассматривать в связи с последними и так как история рождения Иисуса изложена в евангелиях не с точки зрения родства его с Давидом, а с точки зрения его родства с Богом-Отцом, то и нам приходится этому вопросу отвести особую главу в нашем исследовании.
2 группа мифов: Иисус – сын Божий.
1. Иисус, вне всякого участия со стороны мужчины-человека, зачат Марией от Святого Духа.
57.
Как было выше сказано, христианское учение в своей морально-религиозной основе возникло из иудаизма, когда последний уже успел в процессе истории проникнуться до насыщения различными инородными и, главным образом, греческими образовательными элементами. То же следует сказать и о представлении о том, что Иисус есть сын Божий, ибо оно, хотя и не является духовной основой христианского учения, все же определяет собой его форму. Наименование Иисуса Мессией утверждалось на базе древнего иудаизма, и в действительности, как было отмечено выше, оно имело только иносказательный, фигуральный смысл, которым не исключалось представление об Иисусе как подлинном человеческом сыне. То, что Иисус стал признаваться истинным сыном Божиим без человеческого отца, объясняется влиянием языческих представлений на общее мировоззрение древних христиан.