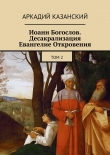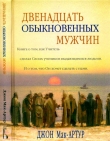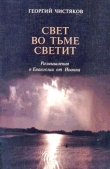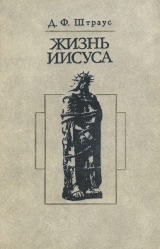
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 55 страниц)
По отношению к самарянам Иисусу было тем легче преодолеть в себе иудаистские предрассудки, чем менее он сам дорожил храмом и культом Иерусалимским, ибо существование и соперничество храма на горе Гаризим являлось одной из главных причин злобствования иудеев против самарян. Согласно четвертому евангелию (4:21-23), Иисус говорил: "Наступает время, когда и не на горе сей (Гаризим), и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине". Но это изречение в своем современном виде, как было замечено выше, исторически не достоверно; оно сформулировано автором евангелия в духе исторических и религиозно-философских воззрений позднейшего времени; тем не менее по своей тенденции оно едва ли многим разнится от того строя идей, которого придерживался Иисус. Можно допустить, что, решив отправиться на праздник в Иерусалим, Иисус пожелал уважить общенациональный предрассудок и, может быть, в сообществе с другими галилеянами пошел туда не ближайшим путем через Самарию, а окольным путем через восточно-иорданскую область, как сообщают Матфей и Марк. Правда, Лука говорит (17:11), что Иисус, "идя в Иерусалим... проходил между Самариею и Галилеею" (то есть через Самарию); но это сообщение Луки слишком неопределенно и противоречиво и потому не имеет исторического значения, тем более что столкновение с самарянами, о котором он рассказывает (9:52-53), могло случиться и ранее означенного путешествия при каком-либо из прежних переходов через самарянскую границу (сообщение о подготовке помещения для Иисуса в расчет не принимается). Однако можно допустить и то, что на сообщении Матфеева евангелия отразилось влияние иудаистских предрассудков той среды, в которой это евангелие сложилось и для которой оно было предназначено, и что сообщение Луки, хотя и сбивчиво, но, в общем, вполне верно. Во всяком случае, рассказы о милосердом и о благодарном самарянах (Лк. 10:30-37; 17:11-19), как и рассказы о язычнике сотнике капернаумском и о язычнице хананеянке, свидетельствуют об одном и том же, а именно о том, что опыт с самарянами побудил Иисуса противопоставить их своим соплеменникам иудаистам, чтобы примером первых пристыдить последних. Нельзя, конечно, отрицать того, что подобные, для самарян благоприятные, рассказы в интересе сближения с язычниками могли быть задним числом приписаны Иисусу и введены в Евангелие Луки, написанное в духе павликиан (чудесный характер самого рассказа о благодарном самарянине ясно показывает, что он явно "сочинен"). Но, с другой стороны, взгляд Иисуса на самарян, который обрисован в означенных рассказах, вполне правдоподобен в историческом смысле, и тот факт, что эти рассказы встречаются лишь в третьем евангелии, не может служить основанием к тому, чтобы отвергать их по существу.
Итак, воззрения Иисуса в этом отношении развивались, очевидно, так (и в этом я согласен с Кеймом): вначале он, по-видимому, предполагал, что его миссия должна распространяться только на тот народ, среди которого он вырос и с которым его связывала вера в единобожие и ветхозаветное откровение; но потом, когда он ближе познакомился с местным и окрестным языческим населением и самарянами, соседями галилеян, он стал убеждаться все более и более в их поразительной восприимчивости, с одной стороны, и в безотрадной закоснелости иудеев – с другой, поэтому он стал включать в сферу своего воздействия и язычников и наконец пришел к мысли, что их массовое вовлечение в основанную им общину вполне допустимо и желательно. Однако в этом направлении он сам еще не делал никаких практических шагов, а предоставил это дело времени и естественному развитию обстоятельств.
37. ОТНОШЕНИЕ ИИСУСА К ИДЕЕ МЕССИИ.
Когда мы обрисовывали своеобразное религиозное сознание Иисуса, не касаясь пока ни отношения его к Моисееву закону, ни взгляда его на язычников и самарян, мы игнорировали также ту позицию, которую он занимал по отношению к мессианским представлениям своих соотечественников. Но мы отнюдь не думали, что все рассмотренные до сих пор воззрения и мысли Иисуса были в нем вполне развиты к тому моменту, когда он убедился, что он Мессия, обетованный народу иудейскому. Мы полагаем, что лишь основы его религиозной своеобразности – идеализм, стремление подчеркивать во всем момент внутренний и отделять религию от политики и обрядности, светлая уверенность в возможности достичь примирения с Богом и самим собой чисто духовным путем – успели созреть и укрепиться в Иисусе к тому моменту, когда он занялся идеей о Мессии, и этим обстоятельством, по нашему мнению, объясняется тот факт, что он так самостоятельно и своеобразно воспринял ее.
Что в отношении еврейского представления о Мессии Иисус занял своеобразную позицию, это видно из того, как он именовал себя в качестве носителя своей своеобразной миссии. По свидетельству евангелий, грядущего Мессию обычно называли либо "Христом", то есть Мессией, или помазанником, либо "сыном Давидовым" – по имени царя, потомком и преемником которого он считался, либо, подобно самому Израилю и лучшим из его царей, "Сыном Божьим" в высшем смысле этого слова. Сыном Давидовым называли Иисуса лица, просившие у него помощи, слепцы из Иерихона и хананеянка (Мф. 9:27; 15:22; 20:30-31). Когда Иисус исцелил бесноватого слепого и немого, народ вопрошал:
"Не это ли Христос, сын Давидов?" (Мф. 12:23), а когда Иисус въезжал в Иерусалим, народ возглашал: "Осанна Сыну Давидову" (Мф. 21:9). Вопрос о том, какими историческими моментами обусловливалось такое именование Иисуса, мы оставляем пока в стороне, но, во всяком случае, очевидно, что выражение "сын Давидов" было у тогдашних евреев общепринятым обозначением для Мессии, но сам Иисус так никогда себя не называл. Мало того, однажды он высказался об этом названии так, что можно даже предположить, что называться этим именем он не желал. Безотносительно к себе, он предложил однажды фарисеям вопрос: чьим сыном они считают Мессию? (Мф. 22:41). Они, согласно преобладающему в народе мнению, ответили: "Сыном Давидовым". Тогда он задал им следующий вопрос: "Если Давид называет Его (в псалме 99) Господом, как же Он сын ему?" На этот вопрос фарисеи ничего не ответили. Тут мыслимы два предположения. Возможно, что сам Иисус знал, каким соображением можно устранить противоречие между отношением подчиненности, на которое указывает наименование Мессии сыном Давидовым, и отношением превосходства, которое указано словами "Господь Давидов"; но таким соображением могло быть только предположение о том, что Мессия есть существо высшего ранга, что по плоти и закону он – потомок Давида, но по духу – существо высшее, непосредственно от Бога исходящее; однако, по свидетельству трех первых евангелистов, Иисус нигде таких воззрений не высказывал, а потому и мы не вправе истолковывать в этом смысле вышеприведенный рассказ. Стало быть, нам остается лишь предположить, что Иисус считал вышеуказанное противоречие действительно неразрешимым, но явно становясь на сторону псалма, в котором Давид (не будучи автором псалма), согласно обычному толкованию, величает Мессию (в псалме персонально не названного) своим Господом; Иисус, стало быть, хотел показать, что неуместно смотреть на Мессию как на сына Давидова. Следовательно, по мнению Иисуса, Мессия был выше Давида, подобно тому, как сам Иисус в другом месте заявляет о себе, что он "больше" Соломона и Ионы (Мф. 12:41-42); он, видимо, хотел порвать ту связь, которая в народном представлении соединяла Мессию с Давидом; но так как именно на этой связи утверждали весь светски-политический элемент мессианских упований иудейского народа, мы вправе заявить, что это изречение Иисуса (если оно действительно ему принадлежит) знаменует отрицание и осуждение этого элемента в иудейском представлении о Мессии.
Другим общеупотребительным названием, или, вернее, величанием Мессии, по свидетельству евангелий, было выражение "Сын Божий". Так назывались в Ветхом завете: народ израильский (Исх. 4:22; Ос. 11:1; Пс. 81:6), Богу угодные правители этого народа – Давид и Соломон (2 Цар. 7:14; Пс. 88:27) и достойнейшие их преемники (Пс. 2:7). Впоследствии это выражение сделалось постоянным эпитетом ожидаемого великого царя из рода Давидова, то есть Мессии, как о том свидетельствует Новый завет. В рассказе об искушении так называет Иисуса дьявол (Мф. 4:3, 6), а иудеи в насмешку называли его так при распятии (Мф. 27:40, 43); так величают его "свирепые" бесноватые, вышедшие из пещер страны Гергесинской (Мф. 8:29), и другие бесноватые (Мк. 3:11), а также люди, плывшие в лодке, когда он шествовал по морю (Мф. 14:33); "Сыном Божиим" объявляет его сам Бог при крещении (Мф. 3:17) и на горе преображения (Мф. 17:5), об этом названии впоследствии допытывается на допросе сам первосвященник (Мф. 26:63), причем эпитеты "Сын Божий" и "Христос" (Мессия) сопоставляются друг с другом как синонимы. Правда, этого второго титула Мессии Иисус не отклонял от себя, как титул "сын Давидов", но в то же время никогда и не присваивал его себе прямо, вопреки утверждению автора четвертого евангелия. На заклинающий вопрос первосвященника: Христос ли он, сын Божий? Иисус ответил: "ты сказал", то есть утвердительно; а когда он вопрошал учеников, за кого они его почитают, и когда Симон-Петр радостно ответил: "Ты – Христос, Сын Бога Живаго", Иисус назвал его за это "блаженным", так как ответ этот, по словам Иисуса, был откровением самого Отца Небесного (Мф. 16:15-18). Но замечательно то обстоятельство, что Иисус счел нужным тогда же облечь это "откровение" тайной. Все три синоптика удостоверяют, что после ответа Петра Иисус тотчас запретил ученикам говорить кому бы то ни было, что он – Христос, а затем начал открывать им, что ему предстоит много пострадать, умереть и воскреснуть (Мф. 16:20-21; Мк. 8:30-31; Лк. 9:21-22). Все это заставляет думать, что Иисус хотел сказать своим ученикам:
"Да, я Мессия, но не ваш царственный сын Давидов; да, я сын Божий, но Бог прославит меня не так, как вы предполагаете, а посредством страданий и смерти". В притче о виноградарях под сыном, которого господин посылает за слугами (пророками) (Мф. 21:37), нужно подразумевать самого Иисуса как Мессию; но здесь это обозначение вытекало из фабулы, и его смысл должен был быть лишь найден слушателем (пока отвлекаемся от того, что аутентичная принадлежность притчи самому Христу под вопросом). О месте у Матфея (11:26 и далее) и Луки (10:21) уже была речь: то, что здесь Иисус обращается к Богу как к Отцу, напоминает "образцовую молитву" (очевидно, "Отче наш".Ред.), которой он учил своих ближних взывать к Нему; особое положение, в которое он ставит себя по отношению к Отцу, выходит за рамки синоптической концепции Мессии и ближе к направлению четвертого евангелия, где Иисус многократно признает себя не просто Сыном, но единородным Сыном Бога (5:19 и далее; 6:40) в том смысле, на который уже было выше указано при историческом рассмотрении жизни Иисуса.
Итак, первым из двух титулов Мессии – титулом "сына Давидова" – Иисус никогда сам не величал себя и однажды даже полуиронически отнесся к нему; второго титула – "Сын Божий" – он, правда, не отклонял, когда его величали, но в то же время старался оградить себя от возможных недоразумений. Зато сам он всего охотнее именовал себя "сыном человеческим", как бы характеризуя этим эпитетом занимаемое им своеобразное положение. Хотел ли он этим названием показать, что он – Мессия? На этот вопрос отвечали по-разному, и надо признать, что ответить на него, действительно, не так легко, как может показаться. Что в Ветхом завете это выражение употребляется взамен выражения "человек или смертный", в этом можно убедиться из многих мест (Пс. 8:5; Иов. 25:6), в том же значении встречается оно и в Новом завете (Мк. 3:28). Если же тут проступает явственно понятие ничтожества и слабости в противоположении к незаслуженной милости Божией или непозволительной притязательности человека, то это понятие более определенно высказывается у Иезекииля, причем само выражение "Сын человеческий" обозначает уже не человека и человеческую природу вообще, а определенную человеческую личность. Всякий раз, когда Иегова посылает пророку какое-нибудь видение или дает ему какое-нибудь поручение, он называет его "сыном человеческим" (Цез. 2:1, 3, 6, 8; 3:1, 3, 4, 10, 17); а если обратим еще внимание на ту ситуацию, при которой пророку дается это название впервые, а именно на то, что он из страха перед грозным видением упал ниц и лишь по велению Иеговы встал на ноги, то увидим, что это выражение подобрано намеренно, чтобы подчеркнуть контраст между слабой человеческой натурой пророка и тем высоким откровением, которого он удостоился. Поэтому когда Иисус говорит тому, кто предлагает себя в спутники ему, что Сыну Человеческому негде и голову преклонить (Мф. 8:20), когда он говорит, что "Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (Мф. 20:28), когда он многократно говорит о предстоящих ему страданиях и смерти, как об участи, уготованной для Сына Человеческого (Мф. 12:40; 17:12, 22; 20:18; 26:2), то он здесь, вероятно, называет себя Сыном Человеческим в том же смысле, в каком Яхве называет так Иезекииля, то есть человеком, который получил от Бога высокие откровения, но все же слаб и ничтожен, и который должен безропотно терпеть всякие лишения и бедствия. Даже в тех случаях, когда он, Сын Человеческий, присваивает себе власть прощать грехи (Мф. 9:6) и провозглашает себя "господином субботы" (Мф. 12:8) и когда он в притче о плевелах называет сеющего доброе семя Сыном Человеческим (Мф. 13:37), он, судя по цитированным местам, все же хочет выразить лишь то, что и в таких важных делах он, смертный человек, действует по поручению от Бога.
Однако именно последняя цитата опровергает все изложенное объяснение. О Сыне Человеческом, посеявшем доброе семя, говорится дальше, что он "при кончине века сего" пошлет ангелов своих, чтобы отделить злых от праведных, вознаградить последних и наказать первых. А такое дело, по представлению Иудеев, кроме Бога мог бы исполнить только Мессия. Следовательно, Мессия, во всяком случае, разумеется тогда, когда о Сыне Человеческом говорится, что он придет во славе своей или Отца своего или в царствии своем и воссядет на престоле своем творить суд (Мф. 10:23; 16:27; 19:28; 24:27, 37, 39, 44; 25:13. 31). Если из указанных цитат можно вывести то несомнительное заключение, что выражением "Сын Человеческий" обозначается Мессия, то из других цитат мы можем также заключить, почему и как возникло это обозначение. А именно, Иисус неоднократно заявляет, что Сын Человеческий придет с силой и славой великой "на облаках небесных" (Мф. 24:30: 26:64: Откр. 1:7). Таких указаний мы не находим в словах Иезекииля о сыне человеческом. Поэтому мы обращаемся к Даниилу, который в вышеупомянутом видении говорит (7:13-14), что после гибели последнего из четырех зверей "с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями... И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему..." Первоначально это изречение, быть может, не имело в виду Мессию, но впоследствии оно легко могло быть истолковано в благоприятном для него смысле.
Решать вопрос о том. когда именно евреи стали так толковать цитированное изречение Даниила и называть Мессию Сыном Человеческим, нам, за отсутствием других достоверных источников, придется исключительно по цитатам из евангелий. Нельзя сказать, что если Иисус для обозначения себя Мессией избрал именно это выражение, то оно уже употреблялось в этом смысле современниками. Об этом сказано выше. Во всяком случае, раввинистическое именование Мессии "мужем облак" – более позднего происхождения. Ведь мы еще доподлинно не знаем, хотел ли он с самого начала провозгласить себя Мессией, а если не хотел, то самым подходящим выражением он должен был признать такое, которое еще не успело стать традиционным титулом Мессии. По свидетельству четвертого евангелия, это так и было, ибо когда в Иерусалиме Иисус заявлял, что Сын Человеческий будет "вознесен от земли", то народ спрашивал: "Кто Этот Сын Человеческий?" (12:32, 34). Правда, этот вопрос народа – один из тех "деланных" вопросов, которыми так изобилует четвертое евангелие; к тому же даже и с точки зрения четвертого евангелиста он является вопросом аффектированным, так как из предыдущей беседы народ не мог не понять, что речь идет о Мессии. Однако же и у Матфея Иисус спрашивает учеников:
"За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?" – потом спрашивает их: "А вы за кого почитаете Меня?" – и изъявляет благоволение свое Петру за то, что он ответил: "Ты – Христос (Мессия)" (Мф. 16:13, 15-17). Этот эпизод тоже указывает на то, что тогда эпитет "Сын Человеческий" еще не был общеупотребительным обозначением Мессии и в этом смысле не был известен даже ученикам Иисуса. Ибо в противном случае Иисус самим вопросом подсказал бы им правильный ответ и не мог бы приписать Божьему откровению того, что Петр прозрел и осознал, что тот, который им дотоле был известен под именем Сына Человеческого, есть сам Мессия. Стало быть, если Матфей не искажает фактов в данном случае, то выражение "Сын Человеческий" лишь позднее стали связывать с изречением Даниила, а в то время это выражение сами ученики Иисуса понимали как Иезекииль, считая его как бы формулой смирения, которой Иисус говорит о себе как о ничтожном сосуде Божьего откровения.
Так ли думал сам Иисус, или он понимал означенное выражение в смысле Иезекииля и в то же время про себя имел в виду Даниилова человека, грядущего на облаках? Этот вопрос приходится решать в зависимости от того, подлинны ли те изречения, где Иисус говорит о пришествии Сына Человеческого на облаках, в славе своей, в царствии своем, вообще, о сверхчеловеческом пришествии. Но об этом у нас речь впереди, а пока мы только спросим: что могло побудить Иисуса обозначить себя таким выражением, которое еще не было общепризнанным названием Мессии? Самым веским мотивом могло быть то, что в начале своей общественной деятельности Иисус, быть может, сам еще не считал себя Мессией, этим подтвердилась бы и та, нами выше высказанная мысль, что Иисус проявил себя сначала пророком, а потом Мессией. Однако мыслимо и то, что Иисус сам уже давно признал себя Мессией, но для других решил обозначить себя таким выражением, которое еще не успело обратиться в титул Мессии, чтобы извне ничего не навязывать своим ученикам и народу и чтобы они сами пришли к тому убеждению, что он – Мессия. Вот почему он так обрадовался, когда увидел, что его ближайшие ученики уже дошли до такого убеждения и вполне самостоятельно додумались до правильного взгляда на него.
Избрать этот путь Иисуса могло заставить то соображение, что, если бы он объявил себя Мессией с самого начала, он возбудил бы тем в народе такие политико-национальные надежды, которые резко противоречили его представлению о Мессии. С другой стороны, с этим представлением о Мессии чрезвычайно гармонировал эпитет "сын человеческий"; в противоположность Мессии – Сыну Божьему и всему тому, что жадные до чудес мистики пристегивали к этому понятию, этот эпитет заключал в себе элемент смирения и ничтожества, человеческого и естественного; а в противоположность Мессии – сыну Давидову и всему связанному с ним национальному высокомерию, партикуляризму и политическому фантазерству этот эпитет носил печать универсального, гуманного и морального. Сыну человеческому негде голову свою преклонить; он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить другим; он будет предан в руки человеческие, примет страдания и смерть: как непохож такой жизненный удел на блестящую карьеру Сына Божия! Сын человеческий сеет доброе семя слова, он властен отпускать грехи на земле, он признает своим призванием отыскивать и спасать заблудших: как эта миссия не похожа на ту миссию, которую евреи приписывали своему сыну Давидову! Сначала Иисус долго исполнял эту свою миссию на глазах учеников и народа, долго заявлял себя сыном человеческим и человеколюбцем, который ничто человеческое не считает ничтожным и чуждым для себя и который не отвергает безобидных радостей человеческих, как не избегает и страданий человеческой жизни, если они встречаются ему при выполнении им своего призвания, а лишь после того признал он своевременным открыться и принять звание Мессии, хотя бы перед ближайшими своими последователями: но и тогда еще он запрещает своим ученикам распространять дальше весть о том, что он Мессия (если только это – факт исторический, а не вымышленный, с целью прославления скромности Иисуса (ср. Ис. 42:1; Мф. 12:16). Это показывает, что он, вообще, не считал народ созревшим для того, чтобы понимать Мессию в желательном для него смысле; и тот факт, что, открывшись ученикам, Иисус стал говорить им о предстоящих ему страданиях, показывает, что он и ученикам своим настоятельно внушал за Сыном Божиим не забывать в нем сына человеческого.
Баур различает в самосознании Иисуса два фактора: один общечеловеческий, состоящий в том, что он сознавал истинное, свободное от ложного посредничества, чисто нравственное отношение между Богом и человеком; и другой – партикулярный, национальный, сводящийся к еврейскому представлению о Мессии. Первый фактор Баур рассматривает как безграничное идеальное содержание, которому надлежало облечься в ограниченную форму второго фактора, чтобы стать историческим моментом и сообщиться миру. Сама по себе мысль эта верна, но она выражена так, что можно подумать, будто Иисус лишь приспособлялся к еврейскому представлению о Мессии, тогда как его личное убеждение соответствовало первому фактору. Бесспорно, сам Баур этого не думал; он знал отлично, что такая личность, как Иисус, оказавший неизмеримо сильное влияние на ход истории, не могла приспособляться, разыгрывать какую-то роль, иметь в сознании своем какой-то пробел, не заполненный движущей идеей; он знал, конечно, что такая личность всецело должна была быть проникнута убеждением. Но это не подчеркнуто в его изложении, и потому гораздо удачнее замечание Шлейермахера, что собственное самосознание привело Иисуса к убеждению, что в мессианских пророчествах Священного Писания евреев говорится именно о нем.
К такому убеждению Иисус мог прийти тем скорее, что сами пророчества, то есть ветхозаветные изречения, которые в то время приурочивались к ожидаемому Мессии, заключали в себе два элемента: реальный и идеальный, религиозно-политический и религиозно-нравственный. Первый элемент довел еврейский народ до края гибели. Детство Иисуса ознаменовалось восстанием Иуды Галилеянина во время римской переписи (Деян. 5:37), которое окончилось столь же печально, как и все прежние и последующие попытки иудеев восстать против римского владычества, несмотря на то что фанатические сторонники идей этого Иуды встречались еще при закате еврейского государства и возбуждали смуту. Во всех этих восстаниях политическое представление о Мессии являлось внутренней стимулирующей силой, так как фанатики отказывались повиноваться кому бы то ни было, считая, что Яхве единственный законный повелитель избранного народа и своевременно пошлет ему в лице Мессии видимого помазанника и спасителя. Отсюда явствует, что упомянутые практически-вредные последствия политического элемента мессианских прорицаний должны были еще сильнее толкать такого идеалиста, как Иисус, в сторону религиозно-нравственного элемента. В том, что другим представлялось лишь условием существования мессианского спасения, то есть развитие народа в духе истинного благочестия и нравственности, Иисус усматривал главную суть дела. Он не разделял мнения, что Иегова в награду за исправление евреев чудесным образом изменит строй мировых отношений, сделает евреев господствующим народом, подчинит им их прежних угнетателей и одарит их всей полнотой внешних благ и чувственных услад. Напротив, Иисус полагал, что в духовном и нравственном подъеме, в новом, уже не рабском, а чисто сыновнем отношении к Богу евреи обретут то счастье, которое уже само по себе является желанной целью и, кроме того, заключает в себе естественный зародыш всевозможного внешнего совершенства. Он говорил, что прежде всего следует искать Царства Божьего в этом смысле, и тогда все остальное само приложится (Мф. 6:33).
38. МЕССИЯ ПОУЧАЮЩИЙ И МЕССИЯ СТРАЖДУЩИЙ.
Так называемые мессианские пророчества представляли Мессию по преимуществу в образе могущественного царя, и это объясняется тем, что сама идея Мессии зародилась на почве ожиданий, что некогда наступит снова такой счастливый период национального процветания, который евреи переживали при Давиде. Однако к Мессии относили и такие изречения, в которых говорилось не о воинственном, а о миролюбивом властителе и даже только о пророке, которого Бог пошлет народу своему, а в подлинно-мессианских изречениях, как было указано выше, выражалась надежда на то, что Мессия не только одолеет врагов, но и утвердит иной, лучший образ мыслей в народе.
На иудейской почве представление о царственно-величавом и воинственном Мессии никогда не исчезало, хотя уже и в Ветхом завете высказывалось новое представление о Мессии, которое впоследствии могло привести к тому, чтобы в Мессии видеть не могущественного повелителя, а скромного учителя-страдальца. То была идея "слуги Иеговы", выраженная во Второисаии. (196) Не подлежит сомнению, что этот слуга Иеговы первоначально не имел ничего общего с Мессией. В соответствующих местах (Ис. 41:8; 44: 1-21; 45:4; 48:20) слугой своим Иегова прямо называет семя Авраама, народ израильский, который он избрал и призвал от всех концов земли и который он не отвергнет и не покинет. Во время изгнания, будучи рассеян среди чуждых ему идолопоклонников, народ израильский вследствие того еще сильнее привязался к религии Иеговы и, считая себя избранным слугой истинного Бога, стал смотреть на себя либо как на учителя, либо как на страдальца, глядя по тому, в какие отношения он становился к окружающим народам.
Соответственно этому здесь, как и в мессианской идее, проступает отчасти воинственная жажда мести: Иегова посрамит и уничтожит все народы, угнетавшие и оскорблявшие его слугу, а народ израильский превратит в сокрушительное всеуничтожающее молотило (41:11-15). Во время изгнания народ сознал, что его религия не только превосходит религию вавилоно-халдейскую, но и чарует лучшие умы других наций, хотя в целом ее и отталкивают. Поэтому народ израильский признал своей миссией распространение религии Яхве среди других народов:
слуга Божий, на которого Яхве излил свой дух, призван стать светочем народов, провозвестником истины и правды на земле. Научившись во время изгнания страдать и терпеть, он будет действовать терпеливо и тихо, но и неустанно, пока не достигнет своей цели и не исполнит своей высокой миссии (42:1-4).
При таком высоком призвании израильский народ во время своего изгнания вынужден был выносить обиды со стороны могущественных языческих народов; Иаков стал червем, ограбленным и скованным людьми (41:14; 42:22), но не потому, что Яхве его отверг, а потому, что он пожелал покарать его за неверность и посредством кары побудить к раскаянию, а затем простить ему его прегрешения (42:23; 43:21). По иной, более дерзновенной версии оказывалось, что израильский народ пострадал не столько за свою вину, сколько за грехи других народов (или, что лучшая, верная Яхве часть народа пострадала за испорченную и неверную массу); что кару, которая должна была постигнуть идолопоклонствующие народы (а также и примкнувшую к ним часть Израиля), Яхве наложил на слугу своего, который за смирение и терпеливое страдальчество получит, наконец, блестящее вознаграждение: возвращение на родину и восстановление прежнего царства (52:13; 53:12).
Впрочем, в указанном отделе Книги Исаии все это высказано так неясно и сбивчиво вследствие внесения чисто личных моментов (болезнь, раны, смерть, погребение), пророчески-смелой смены действующих лиц и употребления непонятных слов, что необходимо крепко держаться за ту нить, которую дает вступление, где слуга Яхве прямо отождествляется с народом израильским, иначе легко потерять ее и вообразить, что местами (особенно в главах 52, 53) под слугой Яхве разумеется не народ, а единичное лицо. Совершенно прав был тот ученый иудей, который отцу церкви с его христианским пониманием текста возражал, что тут речь идет о еврейском народе в целом и что он в изгнании был рассеян и наказан, чтобы приобресть много новых прозелитов (Ориген. Против Цельса. I 55). В греческом переводе так называемых 70 толковников, слова "Слуга (раб) Божий" поняты были в том же смысле, и потому в главе 41 (8) выражение оригинала "слуга Мой, избранник Мой" переданы словами: "Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал". Таким же образом переведен и стих 3 главы 49. (197)
Известно, что в Новом завете это место истолковано иначе, и все, что там сказано о слуге Божием, отнесено не к народу израильскому, а к Христу. В этом отношении классическим местом является стих 34 главы 8 в Деяниях апостолов: здесь евнух "ефиоплянин", хранитель сокровищ царицы эфиопской, по поводу слов Исаии (53:7): "Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих" и так далее спрашивает Филиппа: "О ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?" И Филипп, воспользовавшись случаем и "начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе" (то есть разъяснял, что под страждущим Мессией здесь подразумевается Христос). Точно так же евангелисты в распятии Христа посреди двух преступников усматривают (Мк. 15:28; Лк. 22:37) осуществление предсказания Исаии (53:12): "к злодеям причтен был"; в бесшумной деятельности Иисуса – осуществление пророчества Исаии (42:1-4) о не вопиющем и не возглашавшем рабе Божием (Мф. 12:19); в актах исцеления от болезней – осуществление изречения Исаии 53:4 (Мф. 8:17). Последнее достигается соответствующим извращением смысла слов пророка, который говорит не об избавлении от болезней, а о восприятии на себя чужих болезней слугой Божиим. Таким же образом в Первом послании Петра (2:22-24) одно место из Исаии (53:4-6) перетолковано в смысле страданий, претерпеваемых Иисусом за других.
Что Иисус сам относил к себе пророчество о слуге Божием из Книги Исаии, нельзя доказать на основании заявления Луки (22:37) о том, что Иисус после последней тайной вечери перед отбытием на гору Елеонскую говорил своим ученикам: "Должно исполниться на Мне и сему написанному; "и к злодеям причтен". Тут, очевидно, сам евангелист Лука вложил в уста Иисусу то, что другой евангелист, Марк (15:28), замечает лично от себя: "И сбылось слово Писания: "и к злодеям причтен". В таком же неведении и по той же причине оставляет нас рассказ Луки (4:16-19) о том, что Иисус отнес к себе изречение того же пророка Исаии (61:1), хотя в этом изречении пророк говорит не о слуге Божием, а о себе самом и о том, что он идет благовествовать неимущим и плененным. О воскресшем Иисусе евангелисты тоже сообщают, что он доказывает ученикам на основании Священного Писания и, в частности, пророков, что Мессия должен был страдать и умереть, чтобы войти во славу свою (Лк. 24:25-34). В данном случае тоже разумеется главным образом более поздний раздел Исаии, но мнимые речи воскресшего не могут служить аргументом и опорой в историческом трактате.