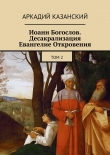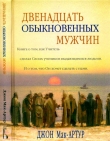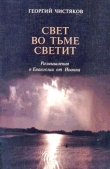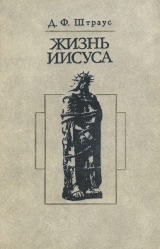
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 55 страниц)
Результатом исследования жизни Иисуса-человека было отрицание достоверности евангелий и размывание исторической базы христианства, как она традиционно понималась. Однако задача Штрауса этим не исчерпывается, он стремится выяснить, как следует толковать действительный смысл христианского учения и чем объясняется возникновение его догматического понимания. В этой связи он особое внимание уделяет смерти и воскресению Христа и проблеме боговоплощения. С традиционной точки зрения сама идея смерти Бога-Мессии представляется чем-то совершенно несуразным. Воскресение Иисуса, снимающее недоумение, напротив, не укладывается в рамки рационалистического толкования и довольно рано становится объектом критики и поводом для самых изощренных и неожиданных натуралистических предположений на этот счет.
К примеру, Реймарус считал, что апостолы попросту похитили мертвое тело и, объявив затем о воскресении, хотели на этом обмане построить новую религиозную систему. Паулус и другие поздние рационалисты не были склонны принять нравственно уязвимую версию и заявили, что ученики не были способны на такую низость. Просто Иисус на кресте впал в коматозное состояние. Копье легионера нанесло ему лишь поверхностную рану. Его сочли мертвым, он был похоронен и в могиле очнулся сам под влиянием благовоний, шума бури и случившегося землетрясения, которое к тому же сдвинуло загораживающий вход камень. Затем он встречался с учениками и распрощался с ними на Елеонской горе, скрывшись за проходящим облаком. Неизвестно, когда и где он умер, поэтому все случившееся истолковано как воскресение.
Концепция мнимой смерти была очень популярна, но она грубо упрощала проблему и не могла составить основу разумной трактовки Нового завета. Взамен Штраус предлагает новый принцип объяснения:
евангельские повествования – не обман или недомыслие, а результат спонтанного мифотворчества, которое выводило сверхъестественные моменты жизни Иисуса из ветхозаветных посылок, прежде всего мессианских пророчеств. По мнению Штрауса, Иисус умер на кресте и, скорее всего, был похоронен вместе с преступниками. Ученики объявили о его воскресении спустя несколько недель, когда проверка была уже практически невозможна. Миф о воскресении подкреплял учение о Христе, и печаль его последователей сменилась энтузиазмом. Объясняется все это тем, что авторы рассказов об Иисусе принадлежали духу своего времени и были глубоко погружены в протохристианский образ мысли, внушенный Учителем. Чудотворения Иисуса – не исходные данные христианского учения, а способ восприятия любых его слов и дел через призму его богочеловечности и мессианства.
То, что Писание полно мифов, очевидно для всех, но оно не сводится к совокупности намеренных выдумок и легенд. Штраус исходит из того, что в первоначальном виде мифы "суть не произвольные и сознательные продукты поэтического творчества отдельных лиц, а продукт коллективной мысли целого народа или крупной религиозной общины" (с. 139). Разумеется, возможно и сознательное мифотворчество – ведь евангелия связаны с авторством. Но все дело в том, что осуществленная в них сознательная систематизация и отчасти концептуализация первыми христианскими писателями мифического материала имеет своей основой бессознательный коллективный мифологический процесс. Его результатом является целый художественный мир, особое пространство, в котором – как в реальном – живет сознание ранних христиан. Поэтому, какие бы сомнения относительно реальности евангельских фактов не были высказаны, для них непорочное зачатие, чудеса, воскресение Иисуса остаются вечными истинами, условие которых не историческая верификация, а поддерживающая их вера.
Следует отметить, что Штраус оперирует понятием мифического (das Mythische) для обозначения как собственно мифического, так и мифологического. Мифическое относится ко всем сверхъестественным характеристикам природы и деятельности Иисуса. Мифологическое обозначает, с одной стороны, механизм экстраполяции мифических моментов Ветхого завета на псевдоисторические реалии Нового завета (прежде всего, перенесения мессианских ожиданий иудаизма на личность Иисуса), с другой стороны интерпретацию евангелической истории (следовательно, становления самого христианского вероучения) в свете принципов такого механизма. Вместе с тем мифологизация имеет объективное основание. Мифический Иисус не возник бы, если бы не было его исторического прототипа. Иисус-человек не мог совершить ничего сверхъестественного, но исторический анализ свидетельствует о том, что он, скорее всего, верил в то, что действительно говорил (так, все евангелия ссылаются на его слова о втором пришествии). Был ли он обманщиком или фанатиком с неустойчивой психикой – вопрос этот остается открытым. Но Штраус уверен в том, что сам Иисус – не фикция, а историческая личность, возможно, великий религиозный реформатор, который свое мессианство понимал в моральном смысле.
Бог Штрауса по-гегелевски абстрактен и вобрал в себя черты мистико-пантеистического абсолюта и субстанциональной основы мира. В любом случае это не антропоморфный творец и промыслитель. "...Если мы во что бы то ни стало захотим представить себе творца вселенной в качестве личного абсолюта, то... можно знать наперед, что это будет лишь продукт нашей фантазии" ("Старая и новая вера"). Однако безличностный бог бытийствует лишь как предметная действительность, его социально-историческое созидание осуществляется посредством человеческой деятельности. Бог и человек предполагают друг друга, поскольку божественный дух не может существовать, не осуществляя себя через конечные духи. В этом смысле истина Бога – не сам Бог (то есть абстрактное понятие, идея) и не сам человек, а богочеловек.
Исторически сложившийся тип человеческой рефлексии требует зримого бога во плоти,– в этом причина заданности идеи воплощения и спроса на общедоступное объяснение феномена богочеловека. Ответом на этот спрос выступает миф о непорочном зачатии с участием небесного отца и земной матери (и вся последующая система христианской мифологии). Мог ли реальный, исторический Иисус быть инкарнацией (воплощением, вочеловечиванием) Бога? Ответ Штрауса честен и мужествен: "Не мог". Богочеловечность не может быть исключительным качеством одной личности, ибо идея Бога "выражает свое богатство среди множества индивидов, которые взаимно дополняют друг друга". Конечно же идея воплощает себя в разных лицах в неодинаковой степени, вследствие чего каждый человек в стремлении к самореализации нуждается в других людях и человечестве в целом. Истинное воплощение Бога возможно только в человеческом роде, так что богочеловек для Штрауса – это богочеловечество. При таком понимании он готов согласиться с тем, что инкарнация бога в Иисусе могла быть наиболее полной, но никоим образом не абсолютной.
Штраус принимает непреходящие ценности христианства, но считает, что они необходимо связаны с несовершенными историческими формами. Назначение христианства – способствовать реализации человеческих потенций, что предполагает совершенствование самих людей и улучшение условий их бытия. Поэтому христианство не сводимо к этике. Это более широкое и социально значимое учение, подверженное историческому изменению, тенденцию которого Штраус характеризует как "прогрессивное превращение религии Христа в религию гуманности, к которому направлены все благородные стремления нашего времени" (с. 488).
Трудно понять и оценить серьезную книгу, не имея представления о мировосприятии и умонастроениях автора, еще труднее – ориентируясь на неадекватное представление. Поэтому уместно затронуть вопрос о так называемом поправении Штрауса после революции 1848-1849 годов и его политическом консерватизме, тем более что в наших изданиях эти квалификации стали, по существу, нормативными, между тем как они, по меньшей мере, нуждаются в уточнении.
Когда в преддверии революционных событий прусский король Фридрих-Вильгельм IV санкционировал созыв Франкфуртского национального собрания, Штраус, уступая нажиму демократической общественности, выставил свою кандидатуру. Его программа требовала разделения политики и религии, церкви и государства, введения гражданских свобод, объединения Германии. Выборы Штраус проиграл, однако тут же был избран в Вюртембергский парламент. По мнению многих авторов, в политическом отношении Штраус был наивен и непрактичен. Согласиться с этим трудно. Дело скорее в том, что его быстро разочаровало либеральное краснобайство, не подкрепляемое конструктивной деятельностью. Он отмежевывается от левых и сближается с консерваторами, неизменно руководствуясь при этом стремлением к правовому порядку. Его поведение не наивно, а противоречиво, а это не укладывалось в логику политического практицизма. Он голосовал против радикалов, осудив революционные выступления в ряде местностей как анархистские эксцессы, но одновременно он поддержал левых депутатов, когда встал вопрос об ограждении интересов крестьян от крупных землевладельцев, и решительно отверг предложение прусского короля редактировать новый политический журнал. За такой противоречивостью скрывались принципы, не всеми замеченные и оцененные.
Один из главных эпизодов политической биографии Штрауса, принесший ему нелестную репутацию реакционера и "врага немецкой свободы",– его отказ поддержать резолюцию, осуждающую расстрел в Вене участника революционных событий, депутата Франкфуртского собрания Роберта Блюма. Этот случай чрезвычайно важен для понимания характера гражданственности Штрауса. Он отнюдь не колебался в осуждении казни Блюма, но полагал, что принцип свободы предполагает защиту чести и жизни каждого, поэтому в равной мере следует осудить убийство толпой двух других – консервативных – депутатов Франкфуртского собрания, Ауэрсвальда и Лихновски. "Политическая наивность" Штрауса не в том, что для него откровением стала малая конструктивность парламентской риторики, а демократические институты оказались скорее говорильнями, чем выразителями общей воли, а в том, что он не скрывал на этот счет своего мнения, не смог и не захотел стать политиканом. В декабре 1848 года он сложил депутатские полномочия.
Какие бы взгляды Штраус ни разделял, он стремился быть их честным выразителем. Он не скрывал неприятия социализма и приверженности конституционной монархии, но при всем том он был неизменным поборником свободы мысли, совести и слова. Он страстно желал объединения Германии, однако в данном случае его вполне естественное патриотическое чувство не удержалось в рамках нравственно-правовой меры. Изучение германской истории, особенно последнего столетия, и собственный политический опыт привели Штрауса к выводу, что ни религия, ни массовые движения, ни усилия интеллектуалов не способны осуществить эту цель. Поэтому его интерес привлекает фактор иного порядка – набирающий силу гегемонизм Пруссии, причем это интерес не столько идейный, сколько прагматический. В июле 1866 года в письме своему другу А. Раппу он признается, что не питает любви к Пруссии, но относится к ней с уважением, поскольку на ней покоится его надежда на германское единство.
После аннексии Пруссией Шлезвига и Гольштинии в Штраусе стал оживать националистический дух, который окреп в период франко-прусской войны, что нашло любопытное преломление в его переписке с Ренаном. По выходе в свет книги о Вольтере Штраус счел естественным отправить дарственный экземпляр своему французскому единомышленнику и другу, публично объявившему себя его последователем и в значительной мере бывшим таковым. Ренан ответил благодарственным письмом, датированным 31 июля 1870 года. К тому времени уже две недели шла война, в связи с чем Ренан выразил глубокое сожаление и осудил обе конфликтующие стороны. Ответ Штрауса от 12 августа с обвинениями в адрес Франции озадачил Ренана, и он в своем новом письме пытается объяснить, что французы в общем-то миролюбивы, а Пруссия несколько агрессивна,– на что последовало еще более резкое послание Штрауса от 29 сентября, положившее конец дружбе двух ученых. В своих письмах Штраус обосновывал право Германии на национальное единство, государственность и независимую от вмешательства извне политику (что Ренаном и не отрицалось). Одновременно он утверждал, отчасти справедливо, что Франция, стремящаяся к гегемонии в Европе, препятствует немецкому единству, и пытался доказать, что Германия имеет право на Эльзас и Лотарингию. Наконец, Штраус откровенно превозносит Пруссию – ее политику, культуру, историческую миссию.
Маленькая деталь: письма Штрауса публиковались в аугсбургской "Альгемайне цайтунг" и вскоре вместе с ответом Ренана вышли отдельным изданием. Иными словами, эпистолярный жанр трансформировался в политическую публицистику. В упоенной победой стране "Переписка" имела огромный успех, а Штраус стал чуть ли не национальным героем.
Неожиданная для не избалованного общественной благосклонностью Штрауса слава ничуть не ослабила его субъективную честность и критическую отвагу в отношении догматического христианства, церкви и самого режима, стремящегося использовать религию как средство политики. В 1872 году выходит в свет последняя книга Штрауса, по силе критики (но не по теоретическому уровню) превзошедшая "Жизнь Иисуса", – "Старая и новая вера", и, по словам биографа Штрауса, "после "осанна!" сразу же последовал прежний клич "распять его!".
Нетрудно объяснить патриотическую эйфорию Штрауса, но вряд ли можно оправдать измену научной добросовестности, в которой он бесспорно повинен. В этом плане, пожалуй, самый серьезный упрек содержится в посвященном ему эссе, открывающем серию "Несвоевременных размышлений" Ницше: "Из всех дурных последствий последней франко-прусской войны самое дурное – это распространенное повсюду... заблуждение общественного мнения, что в этой борьбе одержала победу также и немецкая культура". Ницше Ф. Давид Штраус в роли исповедника и писателя. Правда, далее Ницше ополчается против книги "Старая и новая вера" и так называемого филистерства Штрауса, и в ход идут далеко не академические аргументы. В недалеком будущем сам Ницше по-своему и очень нестандартно будет выяснять отношения с христианством. И хотя в этой области его следует отнести к числу противников Штрауса, он далеко не первый и не последний мыслитель, чей христологический интерес был стимулирован автором "Жизни Иисуса". Косвенно это признает сам Ницше в "Антихристе": "Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного философа смаковал произведение несравненного Штрауса".
Влияние Штрауса на последующую философию значительно и неоднозначно, но рассмотрение этого вопроса выходит за рамки задач и возможностей данной статьи. Достаточно сказать, что Штраус был пионером младогегельянства, плодотворное воздействие его идей обнаруживается и в творчестве его выдающихся оппонентов – Фейербаха и Бруно Бауэра. Не случайно и молодой Энгельс пишет в одном из писем: "...я – штраусианец". Это преклонение оказалось непродолжительным, но было важным моментом идейного развития Энгельса, вполне им вскоре осознанном: "Благодаря Штраусу я нахожусь теперь на прямом пути к гегельянству".
Противоречивость Штраусовой концепции проявилась в том, что она сыграла заметную роль в развитии как богословской, так и атеистической мысли. Отчасти это можно объяснить тем, что задача решения ряда проблем библеистики породила потребность в кооперировании средств теологического и научно-исторического анализа. Другая причина – в, широте и многоаспектности теории Штрауса, компоненты которой оказали влияние на различные типы мышления.
Давая в какой-то форме общую оценку "Жизни Иисуса" Штрауса, хочется избежать стандартных клише типа "теоретическая ограниченность", "не понял", "не сделал". Легко показать, что Штраус не раскрыл тайны религиозного сознания,– но он и не задавался такой целью, ограничив свою задачу объяснением возникновения и природы евангельского повествования как историко-культурного явления. Поэтому имеет больший смысл обратить внимание на наличие фактических некорректностей, обусловленных отчасти уровнем исторического знания, отчасти – теоретическими установками Штрауса. Так, не находит исторического подкрепления его настойчивое стремление представить апокрифическую книгу Еноха творением или модификацией автора I-II веков с целью доказать, что ее апокалипсические и мессианские идеи являются результатом более поздней христианской интерполяции. Обнаруженные в Кумране в середине нашего столетия фрагменты еврейского и арамейского текстов Еноха свидетельствуют о более раннем происхождении этого сочинения и в то же время дают более полное представление о преемственности между дохристианским и христианским мессианизмом, что, в конце концов, лишь подтверждает основную идею Штрауса.
Встречаются довольно грубые неточности, вызывающие чувство досады. Однако их не всегда можно считать издержками историографической неосведомленности. Нередко они являются следствием спекулятивной методологии Штрауса (характер которой хорошо выражен знаменитой гегелевской репликой: "Тем хуже для фактов") и позволяют лучше ее понять. В 29-й главе книги, затронув важную тему взаимодействия античной языческой и древнееврейской религиозных культур, Штраус делает вывод, что самобытность греческого духа состояла в развитии "истинно человеческого начала", выразившегося в антропоморфизме греческой религии. Она ставится Штраусом выше любого другого политеизма: "Ни индусы, ни ассирийцы, ни египтяне не представляли своих богов в чисто человеческом образе..." (с. 156). Это излишне сильное утверждение. Индуистские боги в подавляющем большинстве антропоморфны. Да и у ассирийцев и у древних египтян далеко не все божества носят птичьи или звериные головы – достаточно вспомнить Осириса и Исиду или шумеро-аккадских богинь-матерей и верховного бога Мардука (позже идентифицировавшегося с Ашшуром). В то же время греческая религия не совсем свободна от зооморфизма, а это не только козлиные ноги и рога Пана или змееподобие Эхидны, но и способность самого громовержца превращаться в иных животных, напоминающая о более "натуральной" генеалогии олимпийцев. Однако Штраус исходит из специфической роли античной культуры в отношении христианства, и этим объясняется резкое, доходящее до небрежения фактологией, противопоставление ее другим политеистическим системам.
Действительно, антропо– и социоморфизация греческого язычества достигла очень высокой степени, по существу, классического предела. С точки зрения Гегеля, переход от зооморфных богов к идеализированным антропоморфным образам связан с новым этапом становления человеческого духа. Он обретает способность к рефлексии, самопознанию, которая вызревала в недрах восточного духа, но смогла реализоваться только у греков. Это осуществление божественного предписания, о котором свидетельствует знаменитая надпись в святилище Аполлона в Дельфах: "Познай самого себя!" И античный дух, особенно от Сократа до поздних стоиков, упорно ему следует, что выразилось в растущем интересе к антропологическим и этическим проблемам, достигающем кульминации в эпоху эллинизма. Иудаизм, отпрыск восточного духа, был к этим проблемам достаточно равнодушен. Ветхозаветные моральные принципы, ритуалистика и вообще предписываемые иудаизмом поведение и правила жизни отличаются жестким нормативизмом, вполне гармонирующим с образом сурового и мстительного Яхве.
Штраус прав в том, что христианство, синтезировавшее оба своих духовных истока (и не сводимое ни к одному из них), во многом обязано языческой культуре тем, что проблемы внутреннего мира ("сердца") человека, моральности, исторических перспектив рода человеческого встали в центр его внимания,– а это в немалой степени обеспечило его гуманистические потенции. Таким образом, некорректная оценка Штраусом характера негреческого политеизма не сказалась существенно на его важнейшем выводе. Впрочем, реальная история много сложнее представленной схемы.
Вряд ли благодарна и полезна работа по выявлению и критике фактических неточностей и ошибок Штрауса. В конце концов, возраст переиздаваемой книги дает ей право на снисхождение. К тому же она – не религиоведческое, в узком смысле слова, а философско-религиозное исследование, к которому строгие историографические критерии не всегда приложимы, и ее уроки для сегодняшнего читателя в другом. Знакомясь с работой Штрауса, полезно на ее примере убедиться в том, что условием (но не гарантией) продуктивности любого обществоведческого анализа является доскональное владение материалом. В научном религиоведении это важно вдвойне. Без знания каноники, догматики, теологических концепций, церковной истории и так далее критика превращается в псевдокритику, подменяющую силой выражений или, хуже того, эстрадным остроумием силу вдумчивой аргументации. Важен и нравственный урок Штрауса: мужественно отрицая догматическое понимание Христа, Штраус в высшей степени деликатно обращается с образом исторического Иисуса, высоко ценя духовные и моральные качества его личности и учения, то есть не превращает аргумент в поношение.
Наша кризисная эпоха отмечена печатью еще одной беды, опасность которой порой недооценивается: тенденцией к деинтеллектуализации общества. Она выражается не только в том, что порнографические и криминалистические жанры успешно теснят серьезную литературную продукцию, а банальные суждения о духовности принимаются за саму духовность. Она выражается в чрезвычайной легкости, с которой принимаются на веру всевозможные псевдонаучные и псевдорелигиозные суждения, в особенности связанные с примитивными метафизическими домыслами относительно так называемых аномальных явлений (сказанное не относится к немногим, действительно профессиональным, исследовательским усилиям в этом направлении). Мы устрашающе быстро утрачиваем то, что по-настоящему еще не обрели,– иммунитет здорового скепсиса и подлинно теоретического любопытства и антидогматизма, требующих трудных умственных усилий и знания. До сих пор нами не освоен значительный опыт критического анализа религиозного сознания, в частности накопленный представителями Тюбингенской школы и левогегельянской традиции. Ознакомление с книгой Штрауса – хороший способ уменьшения этой культурной лакуны. Кант показал невозможность обоснования или опровержения Бога как запредельной, метафизической сущности. Носитель гегелевской традиции Штраус сделал важный шаг вперед в осмыслении Бога как культурно-исторического явления и объекта социального познания. При всей спорности и неполноте его концепции, она вносит определенную ясность в понимание того, как возникает вера в Бога-Мессию. Без этого как не подступиться к более трудному почему. Поэтому, хотя и с опозданием, наше религиоведение должно осмыслить и оценить вклад автора "Жизни Иисуса" в становление научной библеистики и христологии. Настоящее издание воспроизводит перевод В. Ульриха с 18-го немецкого издания (Д. Ф. Штраус. Жизнь Иисуса. Кн. 1-2. Лейпциг – С. Петербург, 1907). Перевод сверен с немецким оригиналом И. В. Купреевой, в русском тексте сделаны необходимые исправления и восстановлены примечания Штрауса (за исключением некоторых библиографических и технических).
Книга 1.
ВВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ ИИСУСА.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.
Почти 29 лет тому назад в предисловии к первому изданию моей "Жизни Иисуса" (23) я умышленно заявлял, что этот труд мой предназначен для богословов, что для лиц, не получивших богословского образования, он недостаточно популярен и что вообще книга эта намеренно составлена так, чтобы она была понятна только для богословов. Теперь же я, напротив, решил написать книгу, доступную также и для тех, кто не знаком с теологией, и приложил все старания к тому, чтобы меня понял всякий образованный и мыслящий человек, а пожелают ли прочесть мою книгу богословы (я разумею богословов профессиональных), это для меня совершенно безразлично.
Вот как изменились времена! С одной стороны, я уже не могу теперь считать большую публику, как прежде, неподготовленной для такого рода вопросов. Помимо меня, благодаря моим ожесточенным противникам, именно тем, которые когда-то требовали, чтобы я писал свою книгу хотя бы по латыни, и которые не прекращали выпадов в мой адрес, вопросы эти стали интересовать массу, затем их стали популярно, хотя и не всегда удачно, разрабатывать другие авторы, более решительные, чем я. И наконец, политическое пробуждение германского народа расширило арену также и для обсуждения проблем религии. Вследствие этого многие поколебались в своей привязанности к старине и начали самостоятельно размышлять о предметах веры; вместе с тем и в массе населения стали обращаться многие идеи общего характера, присутствие которых нельзя было предполагать в то время, когда мой труд выходил первым изданием. В конце концов, чисто цеховым предрассудком является предположение о том, будто самостоятельно судить о вещах такого рода может только богослов и вообще ученый человек. Напротив, теперь все объекты подобного исследования и обсуждения, в сущности, столь просты, что всякий, у кого есть голова на плечах и мужественное сердце в груди, смело может заявить: то, чего я не могу уразуметь даже по зрелом размышлении и при посторонней помощи, совсем не важно.
С другой стороны, время показало, что именно в этой области теологи менее других способны рассуждать самостоятельно и беспристрастно. Они являются одновременно и судьями и подсудимыми. Им кажется, что критика традиционных устарелых взглядов на предметы христианской веры вообще и на ее основу – евангельскую историю – в частности равносильна потрясению их личного достоинства и авторитета как представителей духовного сословия. Справедливо ли это мнение, или нет, этого мы разбирать не будем; факт то, что они так полагают. Впрочем, каждое сословие своим существованием дорожит прежде всего, и лишь немногие решаются отстаивать такое новшество, которое грозит уничтожением сословия или урезанием его прав. Во всяком случае, справедливо то, что, если христианская религия избавится от элементов чуда, тогда и духовенство перестанет быть той корпорацией кудесников, какой оно является до сих пор; тогда его представителям уже нельзя будет изрекать благословение, а придется довольствоваться ролью простых наставников, хотя, конечно, второе – настолько же трудное и неблагодарное дело, насколько первое – легкое и выгодное.
Итак, прогресс в области религии возможен лишь в случае, если богословы, встав выше предрассудков и своих цеховых интересов и не оглядываясь на большинство своих сотоварищей, протянут руку мыслящим членам общины – паствы. Мы теперь вынуждены апеллировать непосредственно к народу, так как богословы в большинстве своем не желают выслушивать нас, подобно тому, как апостол Павел вынужден был обратиться к язычникам, когда иудеи стали отвергать его благовестие. А если сам народ, в лице своих лучших представителей, успеет настолько развиться, чтобы не довольствоваться тем, что ему обыкновенно преподносит духовенство, тогда и представителям духовного сословия придется образумиться. Их следует подталкивать – ведь и юристы старого покроя только тогда стали отстаивать суд присяжных и иные реформы в своей специальной области, когда на них было произведено давление со стороны общественного мнения. Я знаю, что кое-кто из этих господ станет теперь кричать о перебежчике-богослове, желающем играть роль демагога-клерикала. Пусть так, но ведь и Мирабо был дворянином-перебежчиком, желавшим сблизиться с народом, и, как известно, последствия этого сближения были огромны. Хотя я лично и не приписываю себе талантов Мирабо, однако я с чистой совестью могу оглянуться на свое прошлое и на то деяние, за которое я подвергся опале со стороны цеха, некогда меня в себя включавшего.
Посвящение настоящего труда народу является одною из причин, вследствие которых я отказался от мысли выпустить новым изданием мою критическую обработку жизни Иисуса и решил написать новую книгу, в которой от прежней не сохранилось ничего, кроме основной руководящей мысли. Но в том же направлении меня толкало и другое обстоятельство. Давно уже хотелось мне при новом издании моего труда обозреть все те успехи, которые достигнуты были в этой области со времени его первого опубликования, отстоять занятую мною в нем позицию против новых возражений, исправить и дополнить его выводы результатами дальнейших изысканий, чужих и моих собственных. Но скоро я увидел, что вследствие того утратил бы свое оригинальное лицо мой старый труд, значение которого тем именно и определилось, что он появился ранее упомянутых новейших изысканий, а это обстоятельство меня очень смущало, ибо мой первый труд не только является историческим памятником, отмечающим поворотный пункт в развитии новейшей теологии, но благодаря своей конструкции еще долго может служить небесполезным пособием для учащихся. Поэтому я и решил оставить старую "Жизнь Иисуса" в ее первоначальном, прежнем виде, а если в будущем она окажется распроданной и потребуется ее новое издание, то настоящим я завещаю перепечатать ее согласно первому изданию, включив в нее лишь некоторые исправления по четвертому изданию.
Итак, мне предстояло включить и в этот популярный труд критическое обозрение новейших изысканий, и это я исполнил, хотя и отбросил ученые детали. Конечно, книга от этого потерпела некоторый ущерб, но зато мне удалось отделаться от балласта ученых "предрассудков". Одним из них является столь часто встречающееся в научных трудах богословов-вольнодумцев заверение, будто в основу их исследований положен "чисто исторический интерес". При всем моем почтении к словам ученых людей, я решаюсь все же утверждать, что они пытаются уверить в том, что невозможно, а если это возможно, я счел бы это маложелательным. Конечно, кто пишет о владыках Ниневии или египетских фараонах, тот, может быть, и преследует "чисто исторический интерес", но христианская религия есть столь живая сила, а вопрос о ее происхождении столь остро интересует современность, что надо быть тупоумным человеком, чтобы в решении таких вопросов усматривать только "исторический интерес".
Но одно верно: кому не нравится в современной церкви и теологии то обстоятельство, что они считают христианскую религию сверхъестественным откровением, ее основателя – богочеловеком, а жизнь его – непрерывной цепью чудес, тот может путем исторических изысканий вернее всего достичь своей цели, то есть избавиться от всего того, что его гнетет. Такой человек уверен, что все совершается естественным образом, что даже самый совершенный человек остается человеком, что, стало быть, и то из первоначальной истории христианства, что ныне ослепляет глаз наш как предполагаемое чудо, в действительности могло совершиться лишь естественным путем. Поэтому он и надеется, что чем точнее будет установлен действительный исторический процесс, тем явственней обнаружится его естественный характер, и, стало быть, он в силу собственного развития придет к необходимости детальных исторических изысканий и вместе с тем к суровой исторической критике. В этом отношении я вполне согласен с этими учеными, да, вероятно, и они со мною согласятся, если пристальнее всмотрятся в существо своих стремлений: наша цель – не изучать минувшую историю, а оказать содействие человеческому духу в целях его грядущего освобождения от гнетущего бремени веры, и лучшим средством для достижения этой цели я вместе с ними признаю, наряду с философским изъяснением понятий, историческое изыскание.