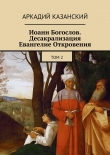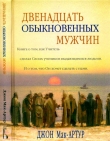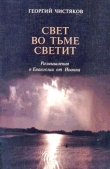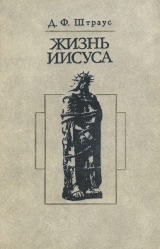
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 55 страниц)
При этом первые три евангелиста, особенно Матфей, при всяком отбытии Иисуса из Галилеи после заточения Крестителя указывают, почему он отлучался с места: в одном случае Иисус переправился через озеро, желая уклониться от стечения народа (Мф. 8:18); в другом случае – в страну Тирскую и Сидонскую – вследствие того, что книжников смущало его учение (15:21). Напротив, Иоанново евангелие нам постоянно объясняет, почему Иисус покидал Иудею, направляясь в Галилею или Перею, причем оказывается, что в одном случае Иисус хотел уйти от слухов, распускаемых его врагами (4:1-3), а в другом уклонялся от преследований и покушений (5:18; 6:1; 7:1; 10:39; 11:54). Следовательно, обе стороны исходят из противоположных представлений: первые три евангелиста предполагают, что Иисусу вплоть до последнего отбытия в Иерусалим было предуказано действовать в Галилее, которую он лишь по особо важным причинам изредка покидал на короткое время, а Иоанн, напротив, полагает, что Иисус всегда предпочитал выступать в Иерусалиме и Иудее и лишь из-за предосторожности ему приходилось изредка отлучаться в отдаленные провинции.
Но лишь одно из этих противоречивых предположений может быть верным, и потому большинство современных богословов, разумеется, предпочитает верить Иоанну и не доверять синоптикам. Они рассуждают так: в галилейском предании, из которого черпали свои сведения первые евангелисты, в частности Матфей, почти ничего не говорилось о предыдущих праздничных путешествиях Иисуса, а уцелевшие известия о них рано слились в сообщение о последнем и важнейшем его путешествии, таким образом, у синоптиков получились две сплошные, массовые группы сведений, галилейская и иерусалимская, тогда как Иоанн нам говорит, что это не так, что деятельность Иисуса в Галилее прерывалась посещениями Иерусалима и что речи и деяния Иисуса в Иерусалиме относятся к разным моментам его пребывания в этом месте; поэтому Иоанново описание праздничных путешествий Иисуса может служить своего рода регулятором, при помощи которого доставленный прочими евангелистами материал можно распределить так, чтобы галилейские события чередовались с иудейскими в связи с соответствующими передвижениями Иисуса. Однако спрашивается: чем же нам руководиться при таком распределении материала, если первые три евангелиста на всем протяжении своих галилейских повествований нигде не говорят об отбытии в Иудею и если галилейские эпизоды, о которых повествует четвертый евангелист, прерывая свой рассказ об Иудее, почти нигде не совпадают с первыми? В этом случае открывается простор для произвола, и всякая попытка согласовать евангелия в этом отношении может свестись лишь к совершенно необоснованным предположениям.
Поэтому дерзнем поставить вопрос так: что исторически правдоподобнее то, что Иисус, как говорится в первых трех евангелиях, продолжительное время действовал только в Галилее и пограничных с нею областях и лишь под конец решился сделать роковой шаг – отправиться в Иерусалим и тем ускорить кризис и развязку, или то, что он, как сообщает Иоанн, всегда выступал и в Галилее, и в Иудее, и всюду, а в особенности в Иерусалиме, смущал своих противников, пока, наконец, его последнее пребывание в Иерусалиме не завершилось катастрофой?
По этому случаю необходимо коснуться вопроса о продолжительности общественного служения Иисуса, как она выясняется из сообщений евангелистов. Прямого указания на то, как долго действовал Иисус публично, мы не находим ни в одном из евангелий. В этом отношении первые три евангелия совершенно для нас непригодны, так как в них нигде не отмечаются ни месяцы, ни годы, а встречаются лишь изредка такие указания: "по прошествии дней шести", "через два дня" (Мф. 17:1;
26:2), которые по своей неопределенности не могут служить точкой опоры. Зато в четвертом евангелии, по-видимому, даются необходимые указания; в отличие от других евангелий, в нем отмечаются праздничные странствия Иисуса, и те из них, которые совершались ежегодно, например пасхальные, могут служить указанием на то, сколько протекло времени от одного события до другого (предполагая, что все путешествия перечислены без пропусков). От крещения Иисуса Иоанном, которое издавна считалось начальным моментом общественной деятельности Иисуса (Деян. 1:22), до первого пасхального паломничества Иисуса прошло, по свидетельству евангелиста, немного времени (1:29, 35, 43; 2:1, 12). Но второе путешествие, предпринятое Иисусом, вряд ли было пасхальным, ибо в евангелии говорится весьма неопределенно о каком-то "празднике Иудейском" (5:1), стало быть, это событие нам не может служить точкой опоры. Далее евангелист упоминает, что ко времени насыщения народа приближался праздник Пасхи (6:4), но ничего не говорит о том, ходил ли Иисус в этот раз в Иерусалим. Затем до роковой предсмертной Пасхи ни о каких праздниках более не говорит (11:55; 12:1; 13:1), а потому выходит, что общественное служение Иисуса продолжалось по меньшей мере два года, в тот короткий промежуток времени, который протек от крещения до первой Пасхи. Мы говорим "по меньшей мере", ибо по староцерковному воззрению под "Иудейским праздником" (5:1) следовало разуметь праздник Пасхи, и таким образом получалось, что служение Иисуса продолжалось три года. Но мы не знаем, все ли пасхальные праздники перечислил евангелист, и не умолчал ли он о тех, к которым Иисус в Иерусалим не ходил. Неверно рассуждают и те, которые находят, что, в противоположность хронологии Иоанна, можно по первым трем евангелиям определить, что деятельность Иисуса продолжалась лишь один год. О прежних пасхальных путешествиях Иисуса евангелисты умолчали, быть может, потому, что они сами только после первого паломничества Иисуса в Иерусалим стали обращать внимание на этот город; а что Иисус далеко не во все пасхальные праздники бывал в Иерусалиме, это признает сам Иоанн, который говорит, что Иисус оставался в Галилее во время одного пасхального праздника (6:4; 1:17, 51; 7:1). Поэтому мы можем утверждать, что первые три евангелия не дают возможности установить продолжительность общественного служения Иисуса, что, исходя из синоптических евангелий, можно предполагать, что он действовал либо один год, либо много лет и что, во всяком случае, только в последний год служения он ходил в Иерусалим на праздник Пасхи.
Предположение о том, что деятельность Иисуса продолжалась только один год, высказывалось многими древнейшими отцами церкви и еретиками, которые ссылались на одно лишь изречение пророка Исаии о "лете Господнем благоприятном" (Ис. 61:2), которое, по словам Луки (4:18), Иисус сам относил к себе и которое по двойному недоразумению было понято в строго буквальном смысле, как указание на продолжительность его деятельности. Однако на подобном же недоразумении покоится и противоположное мнение многих иных отцов церкви, а именно что Иисус крещен был Иоанном на тридцатом, а распят был на пятидесятом году жизни. Дело в том, что, по словам Иоанна (8:57), иудеи однажды заметили Иисусу: "Тебе нет еще пятидесяти лет,– и Ты видел Авраама?" Но смысл этого замечания, конечно, только тот, что Иисус еще не достиг преклонного возраста. Определяя максимум продолжительности общественной деятельности Иисуса, мы должны исходить из того, что Иисус был казнен при прокураторе Понтии Пилате (что подтверждают также и писатели-язычники) (Тацит. Анналы. XV 44). Приняв в 25 году нашего летосчисления должность в Иудее, Пилат был в 36 году послан Луцием Вителлием в Рим, чтобы оправдаться по обвинениям, возведенным на него евреями, и оттуда в Иудею он уже не вернулся. Следовательно, позднее означенного 36 года казнь Иисуса не могла состояться. Стало быть, если мы примем хронологическую дату Луки (3:1-2): "в пятнадцатый же год правления Тиберия кесаря... был глагол Божий к Иоанну... в пустыне",– которая, собственно, относится к моменту выступления Крестителя, и предположим, что этой датой определяется момент крещения и начало публичного выступления Иисуса, тогда окажется, что крещение могло последовать на пятнадцатый год правления Тиберия, то есть в 29 году христианского летосчисления, и что период в семь лет, протекший с этого момента до отъезда Пилата из Иудеи, представляет максимальный срок деятельности Иисуса. Но, разумеется, при неполной достоверности хронологической даты Луки это наше исчисление тоже весьма шатко.
Решая вопрос, кто правильнее указал число праздничных путешествий Иисуса – синоптики или Иоанн, нам нужно было сначала коснуться вышеуказанных вопросов по следующему соображению: если бы мы допустили, что Иисус за все время своего общественного служения совершил только одно пасхальное путешествие, то должны были бы предположить, что вся деятельность Иисуса продолжалась не более одного года, но очевидная неправдоподобность этого последнего предположения отразилась бы неблагоприятно также и на первом, и мы предпочли бы указание четвертого евангелия относительно праздничных путешествии Иисуса; и надо полагать, что и Иоанн именно по этим соображениям отдал предпочтение историческим рассказам четвертого евангелиста. Но если нам ничто не мешает считать, что общественное служение продолжалось несколько лет, хотя бы мы и соглашались в этом отношении с первыми тремя евангелиями, тогда по вопросу о числе путешествий приходится лишь решать, чье сообщение правдоподобнее синоптиков или Иоанна.
В пользу последнего приводят обычно довод, что всякий благочестивый галилеянин, вероятно, считал своим долгом посещать Иерусалим, по крайней мере, во все пасхальные праздники. Но это соображение нельзя ничем подтвердить для того времени, да и сам Иоанн, как замечено выше, этого совсем не предполагает. С другой стороны, этот довод, как было показано, отпадает сам собой, если удастся доказать, что Иисус не был традиционно-благочестивым галилеянином. Наконец, неверно утверждение возлюбивших Иоанна теологов, будто первые три евангелиста сами свидетельствуют в пользу Иоанна, повествуя о таких обстоятельствах и речах Иисуса, которые необходимо предполагают неоднократное посещение им Иудеи и Иерусалима. Говорят, что знакомство Иисуса с Иосифом Аримафейским будет непонятно, если мы не допустим, что Иисус ранее посещал означенные места. Но Иисус мог познакомиться с ним при последнем посещении Иерусалима, если не считать родиной Иосифа галилейское селение Аримафею. О Марии и Марфе мы знаем со слов Луки (10:38) лишь то, что селение, в котором они жили, лежало на пути из обычной галилейской резиденции Иисуса в Иудею, то есть, вероятно, в Галилее или Перее. Иоанн утверждает, что это селение называлось Вифанией и находилось близ Иерусалима, но достоверность показаний Иоанна здесь именно и требуется доказать. Единственным серьезным аргументом против повествования синоптиков является изречение Иисуса (Мф. 23:37; Лк. 13:34): "Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!"
Вопреки свидетельству Луки, слов этих Иисус не мог сказать, отправляясь в Иерусалим, если ни разу еще не видал этого города за все время своей публичной деятельности. Но и в самом Иерусалиме Иисус не мог указывать на то, что он много раз пытался тщетно привлечь к себе его жителей, если он успел побывать в Иерусалиме один только раз и пробыть в нем несколько дней. И так приходится отбросить всякие ухищрения и признать, что если это – подлинные слова Иисуса, то, стало быть, он гораздо чаще бывал в Иерусалиме и действовал там в течение более продолжительного времени, чем это можно заключить по синоптическим рассказам. Но слова эти не принадлежат Иисусу. Матфей, приписавший их Иисусу, сообщает также и другое изречение. "Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете... да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного и до крови Захарии..." и так далее (23:34-35). В обоих изречениях говорится об истязании евреями посланников Божиих, и потому возможно, что вначале они действительно составляли одну речь. Лука же своеобразно разделяет их, причем последнему изречению Иисуса предпосылает следующие слова: "потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков" и так далее (11:49). Но, во-первых, это добавление представляется первичным именно ввиду его странного характера, что, вероятно, и побудило Матфея опустить его; и, во-вторых, ввиду родства обоих изречений мы можем предположить, что и воззвание к Иерусалиму, которое Матфей сочетал с этим изречением, есть составная часть речи премудрости Божией. Под премудростью же Божией ни Иисус не мог подразумевать себя, ни евангелист – Иисуса, так как такого обозначения и самоцитирования Иисуса вообще в евангелиях не встречаем. Нельзя под премудростью Божией разуметь и вдохновительницу Священного Писания Ветхого завета, так как в Ветхом завете не имеется соответствующих изречений. Поэтому необходимо допустить, что здесь идет речь об особом сочинении, причем один евангелист утверждает, что Иисус привел из него цитату с указанием источника, а другой заявляет, что цитированные слова представляют собственное изречение Иисуса. Возможно, это сочинение было написано каким-нибудь христианином в эпоху разрушения Иерусалима и имело целью от лица премудрости Божией указать евреям на их проступки против посланников Божиих всех времен, начиная с Авеля и кончая Захарией, сыном Варахии, которого зилоты умертвили в храме (Лк. 11:51). Нечто подобное замышлял также и Стефан в своей речи (Деян. гл. 7). Наконец, в устах олицетворенной премудрости Божией слова: "я посылаю к вам книжников", имеют больше смысла, чем в устах Иисуса.
Если, следовательно, неверно утверждение, что и в первых трех евангелиях встречаются места, которые понятны лишь при условии частого посещения Иисусом Иерусалима, то, с другой стороны, против четвертого евангелия можно возразить, что из его рассказа нельзя понять, почему первое пребывание Иисуса в Иерусалиме не стало и последним. По сообщению синоптиков, фарисеи уже тогда, когда Иисус исцелил в субботу сухорукого, "имели совещание против Него, как бы погубить Его" (Мф. 12:14); а после тех резких обличений, которым они подверглись с его стороны в споре об омовении рук, они "подыскивались под Него, стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его" (Лк. 11:54). Все это, вероятно, происходило уже давно, и нам не трудно понять, почему фарисеям не удавалось привести в исполнение свои замыслы тогда: в Галилее партия иерархов не была настолько сильна, чтобы вырвать из среды последователей любимого народом человека;
но как только он очутился у них в руках в Иерусалиме, они тотчас и беспрепятственно приступили к делу. Но у Иоанна дело представлено иначе: Иисус уже с самого начала и неоднократно дерзает забираться в эту львиную пещеру и там ведет себя так, что остается только удивляться, как он успевал выйти оттуда целым и невредимым. Уже при первом своем посещении Иерусалима он изгоняет из храма покупателей и продавцов, и при этом, по словам Иоанна, позволяет себе насильственные действия и резкости, о которых ничего не сообщают нам синоптики (о том, что Иисус пустил в дело бич, сообщает только Иоанн), хотя в данном случае его не поддерживала масса приверженцев-энтузиастов, так как этому первому пребыванию Иисуса в столице не предшествовал такой торжественный въезд и прием, каким ознаменовалось его последнее посещение. Уже и тут приходится дивиться, что это дело окончилось благополучно, тем более что и речь о разрушении и восстановлении храма, которую Иисус, по сообщению Иоанна, сказал тогда же, не могла не вызвать большой смуты. Во время второго пребывания Иисуса в столице по случаю неназванного праздника совершенное в субботу исцеление больного возбуждает в иудеях желание умертвить его, а речь, в которой он, видимо, приравнивал себя Богу, еще более утверждает их в этом решении (5:16, 18; 7:1, 19). В следующий затем праздник кущей они опять неоднократно пытаются схватить его за подобные речи и даже посылают с этой целью служителей (7:30, 32, 44). Если мы спрашиваем:
да почему же они этого не исполнили, хотя ничто им не мешало тут, в столице? почему служители не выполнили данного им приказа? – то на такой вопрос евангелист дает один ответ: потому что еще не пришел час его (7:30; 8:20). Точно так же и в другом случае, когда враги Иисуса уже подняли камни на него, евангелист замечает, что "Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди их" (8:59; 10:39; 12:36). Иными словами, евангелист ссылается на чудо; и действительно, в момент, когда конфликт достиг уже такой остроты, а положение вещей было так благоприятно для врагов Иисуса, только чудо могло отсрочить катастрофу. При этом обнаруживается еще одно противоречие: евангелист заявляет, что промежуток времени, протекший между праздниками, Иисус прожил вне Иудеи, или, по крайней мере, вне столицы, чтобы уклониться от покушений своих тамошних врагов (4:1-3; 7:1; 11:54). Но он ведь мог спокойно оставаться в Иерусалиме, если "еще не пришел час Его" и если он умел чудесным образом скрываться из глаз своих врагов.
Своими сообщениями о прежних посещениях Иисусом Иерусалима четвертый евангелист преждевременно обострил дело, и потому ему впоследствии приходится слишком замедлять ход событий, а так как благодаря этому нарушилось естественное развитие событий, то евангелисту пришлось доводить дело до конца искусственным введением эпизода о воскрешении Лазаря. Упреждать события, вообще, присуще этому евангелисту. У него все происходит не естественным образом, все уже предсуществовало. По словам остальных евангелистов, потребовалось продолжительное время и целый ряд событий, прежде чем способнейший из апостолов признал в Иисусе Мессию; а по словам четвертого евангелиста, брат его Андрей сообразил это тотчас (1:40-42), хотя, с точки зрения Иоанна, сообразил он неправильно. По словам того же евангелиста, Иисус уже при первой встрече с Симоном-Петром называет его "Камнем" (1:42), что, согласно первым евангелистам, произошло гораздо позднее. О своем распятии и воскресении Иисус в четвертом евангелии предвозвещает уже при первом праздничном своем приходе в Иерусалим (2:19; 3:14) и уже с самого начала знает, кто его предаст (6:70-71). Итак, четвертый евангелист любит выставлять на первый план и преждевременно рассказывать все то, что служит к прославлению Иисуса, поэтому он и поспешил вывести Иисуса из галилейского захолустья на подобающую ему широкую арену деятельности – в столичный город, чтобы он там просвещал всех светом своего духа, проявил свое высокое достоинство и на деле показал не только мужество, но и божественную силу (хотя, впрочем, эти два свойства друг друга исключают). Но главное, из основной идеи четвертого евангелия, задавшегося целью противопоставить иудейское неверие, или принцип тьмы, воплощенному в Иисусе принципу жизни и света, само собою вытекало, что и борьбе между обоими принципами с самого начала надлежало разыграться в главном центре и резиденции иудаизма, в Иерусалиме.
Но отрешимся на минуту от нашего предположения, что сообщение Иоанна о многократных праздничных паломничествах Иисуса вытекает из догматической конструкции его евангелия, и предположим, что он лишь ускоряет наступление конфликтов, что Иисус действительно бывал много раз в Иерусалиме до своего последнего посещения, но выступал тогда так осторожно и тактично, что его жизни еще не угрожала серьезная опасность. Однако и в этом случае повествование Иоанна не представляется правдоподобным. Иудея, и в особенности ее столица, являлась средоточием и твердыней всего того, против чего хотел бороться Иисус. Там фарисейская партия господствовала над легко фанатизирующейся массой населения; там прочно утвердился весь внешний культ религии с его пристрастием к жертвоприношениям и очищениям благодаря стараниям многочисленного духовенства, совершавшего в великолепном храме свои торжественные богослужения. Вступить здесь в борьбу с этим фарисейским направлением Иисус, конечно, мог отважиться лишь тогда, когда успел приобрести сторонников и авторитет продолжительной деятельностью в таких местах, где фарисейство еще не было господствующим направлением и где к его учению народ относился восприимчивее,– словом, тогда, когда успел ближе узнать народ с его классами и различной восприимчивостью к глубокой религиозности и выработать собственный план действий на основе данных отношений. Такой продолжительной деятельностью в Галилее Иисус успел, вероятно, возбудить сочувствие в широких кругах населения и обрести тесный кружок преданных учеников; но раз он решил расширить свою деятельность и, не довольствуясь созданием новой замкнутой в себе секты, преобразовать всю религиозную систему своего народа, то должен был отважиться и на решительное и открытое выступление в столице. То, что это выступление даже при надлежащей подготовленности провинции окончится неблагополучно, Иисус мог ясно предвидеть сам, зная по собственному опыту, как велика закоснелость иерархической партии, как неразвита и тупа масса населения и как ненадежен минутный энтузиазм даже восприимчивых слоев народа. Но дело само толкало его вперед; остановиться – значило собственноручно погубить все то, что раньше удалось совершить, и в то же время, делая последний роковой шаг, Иисус, даже и при неблагоприятном исходе его, мог рассчитывать на то, что его мученическая смерть во имя великой идеи даст, как всегда, огромной важности плоды.
41. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИИСУСА.
В той деятельности, которую развернул Иисус на выше очерченной арене, учительство стоит на первом плане, и так как мы уже успели развить основные черты его религиозной системы и вскрыть основное содержание его учения, теперь обратимся к форме, и прежде всего методу учительства Иисуса; при этом в дополнение к вышеизложенному мы обнаружим некоторые частности, характеризующие содержание учения.
О том, что Иисус в роли учителя оказывал огромное и глубокое влияние на впечатлительных людей, свидетельствуют не только евангелия (Мф. 7:28; Мк. 1:22; Лк. 7:29; Ин. 6:68-69), но также исторический успех. Ответом на вопрос о причине такого успеха и влияния могут служить слова Юстина Мученика в его первой "Апологии Иисуса" (I14):
"Речи его были кратки и убедительны, ибо он не был софистом, и слово его отражало в себе силу Божию". В этом отзыве, с одной стороны, ярко отмечена глубина религиозности, которой согреты были его речи, а с другой подчеркнута естественная простота их формы. "Он не был софистом",– говорит учитель церкви, получивший греческое образование; а еврей сказал бы, что он не был раввином, не говорил как книжник (Мф. 7:29). Он не придумывал искусственной аргументации, а говорил метко и доказательно. Поэтому в евангелиях мы находим богатое собрание сентенций и изречений, которые, помимо своего религиозного значения, представляют большую ценность по тому ясному уму и прямодушию, которыми они отмечены. Воздайте кесарево – кесарю, а Божье – Богу; никто к ветхой одежде не приставляет заплат из новой небеленой ткани и не вливает вина молодого в ветхие мехи; не здоровым нужен врач, а больным; если твоя рука или нога соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; вынь прежде бревно из твоего собственного глаза, а потом уж постарайся вынуть сучок из глаза ближнего твоего; не до семи раз должен ты прощать согрешившему брату, а до седмижды семидесяти раз,– все это незабываемые изречения, в которых выражены неоспоримые истины в крайне сжатой и общепонятной форме.
Такие мудрые изречения Иисус в большинстве случаев высказывал по случайным поводам. Так, например, изречение о динарии вызвано лукавым вопросом фарисея, изречение о враче – недовольством фарисеев, которых смущали его сношения с мытарями. С другой стороны, изречения о сучке и бревне и о соблазняющей руке приводятся в составе длинной речи (Мф. 5:30; 7:3), и в евангелиях сохранились многие такие речи, произнесенные Иисусом в назидание широкому или тесному кругу слушателей. Например, Нагорная проповедь имела целью разъяснить основы религиозно-нравственной деятельности Иисуса более широким кругам его последователей. Так называемая напутственная речь является наказом, которым 12 апостолов должны были руководствоваться в своей евангельской проповеди; в большой антифарисейской речи содержится полемическая отповедь Иисуса сторонникам фарисейства и так далее Таких подробных речей особенно много приведено в Евангелии от Матфея, и теперь можно уже считать доказанным, что этот евангелист нередко чисто внешним образом связывал воедино изречения, которые высказаны были Иисусом по различным поводам (как, например, в Нагорной проповеди (Мф. 6:19), и что даже после смерти Иисуса составлены были в его духе и приписаны ему изречения, связанные с более поздними обстоятельствами. Все эти речи, в той мере, в какой они подлинны, отличаются вполне естественным, хотя и не всегда строго логическим развитием мыслей; в них, как и в кратких изречениях, слог и способ выражений отмечены печатью простоты, цельности и наглядности; примеры бытовые, очерки природы всегда удачно подобраны и нередко дышат истинной поэзией.
Еще более поэтический элемент преобладает в притчах, в которые Иисус охотно облекал свои идеи, чтобы привлечь народ картинностью речи и изощрить силу разумения и мышления в наиболее восприимчивых слушателях, которым он подробнее разъяснял смысл своих притчей. Мнение о том, что Иисус, напротив, избрал эту форму для того, чтобы скрыть от народа тайну Царства Небесного и тем привести в исполнение пророчество Исаии (6:9) (Мф. 13:10-15), происходит только от какой-то ипохондрической установки евангелиста, бывшего свидетелем невосприимчивости еврейского народа в целом к учению Иисуса. Притча (аполог) является весьма обычной на востоке формой изложения, которая нередко встречается и в Ветхом завете и, по-видимому, была весьма популярна в те времена. Притчей пользуются не только евангелия, но и талмуд, а Иосиф Флавий сообщает, что император Тиберий пытался посредством притчи защитить себя от нареканий за то, что редко менял чинов управления в провинциях (Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII 6,5).
Матфей в главе 13 своего евангелия сгруппировал семь притчей, которые не все приведены у двух других синоптиков; они, наверно, не все были произнесены в один раз, но, подобно Нагорной проповеди, без сомнения, являются наиболее аутентичными из всех дошедших до нас изречений Иисуса. Первая притча, о сеятеле, имеющаяся во всех синоптических евангелиях, особенно выделяется своей самобытностью; с одной стороны, в ней сказался собственный житейский опыт Иисуса, приобретенный на учительском поприще, а с другой стороны, в ней наглядно изображено первичное моральное явление различная степень восприимчивости людей к духовному воздействию. Подлинность второй притчи – о плевелах, и седьмой – о неводе, имеющихся только у Матфея, весьма сомнительна; они исходят из эмпирического вывода, что нечистые элементы в настоящем еще невозможно устранить ни из человеческого общества, ни даже из общины христиан, а это, в свою очередь, указывает на то, что притчи эти появились в сравнительно поздний период существования общины, хотя сходство эпитета "враг – человек", которым обозначен сеятель плевелов и которым эбиониты обозначали апостола Павла, является, по-видимому, совпадением случайным. В третьей и четвертой притчах, о горчичном зерне и о закваске, проступает постепенный рост нового религиозного принципа, причем первая подчеркивает контраст между скромным началом и огромным конечным успехом этого принципа, а последняя наглядно изображает силу принципа, проникающего во все поры и отношения человечества. Наконец, последние две притчи, о кладе в поле и о жемчужине, отмечают огромную ценность новоявленного Царствия Небесного и представляют собой лишь образное развитие изречения (Мф. 6:33): "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". Одновременно они напоминают место из Книги Притчей Соломоновых (3:14-15): "Потому что приобретение ее (мудрости.– Ред.) лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, чем от золота. Она дороже драгоценных камней... и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею!" Равным образом и отдельно приведенную притчу о царе, рассчитывающемся со своими слугами (Мф. 18:23-35), можно принять за простой комментарий к пятому прошению в молитве "Отче наш" (Мф. 6:12).
В группе притчей, собранных Матфеем в 13 главе, говорится, главным образом, о развитии Царствия Божия, о том, как незаметно оно насаждается в человечестве, как неодинаково оно воспринимается людьми как оно тормозится и оскверняется примесью нечистых элементов и как при всем том оно неудержимо развивается и совершенствуется, являясь высшей наградой для приобщившихся и стремящихся к нему людей. Наоборот, в другой группе, о походах Иисуса в Иерусалим и пребывании его там, Царствие Божие изображается по преимуществу со стороны его завершения и конечной формы и со стороны той участи, которая ожидает людей соответственно их отношения к нему. Здесь говорится о несходстве и контрасте между различными классами иудейского народа, о лицемерии и самодовольстве закоснелых фарисеев и книжников, с одной стороны, и, с другой стороны, о деморализации народной массы, которая, однако, сознает свое падение и вследствие того подает еще надежды на исправление, подобно мытарям, которых так ненавидели и презирали все за их служение римлянам и маммоне. Однако в этих притчах речь идет уже не об одном народе иудейском, а также о язычниках, которых притчи обещают призвать вместо иудеев в Царствие Божие, причем нередко первое (классовое) противоположение заменяется вторым (национальным), хотя бы в редакции евангелистов. Так притча о рабах и талантах у Матфея (25:14-30) в чистом виде говорит лишь об использовании даров (талантов), Богом данных человеку; но по позднейшей редакции у Луки (19:12-27) в притче этой говорится уже не о талантах, а о минах, и высказывается мысль, что граждане, не признавшие царем Господа, будут за это окончательно истреблены, то есть что и иудеев, не признавших Иисуса, постигнет в наказание за это национальное бедствие. (215) Точно так же притчу о двух сыновьях (Мф. 21:28-32), в которой один обещает слушаться отца и не исполняет обещания, а другой поступает обратно, сам Иисус, по словам Матфея, истолковал (ст. 32) в смысле намека на первосвященников и старейшин, с одной стороны, и мытарей с блудницами – с другой; между тем в аналогичной притче о блудном сыне у Луки (15:11-32) содержится вполне очевидный намек на взаимоотношения евреев и язычников. В приведенной лишь Матфеем притче о виноградарях, разновременно призванных, но получивших одинаковую плату за работу (20:1-16), очевидно, разумеются иудеи и христиане из язычников и говорится о неправомерности притязаний первых, тогда как две другие притчи, о брачном пире царя (Мф. 22:1-14; Лк. 14:16-24) и о мятежных виноградарях (Мф. 21:33-41; Мк. 12:1-9; Лк. 20:9-16), явно угрожают совершенным исключением и наказанием жестоковыйному народу иудейскому. Замечательно при этом следующее обстоятельство: вышеупомянутая притча о талантах изложена у Матфея в первоначальном самобытном виде, а у Луки переработана в антиеврейском духе, но притча о царском пире изложена обоими евангелистами иначе: у Луки сказано, что некий (простой) человек сделал большой ужин и звал многих и что званые (то есть иудеи, и в частности, высокомерные иерархи) просто не приняли приглашения, за что и были так же просто отстранены от пира и заменены не только нищими и калеками (то есть, быть может, мытарями и им подобными людьми), но также людьми, призванными с дорог и изгородей (то есть язычниками); наоборот, у Матфея лицо, устроившее пир, – царь с ясно выраженным мессианским обликом, и он устраивает брачный пир для своего сына; мало того, из притчи о мятежных виноградарях, ранее рассказанной евангелистом, им взята новая, притом Довольно странная черта – указание на то, что гости званые не только отвергли приглашение, но даже стали мучить и избивать рабов, явившихся их приглашать, и что за это царь послал свое войско истребить их и сжечь их город. Черта эта, очевидно, появилась в притче впоследствии, после разрушения Иерусалима. У Матфея странным представляется еще и то, что нищие и калеки, паче чаяния, явились на пир одетыми в брачную одежду; но эта оговорка, вероятно, сделана была для успокоения христиан из иудеев, если под брачной одеждой будем разуметь обряд обрезания или крещения, соблюдением которого обусловливалось принятие в общину новообращенных язычников (прозелитов).