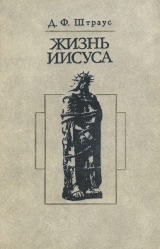
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 55 страниц)
Наконец, против Евангелия от Матфея возражали, что его автору ничего не известно о таких событиях, о которых должен был бы знать апостол; например, избрание 70 учеников, видимое для всех вознесение Иисуса на небо, некоторые его праздничные путешествия, воскрешение Лазаря. Но о двух первых фактах ничего не ведает и Иоанново евангелие, а если оно (и только оно одно) сообщает о двух остальных фактах, то встает вопрос: не сообщает ли оно о том, чего вовсе не было, то есть о фактах неисторических, и не объясняются ли подобные сообщения четвертого евангелия его своеобразной тенденцией и отдаленностью момента его написания от момента сообщаемых событий.
С этой точки зрения необходимо беспристрастное и непредубежденное отношение ко всем четырем евангелиям вообще; необходимо отрешиться от предвзятого взгляда на одни евангелия, например Евангелие от Иоанна, как на евангелия, безусловно, подлинные и апостольские, и подвергнуть одинаковой критике и сравнительному рассмотрению все евангелия вообще и каждое в отдельности и затем уже решать, которое из евангелий можно признать трудом апостольским или возникшим при апостолах. О таком критическом просмотре я говорил уже в моей рецензии по поводу вышеозначенного трактата о Евангелии от Матфея; его же я пытался осуществить и сам в своем труде о жизни Иисуса, а относительно всех четырех евангелий я пришел к отрицательному результату: я нашел, что все их рассказы, вообще, являются не сообщениями очевидцев, а записями лиц, которые стояли уже вдали от сообщаемых фактов и кроме подлинных заметок и отрывков речей собирали также легендарные сказания и весь этот материал приукрасили отчасти даже собственными вымыслами.
При этом я должен заметить, что, вопреки Бауру и его подражателям, моя тактика отнюдь не состояла в том, чтобы побивать синоптиков Иоанном, а Иоанна – синоптиками и таким образом совершенно поколебать всякую веру в евангельскую историю. Напротив, именно я и подготовил ту самую почву, на которой впоследствии утвердился Баур, и подготовил ее тем, что в отличие от выше перечисленных критиков старался показать, что в Евангелии от Матфея заключается наиболее надежное историческое содержание, что Евангелие от Иоанна наименее благонадежно в историческом смысле, что в нем процесс идейной переработки евангельского исторического материала зашел наиболее далеко и что в нем отразилось наивысшее развитие понятия чудесного и представлений о Христе. И если Баур справедливо не удовлетворяется общим замечанием о большей или меньшей степени достоверности и требует указания тех качественных признаков, которыми отдельные евангелисты отличаются друг от друга, то я, подобно некоторым моим предшественникам, уже в разных местах моей "Жизни Иисуса" обращал внимание на пророческий прагматизм Матфея и историзирующий прагматизм Луки, на склонность первого сводить традиционные изречения Иисуса в крупные комплексы речей и на склонность второго снабжать отдельные изречения искусственными мотивами и поводами, на преувеличения и аффектированную живость Марка и так далее, и, в частности, я показал, что Евангелие от Иоанна, с одной стороны, является кульминационной точкой развития евангельской мифологии, а с другой стороны – вполне своеобразным и отличным от других евангелий произведением. На такой метод рассмотрения евангелий меня наводил анализ речей Иисуса, приведенных у Иоанна. В то время как три первые евангелия довольствовались простым распределением и приведением в порядок традиционно унаследованных речей и только иногда немного изменяли или пополняли их самостоятельно, речи Иисуса, приведенные в четвертом евангелии, мне показались самовольными произведениями евангелиста, в основе которых в лучшем случае лежали руководящие идеи подлинных речей Иисуса, переработанные в духе александрийской философии. Чем-то искусственным представлялись мне также своеобразный прагматизм в повествовании четвертого евангелия, постоянное непонимание речей Иисуса со стороны иудеев и его учеников, повторность и неизменная безрезультатность покушений на жизнь Иисуса; образ Никодима представлялся мне образом вымышленным, а взаимоотношения между Петром и Иоанном нарочито приукрашенными в пользу последнего; сцену с самарянкой у колодца Иаковлева я прямо признал поэтическим вымыслом и указал, что элемент чудесного, характеризующий собой рассказ о воскрешении Лазаря, свидетельствует о том, что евангелие не принадлежит к разряду исторических произведений. Лишь в двух случаях я не решился проводить различение между синоптическим и Иоанновым описаниями событий: во-первых, при определении дня смерти Иисуса – поскольку очень вероятно, что оба данных неисторичны; во-вторых, по вопросу о том, единожды или несколько раз побывал Иисус за время своего проповедничества в Иерусалиме,– в настоящее время я, как и Баур, принимаю точку зрения трех первых евангелий, но это произошло лишь после того, как мне удалось более убедительным образом, чем это делал он, устранить важнейший, на мой взгляд, довод в пользу точки зрения четвертого евангелия, о чем пойдет речь в надлежащем месте. Я охотно признаю, что по всем этим пунктам Баур пришел к более определенным результатам, что его исследование (100) является необходимым добавлением и в некоторых случаях даже коррективом к моему труду. Однако не подлежит сомнению и то, что он продолжал то дело, которое было начато мною, и не брался за такое дело, которого не начинал и я. Если он упрекнул меня за то, что я представил критику евангельской истории, не дав критики евангелий, то я с таким же правом мог бы упрекнуть его за то, что он представил критику евангелий, не дав критики евангельской истории. По крайней мере, те общие замечания, которыми он в этом отношении ограничился, совершенно неудовлетворительны и недостаточны, а потому его труды по критике евангелий выдвинули новую задачу – подвергнуть более обстоятельной критике также и евангельскую историю.
17. ПОПЫТКИ ВЫДЕЛИТЬ В ЧЕТВЕРТОМ ЕВАНГЕЛИИ ПОДЛИННУЮ И НЕПОДЛИННУЮ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ: ВЕЙСЕ, ШВЕЙЦЕР, РЕНАН.
Чрезвычайное доверие, которым пользовалось доселе четвертое евангелие, сильно поколебалось после сравнительного анализа четырех евангелий, который я предпринял в моей критической обработке жизни Иисуса. Здесь я выявил их противоречия и недостаточность всех прежних попыток к их примирению, здесь же я взвесил степень их достоверности по всем отдельным моментам евангельской истории и в результате получил вывод весьма неблагоприятный для четвертого евангелия. После этого уже нельзя было по-прежнему признавать его непререкаемым авторитетом, нельзя было противопоставлять Иоанна остальным трем евангелистам и считать его очевидцем, опровергающим других повествователей. Апологетам Иоанна уже не удавалось восстановить прежнее доверие к нему, они даже и сами стали терять к нему доверие, что можно ясно видеть на примере Люке: в третьем издании своего Комментария к Евангелию от Иоанна он уже пошел на значительные уступки, особенно по вопросу о речах Иисуса, приведенных в этом евангелии, и тем пытался (но тщетно) отстоять все остальное, в конце концов он признал, что в четвертом евангелии встречается гораздо больше неясностей и противоречий, чем в остальных.
Но тем не менее решительно отбросить его, как того требовала критика, никто не пожелал: в нем содержалось нечто такое, что привлекало всех, в пользу чего (как выражались некоторые) свидетельствует внутренний голос Святого Духа и ради чего все были склонны по-прежнему признавать в нем вдохновенное Богом апостольское произведение. Итак, если в одном и том же произведении содержалось приятное и противное, неприемлемое и необходимое, то оставалось попытаться обособить эти составные части друг от друга и одну из них приписать апостолу-очевидцу, а другую – позднейшему автору, не пользующемуся обязательным для нас авторитетом. Правда, по традиции Евангелие от Иоанна все еще считалось цельным однородным произведением в обоих лагерях – как у сторонников, так и у противников гипотезы о его апостольском происхождении; однако такого же мнения прежде были и о трех первых евангелиях, а затем относительно Евангелий от Марка и от Луки стал преобладать тот взгляд, что они составлены из разнородных элементов и своим нынешним составом обязаны переработке. Следовательно, вполне естественно и то, что мнение о первичной цельности Евангелия от Иоанна тоже стало казаться предрассудком, который ни для кого не будет обязателен, если его опровергнет основательное исследование.
Вейсе говорит: "Вопрос не в том, подлинно ли Евангелие от Иоанна, а в том, что в нем подлинно". И на этот вопрос он отвечает так: подлинно в нем то, что по характеру воззрений и их изложения родственно первому посланию Иоанна, которое, по удостоверению внешних свидетельств, является аутентичным произведением апостола Иоанна. Вейсе находит, что в смысле стиля дидактическая или умозрительная часть евангелия состоит с посланием в таком родстве, которое можно объяснить лишь тождеством авторов, а не подражанием. Отсутствие такого же родства стилей с повествовательной частью обнаруживается само собой, поскольку в послании вообще нет никакого повествования то есть нет основания для сравнения, но зато по характеру воззрении и способу мышления между посланием и повествовательной частью евангелия замечается столь резкое противоречие, что тождество авторов становится весьма проблематичным. В послании, равно как и в прологе и более длинных беседах Христа в евангелии, совершенно отсутствует та чувственно-супранатуралистическая вера в чудеса, которая сказывается, к сожалению, в повествованиях евангелия. Послание преисполнено духовного идеального представления о Христе и о внедренной в нем силе духа, и в частности (по мнению Вейсе), рассказ о воскресении Христа, имеющийся в послании и в прощальных собеседованиях, приведенных в евангелии, в такой же мере одухотворен, в какой тот же рассказ в 20-й главе евангелия материалистичен.
Здесь нам открывается чисто субъективный мотив этой сортирующей критики. Чтобы казаться объективным, критик ссылается на Послание Иоанна, подлинность которого столь же проблематична, как и подлинность евангелия, а когда стиль в качестве критерия оказался недействительным, критик хватается за догматическое мировоззрение, хотя при этом он мог игнорировать послание и остановиться на той противоположности, которая в этом отношении, видимо, существует между речами и рассказами евангелия. Из этих явно разнородных составных частей критику не понравилась повествовательная часть, отчасти вследствие того, что она противоречит синоптическому, в общем, вполне историческому рассказу, но, главным образом, вследствие того, что она заключает в себе ярко супранатуралистическое представление о чудесах. Равным образом из бесед ему не нравятся диалоги, потому что, вследствие невероятных недоразумений, они представляются часто нелепыми и неотделимы от рассказов о чудесах, в связи с которыми они и возникают. С другой стороны, ему понравился весь дидактический материал евангелия, представленный в форме собственных размышлений евангелиста и пространных речей Христа; поэтому он предполагает, что дидактическая часть написана апостолом, а повествовательная и диалогическая части – другим, более поздним автором. Нас лично характер этой последней части тоже заставляет сомневаться в том, что ее автор был очевидцем, но мы недоумеваем, отчего наш критик отделяет от этих составных частей евангелия другие и приписывает их апостолу. Дидактическая часть евангелия ему нравится потому, что в ней содержится чисто идеальное, дидактическое понятие о воплощении божественного Логоса в лице Иисуса Назорея, свободное от мифических придатков синоптических евангелий и от супранатуралистической веры в чудеса.
Но подобное учение о вочеловечении божественного Логоса, того творческого Слова, которое вначале "было у Бога, и Слово было Бог" (Ин. 1:1), которое в период вочеловечения не утратило воспоминания о своем довременном пребывании у Бога и готовилось опять вернуться к нему,– разве такое учение не есть очевидный супранатурализм, относительно которого все и всякие, даже и нелепые, рассказы о чудесах представляются лишь естественным следствием? Нет! – возражает Вейсе: ибо вочеловечение, по учению апостола Иоанна, не есть чудесное воплощение божественной личности, ранее сосуществовавшей Богу-Отцу:
оно есть совершенное воплощение живого личного образа божества, который даже по ветхозаветному учению необходимо отличать от личного "Я" божества, обособляя его в качестве второго лица,– внедрение в душе и духе единичного человека, личность которого поэтому и отражает величие и прелесть этого образа. Стало быть, дидактическое содержание Иоаннова евангелия в своем объективно чистом виде тоже не нравится дилетанту, оно нравится ему лишь в прожеванном им самим виде, в качестве такой вещи, которая непонятна ни самому ему, ни читателям его. Стало быть, если бы Вейсе был более дельным экзегетом, то есть не стал бы произвольно перекраивать по собственному вкусу объективно данные вещи, и если бы он, сверх того, был более дельным философом, то есть в философской области стоял бы на собственных ногах и не опирался на религиозный костыль, как в данном случае он опирается на мнимоапостольский труд, то он отверг бы и повествовательное, и дидактическое содержание Евангелия от Иоанна и предоставил бы его всецело и безусловно его критической судьбе; но он этого не делает по чисто субъективным причинам. (103) Что же касается подробностей мнения Вейсе, то, по его словам, апостол Иоанн на склоне своих лет стал записывать собственные размышления о своем Учителе, образ которого начинал уже ускользать из его памяти, а также и те речи его, которые еще сохранялись у него в памяти и которые он записывал в связи с собственными взглядами и своей манерой изложения. Затем после смерти апостола (по мнению Вейсе) кто-то из его учеников неумело переработал в евангельскую повесть оставленные им записи согласно собственным воспоминаниям о его изустных беседах и по иным евангельским сказаниям, ибо наших синоптических евангелий этот член обособленного кружка Иоанновых учеников еще не знал. Но такое воззрение уже не новость:
Аммон, Реттиг и другие тоже отличали апостола Иоанна как автора записей, легших в основание евангелия, от их редактора-издателя. Что именно в составе нынешнего евангелия принадлежит тому и другому из обоих авторов,это Вейсе определил уже в 1838 году в своей "Евангельской истории", но этот опыт он впоследствии сам отверг, как слишком скороспелый и научно не обоснованный. Тогда же он обещал выпустить другой, более тщательно исполненный трактат, но в свет не появился даже краткий обзор, который должен был дать ему возможность восстановить из переработки евангелиста-повествователя в полном и буквально точном виде подлинную запись Иоанна. Причину этой неудачи Вейсе видел не в нелепости своей идеи, а в произволе предполагаемого редактора-евангелиста, который будто бы не только вставлял собственные добавления в текст апостольской оригинальной рукописи, но также переставлял и переделывал в ней отдельные фразы и, наконец, в собственные вставки вписывал то, что помнил из проповедей апостола и находил в отдельных замечаниях последнего. Но тут невольно хочется спросить критика: на основании каких же признаков он будет отличать апостольский оригинальный текст от посторонних вставок, если, по его же собственному замечанию, текст этот сильно изменен и если также и во вставках содержатся отрывки записей апостола? Но подобного вопроса сам Вейсе себе не задавал и даже попытался практически исполнить обещанную им сортировку.
По его словам, в записи апостола Иоанна содержались не только речи Иисуса, но и собственные рассуждения Иоанна; соответственно, Вейсе находит в первых главах евангелия следы означенных рассуждений апостола, а в последующих – текст речей Иисуса. Из рассуждений апостола, по Вейсе, составился пролог. Но хотя мы все недоумеваем, как мог простой галилейский рыбарь и главный иудаист среди апостолов написать такой пролог, в котором излагается учение александрийских философов о Логосе и сказывается философское свободомыслие вообще, Вейсе самодовольно утверждает, что именно это умозрительное рассуждение, изложенное в первых пяти стихах, действительно принадлежит апостолу, ибо оно согласуется с его собственной философией. Но в стихах 6-8-х пролога речь уже идет об Иоанне Крестителе и в очевидной связи с последующим повествованием о нем в евангелии;
а так как это повествование, согласно Вейсе, не могло быть составлено апостолом и бывшим учеником Крестителя, то и указанные стихи пролога не могли быть написаны апостолом и должны быть сопричислены к категории вставок евангелиста-редактора. Далее стихи 9-14, содержащие в себе также философское умозрение, по мнению Вейсе, тоже написаны апостолом, а стих 15, упоминающий о Крестителе, опять написан интерполятором; затем стих 16, где явно говорит уже сам очевидец, снова приписывается апостолу, но стих 17, упоминающий о Моисее, не гармонирует с чисто умозрительным характером пролога (за исключением сообщения о Крестителе) и потому тоже приписывается редактору, тогда как автором последнего 18-го стиха снова признается апостол. Таким образом, весь пролог Иоанна – это цельное, строго логическое, внутренне согласованное и единой мыслью связанное рассуждение Вейсе рассекает по меньшей мере на семь частей, из коих каждая по очереди приписывается то одному, то другому автору, уже этого результата достаточно, чтобы не согласиться с его исходной посылкой.
Затем, при дальнейшем анализе, Вейсе тоже выделяет повествования и диалоги из цепи рассуждений и более пространных речей, считая их добавлением или припиской редактора. При этом относительно первых он навязывает читателю мысль, будто речи и рассуждения с ними не вяжутся, хотя, наоборот, важнейшие речи (например, в главах 5-й, 6-й, 9-й) как раз и представляются лишь экспозицией предпосланных рассказов, играющих роль темы. Относительно диалогов Вейсе уверяет, что их вполне можно выбросить, хотя и не объясняет, почему это нужно и можно сделать. При этом он сам же заявляет, что немыслимо восстановить оригинальный текст апостола путем простого выбрасывания вставок, так как редактор, вообще, много себе позволявший, мог совершенно изменить апостольскую запись, однако и это не мешает предполагать, что оригинальная запись апостола когда-то фактически существовала. Так автор сам же компрометирует то дело, несостоятельность которого он сознает, и все же не решается отказаться от него.
Ввиду столь неудачных попыток "выделения", по-видимому, не оставалось ничего иного, как отвергнуть совсем или отчасти апостольское происхождение Иоаннова евангелия; однако же мотивы этого разделения слишком глубоко коренились еще в настроении современников, и нас не должно удивлять то, что многие полагали, что стоит только приняться за дело как следует, чтобы эта операция осуществилась успешно. По словам Швейцера, метод Вейсе, состоящий в том, чтобы считать произведением апостола все речи, а рассказы и беседы признавать чужим произведением позднейшего происхождения, не приводит к намеченной цели, потому что речи в большинстве случаев неразрывно связаны с предшествующими беседами, а последние – с рассказами. Но и ему казалось, что евангелие отмечено печатью двойственной работы и ума и заключает в себе высший и низший элементы; определенная часть Евангелия от Иоанна ему также претила своим чудесным элементом и внешним, поверхностным пониманием вещей, которому не соответствует идеальный дух остальных частей евангелия. Стало быть, у Швейцера апостольский текст тоже обособляется от неапостольского и пространные речи, как носители идеального духа, отличаются от интерполяций. Но в противоположность Вейсе он не исключает из "апостольской" части ни всех рассказов, ни всех диалогов; напротив, он находит, что диалоги не вызывают никаких сомнений в этом отношении, а в некоторых рассказах, например об омовении ног, о миропомазании, о страстях Иисуса, он находит даже признаки очевидной достоверности; впрочем, рассказы о чудесах он тоже не колеблется приписать апостолу.
Швейцер открыл, что чудеса, о которых повествует четвертое евангелие, распадаются на два различных класса: не говоря о мнимых чудесах, которых нельзя считать настоящими, одна группа чудес, при всей своей таинственности и непонятности, допускает мысль о вмешательстве физической или психической силы. Например, в том, что Иисус увидел Нафанаила под смоковницей, Швейцер не находит ничего сверхъестественного; то, что он отгадал образ жизни самарянки, по мнению Швейцера, тоже можно объяснить знанием человеческого характера вообще и осведомленностью относительно ее образа жизни в частности;
больной, пришедший к купальне Вифезда, мог быть паралитиком "бесноватым", которого Иоанн не называет настоящим именем ради своих греческих читателей, а относительно "одержимых бесом" даже и критика допускает возможность психического исцеления; наконец, возможно также естественное исцеление слепорожденных. Что же касается рассказов евангелия о том, что Иисус превратил воду в вино, приумножил запас хлебов, излечил больного, находившегося в Капернауме, при помощи единого слова, сказанного в Кане, и ходил по водам озера Галилейского, то Швейцер признает, что в таких "магических", противоестественных чудесах уже немыслимо участие естественных сил, однако вместо того чтобы сказать, что эти чудеса невероятны, он заявляет, что "конципиент" (105) речей Иисуса не мог о них повествовать в четвертом евангелии.
При более детальном анализе критик, к удивлению своему, обнаруживает, что все правдоподобные чудеса совершались почему-то в Иерусалиме и Иудее, а чудеса невероятные – в Галилее. Это открытие, по-видимому, придает объективный характер его субъективной критике. Получается, что первичная апостольская запись ограничивалась лишь описанием внегалилейской деятельности Иисуса, поэтому автор совершенно умалчивает о том, что делал Иисус во время своего пребывания в Галилее, куда он являлся трижды по случаю праздников, И продолжает рассказ с того момента, когда Иисус снова уходил из Галилеи. При этом критик задает себе вопрос: не был ли автор евангелия иудеем, если он придавал важное значение деятельности Иисуса в Иудее, и не потому ли автор-иудей представляется нам (по свидетельству евангелия) человеком более образованным, чем тот простой рыбак из Галилеи, коим был апостол Иоанн? На этот вопрос критик не дает безусловно отрицательного ответа; он полагает, что в роли автора-евангелиста все же мыслим и сын Зеведеев, а если автором оказался бы и кто-либо из иудейских приверженцев Иисуса, то ведь и он мог быть очевидцем. По мнению Швейцера, оригинал записи был автором привезен, вероятно, из восточной области, а после его смерти кто-то из малопосвященных учеников его пожелал сблизить иудеев с самарянами и запись в имевшемся виде дополнил галилейскими сказаниями и рассказами, обращавшимися в западной части Палестины.
Но среди галилейских вставок, произведенных, по мнению Швейцера, каким-то малообразованным редактором, встречается также речь, сказанная Иисусом в Капернаумской синагоге (глава 6), содержащая рассуждения о хлебе жизни, о вкушении тела и крови сына человеческого, и характером своим напоминающая мистицизм Иоанна. С другой стороны, среди иудейских рассказов, которые, согласно Швейцеру, достоверно принадлежат апостолу, мы находим рассказ о чудесном воскрешении Лазаря, то есть о чуде, которое столь же необъяснимо с точки зрения естественных, физических или психических сил, как и любое из "волшебных" Швейцером отвергаемых и приписываемых редактору чудес. Поэтому полностью произвольно утверждение критика о том, что эта речь была сказана в храме Иерусалимском в дополнение к тем беседам, которые приведены в 5-й главе, и что воскрешение Лазаря было естественным пробуждением мнимоумершего, которое совпало с непоколебимой верой Иисуса в то, что его моление будет услышано на небесах. Но если и такие необъяснимые, "магические" чудеса галилейского происхождения, как воскрешение Лазаря или хождение Иисуса по водам Галилейского моря, представляются Швейцеру естественными и понятными, то спрашивается: в чем же заключается преимущество внегалилейских "чудесных" рассказов, изложенных в Евангелии от Иоанна и признаваемых правдоподобными и апостольскими, перед рассказами галилейскими? Это преимущество, по-видимому, обусловливается тем, что сам критик истолковывает их рационалистически, чудеса сверхъестественные и непознаваемые он подменяет естественными явлениями: самовольно вычеркивает, как неосновательное предположение евангелиста, заключение о том, что больной, явившийся к купальне Вифезда, пролежал 38 лет без движения, затем самовольно же предполагает, что смерть Лазаря была мнимой смертью, что болезнь слепорожденного могла быть излечена усилиями хорошего и знающего врача. При таком образе действий совершенно излишне ссылаться на таинственные целебные силы, которые в параллель к разрушительным болезнетворным силам, иногда после многовекового затишья при неведомых условиях вдруг начинают проявлять себя, излишне также сопоставлять чудотворную силу Иисуса с мощью чумы и венерической болезни, как излишне уверение Швейцера о том, что свой опыт "выделения" он производит не вследствие "чудобоязни", то есть боязни того, что представляется настоящим чудом и не может быть объяснено психологическими или иными естественными силами (хотя бы и в духе теологов). Он и ему подобные боятся, видимо, только волшебных, абсолютных и тому подобных чудес. Но, поступая так, как поступает Швейцер, можно объяснить любое из чудес, а потому и с его собственной, чисто субъективной точки зрения представляется излишним производить "выделение" ради некоторой части Иоанновых чудесных повествований (относительно другой части евангелия он, вероятно, скоро перестал бы сомневаться).
Да и к чему было проделывать всю эту операцию, если в конце концов сам критик нашел в иерусалимской, то есть по его же собственному предположению, апостольской части евангелия рассказ, который является противоположностью того идеального и духовного элемента, который ему видится в апостольском труде даже в эпизоде воскресения Иисуса; мы говорим о рассказе (20:19-29), в котором повествуется о том, как воскресший Иисус показывал ученикам свои руки и бок, велел Фоме неверующему вложить персты свои в язвы его, и, следовательно, вопреки желанию Швейцера, представляется воскресшим материально. По этому поводу Швейцер наивно замечает: "Если бы этот рассказ не входил в отдел повествований Иоанна, то он нам сразу прояснил бы много непонятного". Поэтому он пытается взять под сомнение связь этого рассказа с предшествующим изложением, но все-таки не решается признать его за вставку, и так как это противоречит его предположению о чисто духовном и идеальном характере апостольского труда и, стало быть, мотиву "выделения", сам собою рушится и его метод разрешения загадки, связанной с Евангелием от Иоанна.
То, что в последнее время даже такой тонкий ум, как Ренан, собирался произвести новый опыт "выделения" и тем увеличить число неудачных опытов того же рода, можно объяснить лишь тем, что он не знал ни о тех опытах, которые произведены были уже в Германии, ни об их плачевном результате. Если бы он знал о них, он, вероятно, подумал бы, что не может ошибаться тот, кто выскажет гипотезу, противоположную гипотезе Вейсе. В самом деле, в то время как Вейсе приписывал апостолу все рассуждения и пространные речи Христа в четвертом евангелии и отвергал рассказы, признавая их позднейшими приписками, Ренан, наоборот, шокируется "абстрактно-метафизическими лекциями", как называет он речи Иисуса, приведенные у Иоанна, и признает достопримечательными все рассказы евангелия, поэтому он и склоняется (хотя и нерешительно) к предположению, что эти речи были записаны не сыном Зеведеевым, но весь исторический план и целый ряд рассказов евангелия прямо или косвенно составлены апостолом. Но если можно вообще говорить о степенях немыслимого, то подлинность речей Христа в Евангелии от Иоанна еще более немыслима, чем подлинность Иоаннова исторического повествования, ибо каждая нормально устроенная и способная к историческому размышлению голова, познакомившись с этими речами, придет к заключению об относительно позднем происхождении четвертого евангелия. Но Ренан, подобно своим немецким предшественникам, становится на точку зрения делимости евангелия и этим заранее подрывает собственную гипотезу. Повествовательная часть четвертого евангелия представляется ему приемлемой лишь потому, что он сам игнорирует в ней все рассказы о чудесах. Правда, умолчать о воскрешении Лазаря он не может, но так как он не признает чудес, то он превращает этот эпизод в мистификацию. За это немецкая критика назвала его вторым Вентурини; и в самом деле, нельзя не удивляться тому, что даже этот эпизод не убедил его в несостоятельности его исходного предположения.
18. ИССЛЕДОВАНИЕ БАУРА О ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА, ПРОДОЛЖЕНИЕ И КРИТИКА ЭТОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
Разделения и оговорки не приводили к желаемому результату: критика не поступалась своими требованиями, а Евангелие от Иоанна продолжало притязать на апостольское происхождение; целостный и совершенно своеобразный характер евангелия подстрекал капитулировать либо доказывать, что оно не имеет исторического значения, что оно мыслимо и постижимо как произведение послеапостольских времен и немыслимо, непостижимо как произведение апостольское. Неувядаемую славу покойного д-ра Баура именно и составляет то, что он принял вызов и повел критическую борьбу с беспримерной энергией. Его исследование о композиции и характере Евангелия от Иоанна было опубликовано в "Теологическом ежегоднике" Целлера в 1844 году, а затем издано в улучшенном виде под названием "Критические исследования канонических евангелий" в 1847 году. Ср. его другие работы о Евангелии от Иоанна в "Теологическом ежегоднике", а также его сочинение "Христианство и христианская церковь первых трех столетий". Некоторые части своего вооружения он заимствовал у своих предшественников, но другие – придумал и создал сам, и этим оружием он действовал столь искусно и настойчиво, что борьба окончилась победой критики, что и признал трибунал,– правда, не теологов, а науки.








