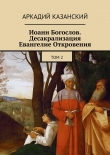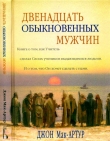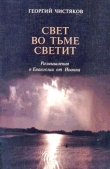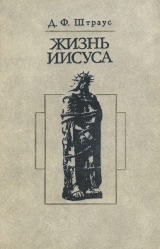
Текст книги "Жизнь Иисуса"
Автор книги: Давид Фридрих Штраус
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 55 страниц)
Мы не знаем, когда именно ожидаемого "Спасителя" стали называть "Мессией" (по-гречески – Христос), или помазанником. В Ветхом завете это название присваивается исключительно царям или пророкам и священникам (Исх. 28:41; Лев. 4:3; 1 Цар. 10:1; 24:7, 11; 3 Цар. 19:16; Пс. 104:15; Дан. 9:24). Но, разумеется, оно совершенно подходило тому величайшему пророку и царю, которого, по словам Исаии (11:2), Бог наделил дарами духа своего в наивысшей степени. Именно в этом смысле слово "помазанник", или "Мессия", употребляется и в Новом завете, и в Четвертой книге Ездры, и в Книге Еноха.
Очевидно, образ Мессии создавался из весьма неоднородных элементов. Правда, религиозно-нравственный момент в нем присутствовал, в том именно смысле, что моральный подъем народа представлялся условием и целью пришествия Мессии; но преобладающую роль играл в нем политический момент, и массе он рисовался как полное истребление или хотя бы порабощение язычников избранным народом; и чем сверхъестественнее было существо грядущего Спасителя, тем разнузданнее становился фанатизм народа-фантазера. С одной стороны, ожидание Мессии становилось собственно национальной идеей, последней опорой злосчастного и опустившегося народа, а с другой стороны, идея эта была столь двусмысленна, что трудно было решить, послужит ли она народу рычагом для нового подъема или, напротив, окончательно его погубит. Не говоря уже о влиянии на деятельность Иисуса, которая тоже не оказала никаких услуг народу как таковому, мессианская идея за все последние годы существования иудейского царства породила в итоге ряд гибельных для него предприятий, безумных и бесцельных возмущений против римского владычества.
Процесс продолжительного религиозного развития иудейского народа завершился образованием трех религиозных сект, которые во времена Иисуса пользовались большим влиянием и которые возникли или стали определенно обрисовываться в период народного восстания Маккавеев. О них говорит Иосиф Флавий в "Иудейской войне" (II 8,14) и "Иудейских древностях". Не подлежит сомнению, что против навязанного Антиохом эллинизма возмутились лучшие элементы израильского народа, но вполне возможно, что, успешно завершив борьбу, те же элементы мало-помалу стали застывать в безотрадном, мрачном фарисействе. Ведь и мы сами были свидетелями того, как после несомненно здорового народного движения, которому мы обязаны свержением французского ига, народился романтический германизм, который относительно немецкого народа занимал такую же позицию, какую занимало фарисейство относительно евреев. Когда народ отторгает от себя чуждые, навязанные ему элементы в государственном укладе, обычаях, а также в религии, как это было у евреев, и пытается восстановить свою самобытность, он нередко отбрасывает также и хорошие черты чужой народности; он каменеет, застывает в своей односторонности; начинает усиленно подчеркивать и развивать у себя такие формы жизни, которыми он отличается от других народов, и в результате весь народ или, вернее, те, кто еще продолжает держаться этого направления, хотя оно уже сослужило историческую службу, легко впадают в формализм и забывают сущность ради формы. Вместе с тем в подобной партии наблюдается неодолимое упрямство в отстаивании национальных притязаний и нежелание считаться с изменившимися обстоятельствами, и потому партия постоянно призывает к возмущению и восстанию против таких правителей, которые считаются с условиями нового времени. Осуществить национальные притязания секта фарисеев могла бы лишь в том случае, если бы она была способна возродить народ духовно, органически обновить его в моральном и религиозном отношениях. Но именно об этом партия фарисеев никогда не помышляла; наоборот, всей своей деятельностью она внушала массам нелепую мысль, будто все дело заключается во внешности, будто и Господь поможет евреям через Мессию достичь высокого благосостояния и господства над всеми прочими народами, если они угодят ему точным соблюдением религиозных обрядов.
Против этой партии несговорчивых и ограниченных иудаистов выступила группа просвещенных светских людей, секта саддукеев. Она отвергала те уставы и обряды, которые были выработаны фарисеями в дополнение к Моисееву закону на основе устного предания, и признавала только писаный закон источником религии и религиозных обрядов. В этом отношении саддукеи были протестантками; отрицание фарисейского учения о воздаянии за добродетель и требование, чтобы добро делалось ради самого добра, придавало им стоический характер, а отрицание воскресения мертвых и непризнание ангелов и духов сближало их с эпикурейцами-материалистами. Возможно, означенные философские учения были усвоены образованными евреями в период распространения греческой культуры и моды в Иудее при Селевкидах, однако подобные же идеи высказывались уже в Соломоновом Екклесиасте. (154) Во всяком случае, среди еврейского народа такие взгляды не могли распространиться; они высказывались в высших слоях общества, ибо саддукеи заседали в Синедрионе и нередко занимали даже первосвященнический пост, но в народе не пользовались таким влиянием, как фарисеи. Впрочем, ни саддукеи, с их холодной и аристократической моралью, ни фарисеи, с их лицемерной и расчетливой набожностью, не были способны возродить народ израильский.
Все лучшие религиозные и моральные элементы древнего, Богом избранного народа, по-видимому, сплотились тогда в секту ессеев. Об этой секте реже упоминается в древнейших памятниках христианства, чем о двух вышеуказанных, но это, вероятно, потому, что по духу она была близка христианству. Может показаться странным тот факт, что сам отец церковной историографии за христиан принимал египетскую отрасль ессеев, так называемых терапевтов (врачевателей); над вопросом же о родстве учения и обрядов этой секты с учением и обрядами древнейших христиан давно уже задумывались многие. Евсевии. Церковная история. У тех и у других мы находим одинаковый общественный идеал, основанный на общности имущества и выборности управителей, находим отрицание клятвы, восхваление бедности и безбрачия, священные омовения и трапезы. Различие сводилось лишь к тому, что у ессеев наблюдалась склонность к аскетизму; например, за общей трапезой они пили только воду и, вообще, воздерживаясь от вина и мяса, питались лишь растительной пищей. Многими чертами своими они, с одной стороны, напоминают Иоанна Крестителя, который, видимо, стоял в таких же отношениях к ессеям, как в средние века пустынники к монашеским орденам, но, с другой стороны, они напоминают Иакова, именуемого праведным, который в описании древнейших историков христианства является настоящим святым ессеев и который, в свою очередь, стоит в связи со старой иудео-христианской сектой эбионитов, ближайшей родственницей ессейской секты.
Ессеи и терапевты составляли группу евреев, которых не удовлетворял традиционный религиозный культ их соплеменников и которые поэтому стали воздерживаться от посещения храмов и жертвоприношений и вообще избегали оскверняющего общения с людьми. Задачей своего союза они считали освобождение души от плотских уз и полагали, что к этой цели ведет воздержание от чувственных наслаждений, строгая орденская дисциплина, которая предоставляла усмотрению индивидов лишь дела человеколюбия и благотворения, наконец, труд и совместное моление. Впрочем, община эта делилась на несколько ветвей, не говоря уже о четырех степенях, которые определялись временем вступления в общину. Иосиф Флавий различает строгих ессеев, отрицавших брак, и ессеев, живших в браке. Филон, в свою очередь, отмечает, что египетские терапевты вели чисто созерцательную жизнь, посвященную науке и благочестивому размышлению, тогда как палестинские ессеи, не нарушая правил орденского общежития, занимались земледелием и мирными ремеслами и, приходя поэтому в соприкосновение с жизнью мирян, могли распространять религиозные начала замкнутого ордена далеко за его пределами.
Каким образом могло возникнуть в среде иудеев столь чуждое их характеру течение? Удаление ессеев от мира можно объяснить невзгодами и бедствиями того времени, а ессейский аскетизм можно сопоставить с иудейским назорейством и воздержанностью позднейших пророков; но целый ряд других черт их мировоззрения и образа жизни указывает на экзотическое, внеиудейское происхождение; сюда относится, например, столь несовместное с иудейской точкой зрения поклонение солнцу, как символу высшего света, дуализм духа и материи, лежавший в основании ессейского аскетизма, взгляд на тело как на темницу души, и вера в ее предсуществование. С другой стороны, орденское устройство ессейских общин, годы испытания, которому подвергались вновь поступавшие члены, подчинение старшинам, обязательство хранить орденские тайны, отрицание кровавых жертвоприношений, воздержание от мяса и вина, запрещение клятвы, взгляд на брак – все это наводит нас на мысль о современной ессеям школе неопифагорейцев, которая возникла путем сочетания орфическо-пифагорейских традиций с платоновскими и стоическими идеями. Все нами отмеченные черты ессейства мы находим в этой школе либо в виде сказаний об учредителе учения и его союзе, либо в виде действительных особенностей так называемого пифагорейского жития, которое, по словам Иосифа Флавия, совершенно сходно с ессейским бытом. Усвоение евреями этой греческой доктрины объясняется тем, что у египетских иудеев появилась, очевидно, такая же секта под названием общины терапевтов; члены этой секты проживали главным образом в окрестностях города Александрии, где иудаизм мог соприкасаться и сливаться с эллинизмом беспрепятственно, и так как египетские евреи деятельно поддерживали сношения с метрополией, то секта могла легко распространиться в самой Палестине. Однако можно допустить и то, что орфическо-пифагорейское учение стало утверждаться в Палестине уже в период слияния культур при Селевкидах и вследствие соприкосновения с египетскими терапевтами стало затем лишь крепнуть и развиваться дальше.
В последние два века до Р. X. среди александрийских евреев стало распространяться учение, родственное доктрине ессеев; недаром главный представитель этого учения, еврей Филон, является одним из важнейших источников наших сведений об есеейском ордене. Моисеева богослужения эти евреи-философы Александрии не отвергали; они высоко чтили Священное Писание своих соплеменников, особенно книги Моисея, но, подобно ессеям, сумели аллегорически истолковать их в пользу своих еретических воззрений. Их взгляд на божество был очень своеобразен; их смущало то обстоятельство, что Ветхий завет изображает Бога человекоподобным существом, приписывая ему руки, дар слова, аффекты гнева и раскаяния, отдохновение, схождение на землю. Они же представляли себе Бога существом не ограниченным чем-либо конечным, обитающим вне видимого мира и воздействующим на него посредством нисходящих сил небесных или особых гениев. В этом представлении, очевидно, иудейское учение об ангелах слилось с платоновским учением об идеях, точно так же, как в учении о Логосе, или действительном божественном разуме, соединяющем в себе все вышеозначенные посредствующие силы, сочеталось иудейское учение о божественной душе и премудрости с учением стоиков о пронизывающем Вселенную божественном разуме. С другой стороны, их орфическо-платоновское воззрение на тело, как на темницу души, создавало такую систему морали, которая сводилась к умерщвлению плоти и экстатическому (восторженному) созерцанию Бога. Ввиду родства этой морали с моралью ессейской становится понятным, почему и сам Филон так уважительно описывал ессеев и терапевтов.
Теперь посмотрим, как все эти идейные течения, в частности, три господствующие секты, относились к вышеотмеченной задаче иудейского народа. Относительно фарисеев мы пришли к тому отрицательному выводу, что на избранном ими пути невозможно было обрести Бога и создать желаемые отношения между Богом и человеком. Своим основным началом фарисейство признало лишь один из элементов первобытной религии евреев, а именно лишь внешний культ с его обрядами и церемониями, и, восприняв его односторонне, совершенно игнорировал все то, чем он дополнялся в древнееврейской религии. Религиозный застой, к которому фарисейство привело еврейский народ, мог служить убедительным доказательством того, что эта сторона религии не только не оживит народную жизнь, но своим ростом скорее умертвит ее. Равным образом и мессианские надежды – в той политической и строго иудейской форме, которую им придала секта фарисеев,– тоже оказались гибельными для истинной религиозности и самого народа, ибо в то время и в последующем они разжигали в народе фанатизм и толкали его на яростные бунты. Идею Бога и служения ему, а также идею Мессии следовало формулировать иначе, чтобы они оказались плодотворными для народа и человечества.
О саддукеях наши сведения слишком скудны, чтобы можно было вполне точно определить их участие в решении вышеуказанной проблемы. Они, по-видимому, ясно понимали, почему путь, избранный фарисеями, неправилен и нецелесообразен, но указать свой положительный путь не смогли. Они противопоставляли божественному предопределению свободу человеческой личности, а воздаянию в загробной жизни – самоудовлетворение человеческой добродетели; но, ставя, таким образом, моральный интерес выше религиозного, они неизбежно оказались среди евреев в совершенно изолированном положении.
Ессеи, по словам Филона, славят Бога не закланием жертвенных животных, а тем, что стараются угодить ему своими помыслами. Стало быть, ессеи, оставив ложный путь фарисейства, пошли собственным путем, не сходя с религиозной почвы. Правда, Иосиф Флавий говорит, что ессеи не приносят жертв, потому что считают свои очищения гораздо более действительными; следовательно, члены этой секты противопоставляли обрядам Моисеева закона не одни лишь помыслы, а новые религиозные действия, как то: моления, омовения, бичевания, религиозные трапезы и празднества; но все эти обряды ессеев либо сводились к воздержанию и укрощению чувственных импульсов, либо, как в культе солнца и света, представлялись простыми символами, духовный и моральный смысл которых был гораздо более понятен, чем смысл грубоматериалистических предписаний Моисеева культа. Следовательно, в этом отношении ессеи исполняли заповедь пророков об угождении и служении Богу через очищение сердца и личной жизни и осуществление правды и человеколюбия; но в то же время их богослужение вылилось в совершенно неадекватную форму: во-первых, оно сочеталось с аскетизмом и обрядностью, в которой сказывалась искусственность исходных положений и примесь мистицизма; во-вторых, ессеи замкнулись в тайное сообщество, которое в лице ядра своего считало нужным совершенно удалиться от мира, дабы соблюсти свою чистоту, тогда как истинное благочестие и нравственность, наоборот, должны бы проявиться и укрепиться путем непосредственного общения с миром и внесения в него своих идей и помыслов. Тем не менее замкнутость ессеев непроизвольно привела к ряду важных результатов. Причисляя к существам нечистым и не заслуживающим общения всех тех, кто не принадлежал их союзу,стало быть, всех заурядных иудеев,– ессеи как бы заявляли, что евреи как таковые еще не представляют собой истинного народа Божьего, им еще следует очиститься, чтобы стать таковым. Следовательно, круг Богом избранных людей становился еще уже, ибо, насколько известно, неевреи в союз ессеев не допускались; но вместе с тем национальной гордости иудеев был нанесен весьма чувствительный удар, который немало способствовал уничтожению еврейского партикуляризма.
29. ХОД РАЗВИТИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ.
Что самобытная черта греческого народа, в противоположность религиозности народа иудейского, состояла в развитии истинно человеческого начала,– это положение не требует дальнейших доказательств, это то, что ясно проявилось как в государственном устройстве и обычаях греков, так и в поэзии и изобразительном искусстве этого народа. В сфере религии эта черта обнаруживается в человекоподобии (антропоморфизме) греческих богов. Ни индусы, ни ассирийцы, ни египтяне не представляли своих богов в чисто человеческом образе, и этот факт объясняется не столько недостатком у них вкуса и художественной жилки, сколько тем, что эти народы не мыслили своих богов в образе людей. (158) Наоборот, эллины по-своему переделывали всех своих богов, занесенных извне или унаследованных от предков: первичное естественное значение их греки истолковывали с точки зрения своей человеческой жизни, и боги, прежде символы космических сил, превращались у них в прообразы сил человеческой души и жизни, причем и самый облик богов все более и более уподоблялся человеческому образу.
Разумеется, благочестие, которое созидает человечные идеалы таких богов, как Аполлон, Афина, Зевс, бесспорно стоит выше, чем благочестие, которое придает своим богам облик зверей и видит в них олицетворение дикой – созидающей или разрушающей – силы природы; но первичная стихийность греческих богов, а также степень образованности той эпохи, в которую слагались религиозные представления греков, произвели то, что их человекоподобные боги олицетворяли собой не только моральную, но и чувственную сторону человека, а потому людей с высокоразвитыми нравственными понятиями должны были смущать преступность Кроноса, прелюбодеяния Зевса, кражи Гермеса и так далее. Вот почему поэты позднейшей эпохи, например Пиндар, старались истолковать в моральном смысле такие "соблазнительные" мифы, а некоторые философы, и прежде всего основатель элейской школы Ксенофан, еще решительнее возмутились против непристойных и, вообще, антропоморфных представлений о богах, которые были созданы Гомером и Гесиодом; Платон, как известно, в силу этих соображений даже вовсе изгнал Гомера из своего идеального государства. (158) Но, помимо нравственной стороны дела, вскоре было осознано, что и множественность богов (многобожие) несовместима с понятием божественного существа, которое является совершенством и универсальной первопричиной и в силу этого не может не быть единым. Поэтому в кругу образованных греков идея единобожия (монотеизм) все более и более стала вытеснять идею многобожия (политеизм) или заменяла ее представлением об иерархическом подчинении многих богов единому верховному божеству. Таким образом, греки в этой области идей постепенно поднимались к той точке зрения, на которую евреи встали с самого начала, но так как греки дошли до представления о едином боге путем философских размышлений, им при соприкосновении с иудейским монотеизмом удалось оказать евреям некоторые услуги в устранении тех антропоморфических черт, которыми было сдобрено иудейское единобожие книгами Ветхого завета. (158)
Наряду с этим греки продолжали развивать свои представления о человеке, о его природе и обязанностях, и в этом отношении ушли далеко от гомеровских идеалов богов и встали на такую точку зрения, которая была невозможна на иудейской почве.– "Еврейский супернатурализм,– говорит Велькер,– никогда не мог бы породить гуманности:
чем строже и возвышеннее понимали его, тем неизбежнее приходили к заключению, что авторитет и закон единого Бога-владыки должны сдерживать и подавлять человеческую свободу,– источник силы и готовности на все доброе и благородное". В представлении грека Божество отнюдь не являлось воплощением и олицетворением принудительного закона, поэтому он сам давал себе законы; жизнь грека, в противоположность жизни иудея, не регулировалась на каждом шагу религиозными уставами и регламентами, поэтому он сам должен был изыскивать внутри себя нравственную норму. Что то была задача трудная, что путь к ее решению обставлен многими опасностями и препятствиями,– это мы видим из того, что после периода расцвета у греков наступила порча нравов, а тогдашние софисты стали крайне произвольно искажать и путать все моральные понятия. В человеке они видели, по слову Протагора, меру всех вещей; по их мнению, нет ничего от природы дурного или хорошего, все создается произвольным человеческим суждением, которое ни для кого не обязательно; и так как сами творцы норм и положений установляли их для собственной выгоды, то каждый человек вправе считать добром и делать то, что ему приятно или полезно. Софисты развивали и распространяли умение диалектически оправдывать такого рода поведение, критически подтачивать традицию в области религии и морали, "слабо обоснованное дело обращать в сильно обоснованное", то есть дело неправое выставлять правым; но, в сущности, софисты формулировали методически лишь то, что все окружающие делали практически. (159)
Известно, как отнесся Сократ к этой нравственной распущенности греков и попыткам софистов представить ее в благообразном виде. В противоположность еврейским пророкам, он не мог сослаться на писаный божественный закон, и это даже было бы бесцельно из-за религиозного скептицизма его соотечественников; поэтому он встал на точку зрения своих противников и, исходя от человека, признал, что в известном смысле человек является мерой всех вещей, но лишь в том случае, если он перестает потворствовать своим капризам и страстям и серьезно старается познать себя и путем правильного размышления установить, что может доставить ему истинное блаженство. Кто свои действия определяет подобным истинным знанием, тот неизменно будет поступать хорошо, и такое поведение всегда будет приносить людям счастье. Такова в кратких чертах сущность морали Сократа, и обосновать ее он сумел, не прибегая к помощи божественной заповеди, хотя по вопросу о природе Бога он совершенно определенно высказывался в смысле вышеуказанного сочетания национального политеизма с разумным монотеизмом. Сократ излагал свое учение не в замкнутом кругу школьных слушателей, а в форме общедоступных публичных собеседований; все то, чему он учил, он практически осуществлял в своей личной жизни; наконец, он мученически пострадал за свои убеждения и за старания поднять массы, не понявшие его, на высшую ступень духовного и морального развития,– все это сближает и роднит его с Христом, и сходство это уже давно бросилось в глаза. Действительно, при всем различии, покоящемся на противоположности народного характера и религии греков и евреев, во всем античном дохристианском мире, как и в среде еврейства, мы не встречаем другой личности, более похожей на Христа, чем Сократ.
После Сократа ученик его – Платон более других греков способствовал подготовке христианства, стараясь поднять эллинскую образованность до того уровня, на котором она могла сойтись и слиться с иудейской религией. Истинным в вещах он признавал только идеи, то есть их обобщенные понятия, которые он считал не просто представлениями духа человеческого, а действительными сверхчувственными существами. Высшей идеей Платон признавал идею блага, которая тождественна с божеством. Он, впрочем, все идеи называл богами и тем давал возможность согласовать его философию как с политеизмом его соплеменников, так и с иудейским монотеизмом; его "идеи" соответствовали и низшим богам, или демонам, греков, и ангелам евреев, и в обоих случаях предполагали подчинение верховной идее – единому Богу. Происхождение мира явлений Платон объясняет внедрением разума в неразумное, превращением идей в их противоположность (или материю, как стали говорить позднее, хотя сам Платон ограничивается отрицательным определением, говоря о несущем, неформулируемом и неопределимом). В связи с этим он, говоря языком мистерии, именует человеческое тело узилищем души, в которое она низверглась из первобытного бесплотного состояния чистой идеи, и признает задачей философии освобождение души от плотских уз. Отсюда явствует, что философия Платона содержала все исходные положения учения ессеев, а также и гностических умозрений, возникших очень рано в христианской церкви. Но и помимо этого основная точка зрения Платона, считавшего действительно существующим невидимое и признававшего истинной жизнью не земную жизнь, а загробную, имеет столько сходств с христианством, что мы не можем не признать, что в лице Платона греки содействовали подготовке христианства и восприятию человечеством идей Христа. Наконец, Платон, подобно Сократу, считает добродетель единственно верным средством достичь блаженства, но, кроме того, полагает блаженство в самой добродетели, в нормальном состоянии, гармонии и здравости души и тем самым признает, что добродетель, вознаграждающая самое себя, свободна от нечистых побуждений, а также от корыстных расчетов на воздаяние в загробной жизни. Таким образом, в понимании добродетели Платон значительно опередил заурядное христианство, как и подобает настоящему философу; и в этом отношении только самым выдающимся учителям христианской церкви удалось выйти из круга народно-религиозных представлений и встать на точку зрения Платона.
В свою очередь, Аристотель, по существу, верен высокому учению Платона о цели нравственных стремлений человека, но, в соответствии со своей эмпирической тенденцией, он считался также с внешними благами и бедствиями как моментами, могущими способствовать или мешать нравственной деятельности. Далее, стоическая школа, в противовес либерализму основанной Аристотелем перипатетической школы, возвела на степень основного принципа морали самодостаточность добродетели, могущей абсолютно осчастливить человека, и ничтожество всего того, что не имеет отношения к подобной добродетели. По учению стоиков, только добродетель есть добро и благо и только безнравственность есть истинное зло; все остальные вещи, хотя бы и значительно влияющие на жизненные отношения людей, относятся к категории безразличного; здоровье и болезнь, богатство и бедность, даже жизнь и смерть сами по себе не представляются ни добром, ни злом, все это безразличный, индифферентный материал, которым человек может воспользоваться как для хороших, так и для дурных целей. Здесь ясно проступает сходство стоицизма с позднейшей точкой зрения христианства, столь равнодушно относившегося к внешнему миру. Правда, стоическая философия возводит своего "мудреца" – человека совершенного, лишенного потребностей, богоподобного – на такую высоту, которая, очевидно, не совместима с христианским смирением. Однако эта заносчивость стоицизма значительно смягчается тем, что преимущество означенного "мудреца", по мнению стоиков, состоит лишь в его добровольном преклонении перед мировым законом и всеобщим мировым разумом. Наконец, стоическая философия требовала покорности судьбе как Божьему велению и подчинения собственной воли человека воле Божьей,– и этой проповедью она как бы предвосхищала соответствующие изречения Христа.
Но стоицизм подготовлял рождение христианства и в другом отношении. В древности, когда все нации жили обособленно и еще не успели образоваться крупные мировые государства, партикуляризм был присущ не только мировоззрению иудеев, но и мышлению греков и римлян. Подобно тому как иудеи считали Божьим народом только потомков Авраама, греки считали настоящими полноправными людьми одних эллинов и ставили себя в такое же привилегированное положение относительно варваров, в какое евреи ставили себя относительно языческих народов. Даже такие философы, как Платон и Аристотель, не успели вполне отрешиться от этого национального предрассудка, и только стоики пытались из представления о разумности всех людей умозаключить к равенству и солидарности людей; стоики ранее других мыслителей стали смотреть на людей, как на граждан единого великого государства, в котором все отдельные государства играют такую же роль, как отдельные дома в целом городе; все человечество им представлялось чем-то вроде стада, руководимого единым общим законом разума; идея космополитизма, один из прекраснейших плодов деятельности Александра Великого, была выработана стоиками, а один из них высказал впервые ту мысль, что все люди – братья, ибо они – дети единого Бога. Что же касается представления о Боге, то стоики, продолжая дело примирения народного многобожия с философским единобожием на почве пантеистического миросозерцания, пришли к мысли, что Зевс есть всеобщий мировой дух, единое первичное существо, а все остальные боги – суть только его части и формы проявления. Они же создали то представление о Логосе, или всеобщем разуме, как творческой силы природы, которое впоследствии сыграло столь важную роль в деле догматического обоснования христианского учения. Наконец, стоики, пытаясь использовать греческую мифологию и сказания о богах в интересе философии природы, стали аллегорически толковать Гомера и Гесиода и тем самым указали александрийским иудеям, а затем и христианам, на тот способ, которым можно в книгах Ветхого, а потом и Нового завета места, "неудобные" по смыслу, перетолковать по желанию в угодном смысле.
Можно подумать, что учение эпикурейцев, которые считали высшим благом удовольствия и отрицали всякое влияние богов на мир и жизнь людей, стоит далеко в стороне от тех идейных течений, которые способствовали выработке христианского учения. Но на самом деле это не так. Прежде всего, в философии часто случается, что крайние и противоположные направления при логически последовательном развитии начинают друг с другом соприкасаться; поэтому и высшее благо эпикурейцев вовсе не так сильно отличается от высшего блага стоиков, как это может показаться с первого взгляда. Эпикуреец понимает под удовольствием, которое он считает высшим благом, не конкретное чувственное наслаждение, а длительное состояние душевного равновесия, которое приобретается нередко ценой отречения от многих мимолетных удовольствий и готовности претерпеть многие временные невзгоды,а такое душевное "равновесие" эпикурейцев имеет много общего с "невозмутимостью" стоиков. Правда, эпикуреец не считает добродетель самоцелью, в ней он усматривает только средство к достижению иной цели блаженства, но это средство ему представляется столь необходимым, достаточным и целесообразным, что он не может представить себе ни добродетели без блаженства, ни блаженства без добродетели. К внешним благам жизни эпикурейцы не относились так равнодушно, как стоики, однако же они учили, что истинные потребности человека весьма несложны и что необходимо ими ограничиваться, а боль и несчастье можно преодолеть рассудительностью и самообладанием. Таким образом, эпикурейцы при пассивном отношении к жизни доходили до той самой точки зрения, до которой доводила стоиков активность, но вместе с тем эпикурейцы как бы дополняли собой стоиков, которые были склонны доводить свою суровость до настоящей черствости и бесчувственности. В противоположность стоикам, которым чужды были сострадание и снисхождение, Эпикур проповедовал милосердие и миролюбие, а эпикурейский тезис о том, что приятнее делать добро, чем принимать добро, совершенно сходен с изречением Иисуса: блаженнее давать, нежели принимать.