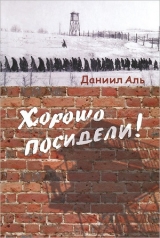
Текст книги "Хорошо посидели!"
Автор книги: Даниил Аль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Как сейчас вижу всю картину того момента. Едва я начал говорить, старый палач, сжав кулаки, ринулся было на меня. Трофимов вскочил и повис на его левой руке, бормоча какие-то успокаивающие слова. Я успел приподнять для защиты стул.
– Не подходить! Пришибу как собаку! – закричал я не своим голосом.
Майор еще больше разъярился. Свободной рукой он схватил со стола Трофимова деревянное пресс-папье и с силой швырнул его в меня. Я уклонился, и пресс-папье ударилось в стену за моей спиной.
Трофимов продолжал держать майора и уговаривать. А я оставался стоять с приподнятым от пола стулом в руках.
В этот момент дверь распахнулась и в кабинет вбежали два надзирателя. Трофимов, надо полагать, нажал какую-то кнопку на своем столе. Надзиратели набросились на меня, вырвали из моих рук стул, завернули мне руки назад.
– Не того держите! – крикнул я. – Вы лучше следователю помогите!
– В камеру его! – приказал Трофимов.
Надзиратели поволокли меня к двери, держа с двух сторон под руки.
– Стойте! Не уводите его!! – закричал майор. – Надо составить протокол, – повернулся он к Трофимову. – И оформить ему статью: попытка нападения на сотрудника органов госбезопасности. Покушение на теракт, 58–8.
– И то дело, – сказал Трофимов, отпуская руку майора, – дело говоришь. Давайте его обратно. Он пусть постоит. А стул майору. – Трофимов уселся на свое место. Сел и майор.
– Значит, запишем, – запел своим несколько гнусавым голосом Трофимов, кладя перед собой чистый лист бумаги. – Мы, нижеподписавшиеся. Как ваши фамилии, товарищи?
Надзиратели назвали себя.
– Так и запишем, – продолжал Трофимов, – .мы составили настоящий акт в том, что обвиняемый – значит, ты, – кивнул он на меня, – оскорбил майора Горшкова, вошедшего в следственный кабинет во время допроса, заявив, что его, то есть майора, следовало выгнать из органов, исключить из партии и расстрелять вместе с Ежовым и другими его подручными палачами. Я правильно записал ваше высказывание?
– Да, я так сказал, надо было его еще тогда выгнать, исключить и расстрелять.
– Слыхали, товарищи? – вскинулся майор. – Нет, вы слышали, что говорит этот разоблаченный враг в отношении старого сотрудника органов?! Все так и запиши, товарищ Трофимов.
– Я все так и записал. После этого, – продолжал произносить записанное Трофимов, – обвиняемый схватил стул с целью пришибить майора, как собаку. Однако был обезврежен вбежавшими сотрудниками тюрьмы. Все правильно?
– Добавь, добавь – майор стал тыкать пальцем в протокол – пришибить майора, как собаку, то есть убить.
– Вы записали не точно, – сказал я. – Во-первых, вы не указали, что майор, который не знает ни меня, ни моего дела, и, значит, совершенно необоснованно, меня оскорбил. Назвал меня негодяем и врагом.
– А кто же ты, как не враг, если ты арестован?! – стукнул по столу майор. – Так и запиши, товарищ Трофимов, что я назвал его врагом. Не отрекаюсь.
– Прошу указать также, что я поднял стул в целях обороны, так как майор пытался накинуться на меня, но был вами удержан за руку. Тем не менее, он швырнул в меня пресс-папье. Вот оно, до сих пор у стенки лежит.
– Ну что ж, что было – то было, – сказал Трофимов. – Я разглядел промелькнувшую на его лице хитроватую улыбку. – Значит, так: обвиняемый утверждает, что поднял стул с целью обороны, увидев, что майор хотел его ударить, но был остановлен следователем капитаном Трофимовым. Так, майор? Правильно записано? – Так, – сказал тот, помрачнев. – Только напиши, что я хотел его ударить за оскорбление.
– Можно. – Трофимов добавил несколько слов к прежнему тексту. Затем все четверо подписали акт.
– Иди и ты подпиши, – обратился ко мне Трофимов. – Напиши, что акт составлен в твоем присутствии и тобою прочитан.
Я подписал бумагу.
– Ну, теперь все. Уводите его.
Двое надзирателей повели меня в камеру.
Как и следовало ожидать, мой рассказ взволновал товарищей по камере. В то время в ней находились со мной старик Фейгин, Лоншаков и Карпов.
Судили и рядили насчет того, «пришьют» ли мне вторую статью – попытку совершить террористический акт против сотрудника госбезопасности или нет. Все дружно, особенно Василий Карпов, осуждали меня за несдержанность, за длинный язык. Старик Фейгин назвал мое поведение глупым донкихотством.
Конечно, теперь, когда я пишу эти записки, можно было бы, поддавшись искушению, умолчать о своих тогдашних ощущениях, и оказаться в глазах читателя таким же смелым и решительным Дон Кихотом, каким я, вероятно, казался своим сокамерникам. Я убеждал их, что иначе поступить не мог – не тот характер. Я убеждал их, а заодно и себя, что совершил подвиг, проучил закоренелого негодяя, что сожалею лишь о том, что не пришиб его стулом.
После отбоя я улегся на свой топчан, отвернулся от света и долго не мог заснуть. Снова и снова я представлял себе происшедшее на допросе, снова и снова корил себя за то, что не сумел себя сдержать, забыл о том, где я, кто я, брякнул себе на беду то, что думал об этом матером эмгебешном волке.
Теперь, когда уже ничего нельзя было исправить, мне стало страшно. Мысль о возможности получить еще одну статью, да еще такую – пугала не на шутку. Я понимал всю нелепость такого поворота дела: ну какой тут террор, или даже намерение совершить убийство эмгебешника?! Но, с другой стороны, я ведь в самом деле пригрозил пришибить его, как собаку.
Обвинение, сфабрикованное на этой, реально прозвучавшей угрозе, будет ничуть не более нелепым, чем те обвинения, которые мне уже предъявляют, и на основании которых меня арестовали. Я поймал себя на мысли – «Хорошо бы меня отправили в карцер и этим бы ограничились».
Надо сказать, что такое свойство своего характера – пугаться задним числом – я заметил задолго до того случая. Впрочем, возможно, это свойство присуще если не всем, то многим. Во-первых, уровень смелости куда выше на людях, чем когда ты остаешься с опасностью один на один. Во-вторых, в момент опасности иногда просто не успеваешь испугаться. Импульсивный порыв срабатывает до того, как успеваешь оценить (рассудить) опасность и ее последствия. В этом смысле – «безрассудство» – очень точное слово. Такое не раз случалось со мной на фронте. Именно такое произошло в тот день. Ах, если бы у меня в тот момент, в кабинете у Трофимова, было время на размышления. Скорее всего, я не выпалил бы того, что выпалил.
Вспомнились мне и хитрые улыбочки моего следователя. Что они значили? О чем свидетельствовали? Скорее всего о том, что Трофимов про себя был доволен тем, что я обложил этого майора. Не хочет ли он использовать этот случай для сведения каких-то счетов с этим старым волком, принадлежащим явно к другому поколению эмгебешников, которое, вероятно, кичилось своими заслугами перед поколением Трофимова. Возможно, и так. Но мне от этого не обязательно будет легче.
Потом я стал себя убеждать, что все правильно, что я держал себя в русле той самой линии поведения на следствии, которую для себя избрал. Ну и пусть дадут вторую статью – намерение (попытка) убить представителя государственной власти! Расстрела – все равно не будет, смертная казнь отменена. Правда, говорят, что это одни слова – могут загнать на такие рудники, где больше четырех месяцев никто не живет.
Затем я стал воображать себе, что произошло бы, если бы Трофимов не удержал майора за руку и тот, подлетев ко мне, замахнулся бы на меня или даже успел бы ударить?.. Вот он подскакивает, замахивается, бьет. Я поднимаю стул, ударяю его с размаху по голове и действительно пришибаю его, как собаку. Надо сказать, что в то время я обладал большой силой рук. Конечно, я был ослаблен за время пребывания в тюрьме. Но все-таки!..
«Нет, – продолжал я свои размышления, – так бы не было. Такого я не могу себе представить. Тем более, что я никогда в жизни не ударил ни одну собаку – ни паршивую, ни аккуратно вымытую и расчесанную. Выходит, моя угроза была всего лишь пустым выкриком, штампованной фразой».
Скорее всего – вот это я вижу, это я себе представить могу – все было бы иначе. Я заслонился бы поднятым стулом, самое большее – оттеснил бы этим стулом нападающего.
На следующее утро, после завтрака, я попросил у караульного, обходившего камеры, бумагу и чернила для заявления прокурору. Заявление, в котором я с возмущением описал вчерашнюю сцену на допросе, очень понравилось моим сокамерникам. А меня начало терзать сомнение – подавать его или не подавать. В конечном счете – я решил не подавать свое заявление, изорвал его и бросил в парашу. Соображений, заставивших выбрать такое решение, было немало.
Даже в своем заявлении я не смог точно охарактеризовать действия своего следователя Трофимова. С одной стороны, именно он своими словами обо мне – «невиданный враг» – спровоцировал майора Горшкова на его устные и физические «выступления». С другой – он решительно удержал его от нападения на меня с кулаками. Кроме того, я уловил, что Трофимов явно недолюбливает Горшкова и свой акт составил с явным обвинительным уклоном против него. Захочет ли и сумеет ли Трофимов на основании случившегося «пришить» мне террористические намерения? Все-таки это мало вероятно. Разумно ли мне, учитывая все это, сплачивать против себя своим заявлением Трофимова и Горшкова? «А что, если, – подумал я, – Трофимов хочет, воспользовавшись данным эпизодом, как-то ущучить Горшкова – то ли по партийной линии, то ли помочь выпроваживанию его на пенсию? Не помешает ли в этом случае мое заявление столь полезному делу?»
Я вдруг поймал себя на том, что, вероятно, и было не сразу осознанным, но главным в моих рассуждениях. Вполне возможным результатом моего заявления могло быть то, что Трофимова (возможно, при его собственной просьбе) заменят на другого следователя. И вот этого я не хотел. Да, совершенно четко: этого я не хотел.
Странно, очень странно устроен человек. С одной стороны, все зло, причиненное мне бесчеловечной машиной репрессий, – МГБ – было сконцентрировано для меня в тот момент в лице Трофимова. Его усилиями, его головой и его руками стряпалось в данный момент фальсифицированное дело о моих «преступлениях», за которые, именно с его помощью, меня на долгие годы «закатают» в лагеря. Соответственно, именно на борьбу с ним, на этот неравный бой, где он – сильный и чуть ли не всемогущий, – будет всячески терзать меня – связанного и беззащитного, – я каждый раз выхожу на очередной допрос. Именно его профессионально отточенное, изворотливое коварство направлено на то, чтобы изобразить меня опасным преступником, да еще и вынудить в этом признаться. Для борьбы именно с ним я готовлюсь бессонными ночными часами. Именно о нем как о своем враге говорю днем с сокамерниками. Это он, Трофимов, отправил меня в ледяной карцер с первого же допроса. Это он выливает на меня черпаки помоев, когда кто-нибудь входит в кабинет во время допроса. И, тем не менее, я не хочу, чтобы его заменили. Я хочу, чтобы он остался моим следователем. Как же так? Почему? Ясно, почему. Каков он будет – тот, другой, который его заменит? Неизвестность всегда пугает. Кажется, что новый следователь будет обязательно хуже. Этого я уже как-то знаю, изучил его повадки и приемы. Конечно, что тот, что этот – результат будет, в принципе, один и тот же. И все же я борюсь, и мне кажется, что эта борьба имеет свой смысл, что я могу, обязан добиваться, если не освобождения, то, по крайней мере, смягчения своей участи, насколько это возможно. К Трофимову как к противнику я уже привык, «притерся». А что, если бы на его месте оказался такой Горшков, или ему подобный тип? Было бы хуже, намного хуже. Да, я не хотел, чтобы мне дали другого следователя. Наименьшее зло! Разве разумно менять его на какое-то большее зло?
Когда «кормушку» открыл корпусный, я отдал ему ручку и чернила, объявив, что заявление писать раздумал.
Трофимов вызвал меня на допрос дня через три. Перекладывая на своем столе какие-то бумаги, он, как бы между прочим, бросил:
– Хорошо, что не стал подавать заявление. Так оно будет лучше.
– Я подумал, что вы и без меня найдете способ наказать этого вашего коммуниста, – сказал я.
– Вот именно, – проговорил Трофимов. Потом, словно спохватившись, что сказал что-то не так, добавил уже в другом тоне: – Еще не хватало, чтобы подследственный антисоветчик давал мне указания, как вести воспитательную работу с коммунистами!.. Как-нибудь уж сам разберусь.
Я промолчал. Мне стало ясно, что Горшков получит тот или иной нагоняй и что второй статьи мне пришивать не станут.
Следствие по моему делу, как я уже, кажется, упоминал, тянулось шесть месяцев. По обычным, «типовым» нормам это было очень даже долго. Многие мои товарищи по несчастью уходили из следственных камер в общие, где дожидались суда за два, три, самое большое за четыре месяца. Так, например, как я узнал от него позднее, арестованный со мной в один день Е. О. Войнилович, оказался в лагере намного раньше меня. Мое дело проходило для следствия с непредвиденными для него сложностями. По сути дела, те материалы, по которым я был арестован, полностью провалились. Что-то, как я уже упоминал, происходило за кулисами следствия и стало мне известно лишь по его окончании. А некоторые провалы этих «материалов» происходили на моих глазах и при моем участии.
Расскажу о двух главных моментах моего обвинения и о том, как они потерпели крах. Однажды, придя на допрос к Трофимову, я увидел в кабинете высокого и худощавого подполковника с узенькими прокурорскими погонами. Когда я уселся на свой стул, этот подполковник назвал себя военным прокурором (фамилию я не запомнил) и объявил, что сегодняшний допрос будет происходить в его присутствии.
Я уже знал из рассказов сокамерников, что хотя бы на одном из допросов в течение следствия обязательно присутствует прокурор по надзору за следствием. Это был обязательный в ту пору элемент игры в законность. Разумеется, никаких результатов в сторону прекращения даже явно сфальсифицированных дел прокурорские визиты не имели.
Я понял, что настал и мой черед узреть на допросе представителя нашего гуманнейшего и справедливейшего закона. В самом факте его появления не было ничего удивительного. Но почему здесь оказался военный прокурор? Это обстоятельство меня встревожило. Уж не собираются ли направить мое дело в военный трибунал? А с какой, собственно, стати?
Все объяснилось позднее, опять-таки лишь по окончании следствия. Дело, как оказалось, было не во мне. Но пока что я оставался на этот счет в полном неведении. Так или иначе, спектакль начался по заведенному, надо полагать, порядку.
Прокурор обратился к Трофимову:
– Товарищ следователь, прежде чем задать вопрос, вы должны сформулировать и записать его на бланке протокола допроса. Ответ подследственного вы должны записать дословно. При любом сокращении его ответа смысл сказанного подследственным не должен быть искажен ни в малейшей степени. Вы меня поняли?
– Так точно, товарищ прокурор.
Трофимов стал заполнять бланк протокола допроса, а мы с прокурором изучали внешность друг друга. Ничего примечательного в его лице я не заметил. При худощавости фигуры лицо у этого подполковника юстиции имело округлые черты. Довольно длинный нос оканчивался закруглением. Волосы были темные курчавые, с проседью. Лоб переходил в глубокие залысины. «Сухой и педантичный человек», – подумал я, глядя на него.
Наконец Трофимов зачитал свой вопрос: «По вашему делу, в качестве свидетеля допрошен Урицкий (я не могу сейчас вспомнить его имя). Знаете ли вы его? А если знаете – расскажите, откуда и как вы с ним были знакомы?»
Я ответил, что Урицкого знаю еще с довоенных времен. Он учился на историческом факультете на два курса младше меня.
Затем последовал стереотипный в таких случаях вопрос: «Какие между вами были отношения, и не было ли между вами личных счетов?»
Я ответил, что отношения были хорошие и что личных счетов между нами не было.
Тут встрял прокурор.
– Значит, нет оснований предполагать, что свидетель Урицкий мог вас оговорить?
Трофимов записал этот вопрос в протокол, после чего предложил мне дать на него ответ.
– Поскольку вопрос поставлен так: есть ли основания предполагать, что свидетель Урицкий меня в чем-то оговорил, – отвечаю: основания предполагать такое есть.
Прокурор и Трофимов переглянулись. Я продолжал:
– Находясь на свободе, я знал, что Урицкий арестован по статье 58–10 часть 2-я и осужден вместе с группой своих товарищей на двадцать пять лет лагерей. Если его показания получены не до его ареста, а в тюрьме, тем более после оглашения или под угрозой получения такого срока, есть основания предполагать, что в этих условиях он мог меня оговорить.
– Запишите ответ, – злобно буркнул прокурор. – В конце еще раз повторите, что личных счетов у него с Урицким нет. – Трофимов снова погрузился в записывание ответа. Я же стал мучительно вспоминать, когда и о чем я разговаривал с Урицким.
Надо сказать, что до войны мое знакомство с Урицким было чисто шапочное. На курсе, на котором я учился, было триста студентов. Кроме своих, у меня было много друзей среди старшекурсников.
На сколько-нибудь близкие общения с младшими не оставалось времени. Но вот кончилась Отечественная война. В Ленинград, на истфак, в залы Публички вернулись оставшиеся в живых истфаковцы. Большинство студентов истфака, ушедших на фронт, погибло. Поэтому каждое знакомое лицо из того, «из раньшего», из довоенного времени казалось родным и близким.
Однажды в Публичке, возле полок справочной библиотеки, я встретил Урицкого. Мы бросились друг к другу, как старые, близкие друзья. Долгое рукопожатие, вопросы: «Где ты воевал? А где ты?..» Мы пошли в курилку, наперебой рассказывали друг другу о своих фронтовых годах, о планах на будущее.
Потом мы встречались с Урицким в Публичной библиотеке еще не раз. Разговаривали, как правило, в курилке. Сегодняшнему посетителю Публичной библиотеки будет очень трудно представить себе, что курилки в виде отдельного помещения тогда в библиотеке не было. Курили, сидя на длинных и узких кожаных диванах, оставшихся еще с царских времен и стоявших в открытом фойе. Оно находится между входом в столовую и большой лестницей, ведущей в гуманитарные читальные залы. Такое было возможно потому, что курильщиков тогда было куда меньше, чем сейчас. Курящих женщин – были вообще единицы. Мы – бывшие фронтовики – курили все. Но, повторяю, нас, студентов сорок первого года, ушедших в ополчение, осталось немного.
Сидя теперь на допросе, я мучительно вспоминал – о чем я говорил с Урицким во время нескольких наших мимолетных встреч, что могло послужить к обвинению меня в антисоветской агитации. Ничего такого,я, как ни напрягал свою память, припомнить не мог.
Трофимов, между тем, закончил формулировку следующего вопроса и зачитал его мне:
«Свидетель Урицкий показал, что вы в 1948 году систематически вели с ним антисоветские разговоры, возвращаясь с совместных занятий в аспирантуре университета. Вы подтверждаете это?»
Задавая этот вопрос, ни Трофимов, ни прокурор не могли и подозревать, какой поток мыслей пронесся в моей голове, когда я этот вопрос услышал. Я понял, что Урицкий, глубоко душевно травмированный и подавленный диким сроком, который он получил, не смог противостоять давлению и дал, был вынужден дать, против меня какие-то показания. Но при этом он оставлял мне полную возможность доказать, как дважды два четыре, что эти его показания совершенно не соответствуют действительности. Допрашивавший его следователь или оперативник, спешивший смастерить дело на меня, не удосужился проверить правдивость обстоятельств, сообщенных Урицким, и радуясь, надо полагать, своему успеху, быстренько записал его показания.
– Записывайте ответ, – сказал я Трофимову. – Показания Урицкого не подтверждаю. Антисоветских разговоров с Урицким, возвращаясь с ним с совместных занятий в аспирантуре Университета я не вел.
– Советую вам говорить правду, – прервал меня прокурор.
– Записывайте, – повторил я. – Не вел, хотя бы потому, что никогда с совместных занятий в университетской аспирантуре, тем более в 48-м году, с Урицким не возвращался. И не мог возвращаться. Я в аспирантуре университета вообще никогда не учился. Окончил аспирантуру Публичной библиотеки. Притом в 1947 году уже защитил кандидатскую диссертацию. Прошу эти обстоятельства проверить и приложить к делу соответствующие документы.
– Писать? – спросил Трофимов прокурора.
– А как же, – разочарованно бросил прокурор. – Запишите и проверьте данные обстоятельства. Ну, хорошо, – обратился он ко мне и к Трофимову, – свидетель Урицкий мог ошибиться в обстоятельствах. Обратимся к существу его показаний.
Трофимов вновь погрузился в запись очередного вопроса, а прокурор уставился в текст протокола допроса Урицкого, из которого следователь что-то старательно выписывал.
Следующий вопрос «по существу» звучал так:
«Свидетель Урицкий показал, что, рассказывая ему, что, находясь в составе частей Красной Армии, освобождавших в 1944 году Эстонию, вы заявили, что в Эстонии богатые крестьяне, то есть кулаки, жили хорошо, с приходом советской власти они были разорены. Вы подтверждаете эти показания свидетеля Урицкого?»
– Чему вы улыбаетесь? – спросил прокурор. – Что тут смешного?
Я действительно улыбался. Не мог сдержать улыбку. А прокурор, видимо, понял, что сейчас обнаружится новая накладка, допущенная тем, кто допрашивал Урицкого. Конечно, он, как и тот, кто записывал, не мог ухватить существо того подвоха для следствия, который Урицкий заложил в свои показания. Он знал, что я, как историк, разгляжу конец брошенной мне веревки, ухвачусь за него и выплыву из омута, в котором меня будут топить.
Позволю себе здесь небольшое отступление. Студентам исторического факультета моего поколения выпало исключительное счастье учиться у целого ряда великих мужей гуманитарных наук. Достаточно назвать имена наших учителей – академики Е. В. Тарле, В. В. Струве, И. И. Толстой, Б. Д. Греков, С. А. Жебелев, профессора – Гр. и М. Гуковские, М. Д. Приселков, А. В. Предтеченский, С. Н. Валк, Б. А. Романов, С. И. Ковалев. Им помогала плеяда блестящих доцентов – Н. Ф. Лавров, Д. С. Лихачев, В. В. Мавродин, С. Б. Окунь, Л. Л. Раков и многие другие. Каждый из них по знанию своего предмета, по знанию источников, древних и современных иностранных языков далеко превосходил многих сегодняшних академиков. При этом, однако, нельзя забывать, что вместе с этим именно нашему поколению студентов-историков ударили по головам «Кратким курсом» истории ВКП(б), фальсифицировавшим и унифицировавшим всю мировую, а особенно советскую историю. В условиях репрессий 1937–1938 годов планка догматизма и начетничества была поднята до предела. Запоминание наизусть сталинских оценок и толкований исторических событий стало совершенно обязательным. «Краткий курс» мы обычно целым коллективом заучивали по принципу – «вопрос – цитата». Например, вопрос: «Что сделали Зиновьев и Каменев на 233 странице?» Ответ: «Не успев высунуться, ушли в кусты». «Кто является «уродами типа?»» – «Шацкин и Ломинадзе».
Наряду с настоящими учеными, которых я назвал, на истфаке действовала и другая плеяда – активных и агрессивных фальсификаторов советского периода истории во главе с профессором Н. А. Корнатовским [10]10
Несмотря на это, Корнатовский в 1950 году был «разоблачен» как «враг народа» и арестован.
[Закрыть]. Все, что касалось Октябрьской революции, гражданской войны, индустриализации и коллективизации, они излагали в примитивизированном и извращенном виде, в духе откровенной сталинской фальсификации. Таким образом, истфаковцы нашего поколения были хорошо «натасканы» в области всякого рода ярлыков и формулировок.
Конечно, в «марксистских кружках», которыми были охвачены поголовно все граждане, в том числе и допрашивавший Урицкого следователь, и те, кто допрашивал меня – Трофимов и прокурор, тоже изучали все эти начетнические формулы. Но, как известно, эффект от этого «просвещения» был предельно низок, посещение кружков отбывали как повинность. Ну, а нам с Урицким приходилось выучивать все это всерьез. Короче говоря, я сразу понял, какой мой ответ на его показания предвидел Урицкий.
Я сказал следователю, что прошу писать мой ответ в протокол прямо с моих слов, так как сумею его сформулировать кратко и достаточно четко.
– Кратко и четко заявите, что ничего такого не говорили? – спросил прокурор.
– Нет, отчего же. Я готов признаться в том, что говорил подобные вещи и не раз. Притом говорил об этом вместе с очень большой группой моих единомышленников по данному вопросу.
– Так, так, так, – прервал меня Трофимов. В его голосе звучало нетерпение. Он, видимо, решил, что постигшая его в начале допроса неудача будет сейчас восполнена сторицей. «С помощью следственных действий» (Трофимов очень любил это словосочетание), он сейчас выйдет на целую организацию антисоветчиков. – Так, так. Записываю дословно.
Трофимов макнул ручку в чернильницу и застыл в позе ожидания с приподнятым пером в руке.
– Пишите. Я не подтверждаю только обстоятельств этого разговора, так как никогда не возвращался с Урицким с совместных занятий. Что же касается сути его показаний – заявляю, что мог говорить и неоднократно повторять многим лицам приводимые Урицким слова, а именно, что в Эстонии богатые крестьяне (кулаки) жили хорошо, а советская власть их разорила.
Я говорил медленно и Трофимов старательно записывал мои слова.
– Должен добавить к показаниям Урицкого, что не раз говорил об этом же в более широком плане: что не только в Эстонии, но и во всем Советском Союзе богатых крестьян-кулаков не только разоряли, но и высылали в отдаленные районы, короче говоря, ликвидировали кулака как класс. Эти слова мне не раз приходилось повторять на экзаменах и на различных семинарах.
Я продолжал говорить, хотя Трофимов, перестал писать и растерянно смотрел на прокурора.
– Пишите, – сказал я, – что в своих высказываниях по этому вопросу я опирался на учение товарища Сталина о ликвидации кулачества как класса.
– Незачем это записывать, – сказал прокурор. Было заметно, что следователь и прокурор изрядно смущены тем, что в протоколе допроса Урицкого под видом моих антисоветских заявлений записан самый что ни на есть банальный постулат сталинской политики коллективизации.
– Как это незачем записывать? – спросил я. – Раньше меня же обвиняли в том, что я не цитировал товарища Сталина в своей диссертации, посвященной XVI веку. А когда выясняется, что я цитировал товарища Сталина по поводу одного из главных дел его жизни – ликвидации кулачества как класса – вы не хотите это записать? Если не запишете эти мои показания – я не подпишу протокол.
– Не подпишите? – как-то очень уж быстро переспросил прокурор. И, не дождавшись ответа, сказал: – Ну и не надо. Вот и хорошо. Отправьте его в камеру, – обернулся он к Трофимову.
Пока за мной не пришел выводной, прокурор и Трофимов сидели молча. Меня увели. Протокол остался неподписанным. Забегая вперед, скажу, что в моем следственном деле, которое мне дали прочитать по окончании следствия, протокола допроса Урицкого не оказалось. Он просто «выбыл» из числа материалов моего обвинения.
С Урицким мне больше встречаться не приходилось. Слыхал, что после освобождения он поселился в Москве.
Предвижу, что его фамилия может вызвать вопрос – не родственник ли он первого председателя Петроградской ЧК Урицкого? Насколько я помню, он называл себя его родным племянником.
Многие современные мыслители любят злорадствовать по поводу таких фактов: «Вот-де, за что боролись, на то и напоролись!» Для меня же арест племянника известного деятеля революции Урицкого уже в то время совершенно отчетливо свидетельствовал о том, что и без того было совершенно ясно: как бы не относиться к Октябрьской революции – факт остается фактом: Сталин и те, на кого он опирался, совершили контрреволюционный переворот.
Царские жандармы, белогвардейцы и немецкие фашисты – все вместе взятые – не уничтожили такого количества деятелей революции, сколько их уничтожил Сталин. И нет никакого сомнения в том, что Урицкий – не будь он убит пулей террориста Каннегиссера в 1918 году, – был бы «своевременно» убит Сталиным. В этом случае его племянник был бы уничтожен где-то уже в тридцатых годах, а не удостоился бы звания солдата Великой Отечественной в 19 411 945 годах и звания врага народа в 1949 году.
Мне в связи с этой историей хочется вспомнить еще и о другом. В сентябре 1944 года я, как тогда говорили, освобождал Эстонию, или, как говорят теперь некоторые эстонцы, был оккупантом.
Перед тем, как войска Ленинградского фронта вступили на территорию Эстонии, командному составу через политотделы было дано указание: на вопросы местных жителей – «Будут ли снова вводить колхозы?» – отвечать, что колхозов не будет. Это был, как потом оказалось, сознательный обман эстонского населения. И в Раквере, и в Таллине, где мне пришлось побывать, было много тяжелых эпизодов. Так, в частности, в Таллине, в парке Кадриорг, ночью эстонцы повесили семерых советских моряков. В первые дни нашего пребывания в Таллине эстонские женщины демонстративно отворачивали голову от идущего навстречу советского офицера. Видел я, как из трамвая на ходу вытолкнули гражданского человека за то, что заговорил по-русски. В лесах бродили группы эстонских националистов организации «Омакайтсе». Они нередко нападали на наших военнослужащих, на одиночные военные машины на дорогах. В машину, в которой я ехал из Раквере в Таллин, была брошена граната, небольшой осколок попал мне в щеку. Хорошо, что не в глаз. Но все равно пришлось пережить весьма мучительную операцию по его извлечению в ленинградском госпитале костно-челюстной хирургии (кажется, так он назывался), которым руководил известный стоматолог профессор Львов. И, тем не менее, я горжусь тем, что в материалах, послуживших моему аресту, оказались следы моего искреннего возмущения разорением великолепного хуторского сельского хозяйства Эстонии и другими бедами, которые мы принесли маленькому трудолюбивому эстонскому народу. Эти мои высказывания были доведены до всеслышащих ушей органов каким-то неведомым мне осведомителем. Но попытка их задокументировать с помощью свидетельских показаний Урицкого, как мы видели, провалилась.
В Каргопольлаге МВД СССР, на 2-м лагпункте – поселок Ерцево на Архангельской железной дороге – было много эстонцев. Центром их «землячества» была сушилка. Там они, едва ли не все, собирались в свободное время. Заведующим сушилкой был уже немолодой эстонец по фамилии Луйк. Об обстоятельствах нашей доброй дружбы с ним и его земляками я, возможно, расскажу в другой, «лагерной» части моих воспоминаний. Здесь же скажу только – хорошими людьми оставались эстонцы и в тяжких условиях лагерной жизни – честными и добрыми. Работать плохо они не умели даже там, где работа была отнюдь не в радость. А главное – они были хорошими, очень надежными товарищами.








