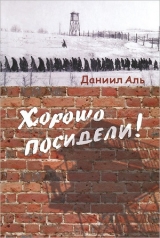
Текст книги "Хорошо посидели!"
Автор книги: Даниил Аль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Жизнь наша в новой камере после следственных казематов казалась просто замечательной. Камера просторная, светлая. Воздух свежий. Окна, отворявшиеся внутрь, открыты целыми днями настежь. На дворе теплый и солнечный июль. В камере много книг. Сидя в следственных камерах, мы и не знали, что книги Маркса и Ленина (ну и тем более, если бы кто захотел, – Сталина), а также книги на иностранных языках, выдаются без ограничений.
В этой камере разрешали играть не только в казенные комплекты шахмат и шашек, которые в следственные камеры выдавали редко и ненадолго – на всех желающих не хватало. Здесь разрешалось держать шахматы и шашки, слепленные из хлеба. Если к этому добавить, что с нами сидел чемпион РСФСР по шахматам Кронид Харламов, – станет ясно, с какой интенсивностью и интересом шла игра. Нередко Харламов ложился на свою койку спиной к нам, и мы играли против него на тринадцати досках (хорошо помню эту цифру). Разумеется, он почти никогда не проигрывал.
По вечерам в камере читали лекции: Дрейден о театре, Лупанов по юриспруденции, я об Иване Грозном. Инженер лесопромышленник Иван Иванович Грудинин – о лесном хозяйстве страны. Пятерым из нас, в том числе Грудинину, суждено было попасть в лесоповальный и лесопромышленный лагерь. Тогда, в камере, никто из нас такого не предполагал. Но все равно слушали его с интересом.
Были среди нас и два близнеца (если не ошибаюсь) братья Лавреневы, рабочие одного из ленинградских заводов. С интересными рассказами выступали и они.
Все более странным для нас становилось то, что проходили дни, а нас все не освобождали. Счет нашего пребывания в 28-й камере пошел уже на недели.
Кстати сказать, мы имели прямую связь с соседней, 29-й камерой. В стене, возле пола, под плинтусом, была дыра, которую мы постепенно немного расширили. Улегшись на полу, под топчаном, скрывавшим эту дыру, можно было переговариваться с соседями. От них мы узнали, что и они уверены в том, что их собрали для освобождения. Они тоже недоумевали – почему держат? Почему не выпускают?..
Прошел месяц, пошел второй. Наши иллюзии постепенно испарялись. Каких только предположений о нашей дальнейшей судьбе мы не строили. Большинство из нас, в конце концов, склонилось к тому, что нас ожидает суд. Ведь каждому было сказано – «Ждите суда». Вот мы и ждем.
Однажды обычное течение жизни в нашей камере было буквально «взорвано» появлением у нас нового обитателя.
Как-то вечером перед отбоем мы – так было заведено – совершали «прогулку». Встав по двое, как детсадовцы, делали несколько кругов вокруг стола. Я уже говорил, что камера была просторная. Все понимали – эти «прогулки» мало что прибавляют нашему здоровью и спокойному сну. Но всем нравилось – во-первых, участвовать в каком-то общем, лучше сказать, объединяющем деле, а во-вторых, эти прогулки помогали не опускаться, оставаться и в тюрьме человеком, в котором не убиты человеческие привычки, и который верит, что арест это еще не конец, что впереди жизнь и, значит, нужно сберечь здоровье.
Вдруг растворилась дверь. В камеру из коридора втолкнули какого-то человека. За ним в камеру полетели матрац, подушка, простыня. На пол с грохотом были брошены деревянные козлы и топчан. Дверь тотчас затворилась, защелкал замок, а вновь прибывший, не обратив на нас никакого внимания, стал барабанить кулаками в дверь. При этом он кричал – «Прокурора! Требую прокурора!»
Шедший со мной в первой паре юрист Михаил Николаевич Лупанов шепнул мне:
– Передай всем – провокатор.
Я обернулся и шепнул это слово следовавшей за мной паре. Все наши повторяли его и понимающе кивали головами.
– Не вступать с ним ни в какие политические разговоры, – снова передал Лупанов. И все снова закивали головами.
Через некоторое время все успокоилось. Вновь прибывший устроил свою постель на свободном пространстве у стены. Кто-то из нас при этом сдвигал поплотнее топчаны. Новенький что-то говорил. Рассказывал, что его перевели сюда из Крестов. Называл свое имя и фамилию. Но ему не только не отвечали, его даже и слушать не хотелось. В каждом из нас жила уверенность – все, что он о себе говорит – вранье, легенда. Чего еще, кроме лжи, ждать от провокатора. Да еще так топорно внедренного в нашу камеру.
Наутро, в то время как мы все занимались уборкой камеры, новичок присел на корточки на скамейку и стал листать взятый со стола томик Ленина в красной обложке.
– Ленин-то вот что говорил, – произносил он гнусавым голосом («Какой же еще голос может быть у провокатора», – подумал я) и зачитывал какой-то случайно попавшийся ему на глаза текст. – А у нас, что делается?! Все наоборот.
Никто из нас не реагировал на эти его высказывания. Одни молча делали свое дело – подметали, прибирали на столе, заправляли койки, другие разговаривали между собой. На «провокатора» старались даже не глядеть.
Слово «провокатор» не случайно написалось у меня здесь в кавычках. Очень скоро выяснилось, что никаким провокатором Женька Михайлов не был. Рука не поднимается записать его имя – «Евгений». Нет у меня в памяти такого обозначения для него, как нет, естественно, и его отчества. Иначе как Женька Михайлов – никто не называл его в камере и в лагере, где мы пробыли четыре года на одном лагпункте. Только так называли мы его и в наших разговорах – воспоминаниях после освобождения. Я думаю, что если бы его именем, по капризу судьбы, захотели бы назвать, скажем, теплоход, – на его борту надо было бы так и написать: «Женька Михайлов». Иначе – это было бы просто не его имя.
Так вот Женька Михайлов попал к нам в «политическую» тюрьму из Крестов, то есть из тюрьмы, где содержатся под следствием бытовики, уголовники и прочие, словом, все, кроме «пятьдесятвосьмушников». Сидел он там за мошенничество. Сидел уже шестой раз. Его «специальностью» было подделывать счетно-бухгалтерские документы с целью получения незаконных денег. Прошлые пять судимостей не могли остановить его кипучую натуру. И вот он снова сидел в Крестах в ожидании суда за очередные махинации. Там, в общей камере, он расписывал своим сокамерникам прелести парижских публичных домов. В Париже он никогда, конечно, не был, но был на данную тему хорошо наслышан. Пафос его рассказов, видимо, и в самом деле был таков: «Во, как хорошо живут в Париже! А вот у нас ничего такого же хорошего нет!»
Само собой понятно, оперуполномоченный из Крестов стал получать сводки об этих красочных выступлениях Михайлова. На него было заведено дело об антисоветской агитации, выразившейся в восхвалении западного образа жизни и принижении советской действительности. Ну, а раз дело такое, значит, надо его передавать в МГБ.
Так Женька Михайлов попал в Большой дом. Следствие по фактам его антисоветской агитации провели буквально за день-два, а затем его перевели в нашу камеру. Тоже, как ему разъяснили, для ожидания суда.
С появлением Женьки Михайлова жизнь в нашей камере стала значительно интересней. Старый, опытный «тюремщик» – он знал всевозможные способы разнообразить нудный камерный быт различными давно наработанными в тюрьме приемами. Так, например, он заводил «споры». Спор в тюрьме имеет одну особенность: нет возможности проверить правоту той или иной стороны. Никуда не выйдешь, не достанешь нужной книги. Оказывается, что в этих условиях, то есть в условиях отсутствия подтверждений для любого утверждения или отрицания, с помощью спора по любому, даже самому очевидному поводу, можно довести человека до исступления, до истерии, до желания убить противника. Зная это, Женька Михайлов постоянно затевал нарочито глупейшие споры. Так, например, он подошел к профессору артиллерийской академии с таким вопросом:
– Сергей Николаевич, скажите, как по-вашему вращается снаряд, вылетев из пушки?
– То есть как это – как? – удивился наивному вопросу профессор. – Очень просто: снаряд вращается вокруг своей оси. Слева вперед, направо. В соответствии с направлением вращения, заданным ему нарезкой канала ствола – слева вверх направо.
– Ну, Сергей Николаевич, – разочарованно гнусавил Женька Михайлов. – Выходит, и вы не в курсе последних изысканий?
– Каких изысканий?
– Ученые сумели заснять снаряд в полете на кинопленку.
– Не говорите чепуху, Женя.
– Я сам видел, ей-богу! Мне показывали эту пленку.
– Ерунда какая-то. Ну, и что же вы увидели?
– А то, что снаряд вращается не вокруг своей продольной оси, а вокруг поперечной.
– Как это? Что вы несете?
– А вот так: кувыркается. – Женька взял со стола вилку и показал, как снаряд в полете кувыркается.
Профессор-артиллерист весело расхохотался. Потом он начал что-то объяснять. Но Женька Михайлов был непоколебим. Дурацкий этот спор кончился тем, что профессор сначала вошел в полосу справедливого гнева, затем в полосу злобной перебранки с «наглым невеждой», который «позволяет себе не уважать законы физики».
– Эйнштейна тоже так же обзывали, – парировал Женька Михайлов. – И ничего, в Америке живет и плюет на всех. А вы такой умный, а в тюрьме сидите.
Кончилось тем, что профессор схватился за сердце. Мы развели спорщиков, уложили профессора на его койку, но он еще долго не мог успокоиться.
Меня Женька тоже допек.
Однажды, делая утреннюю зарядку, я по обыкновению стал приседать, выжимая при этом довольно тяжелую скамейку. Вдруг дикая, нестерпимая боль пронзила мою поясницу, я вскрикнул и упал на спину. Скамейка грохнулась мне на лицо. Из носа потекла кровь. Я лежал и не мог пошевелиться. Товарищи стали стучать в дверь, чтобы вызвать врача. Врач пришла, велела положить меня на койку и поставила диагноз: миозит – воспаление спинной мышцы. Сказался тот зимний карцер. Я пролежал несколько дней. Как-то раз ко мне, как говорится, лежачему больному, подсел Женька Михайлов. У него была явно добрая цель: отвлечь меня от боли, подбодрить. Разговор он начал с сочувственных вопросов. Давал какие-то советы – как поворачиваться, как подыматься с койки. Потом он вдруг спросил:
– Даниил Натанович, вы по Ивану Грозному специалист. Скажите, в каком году он родился?
– Грозный родился в 1530-м.
– Ну вот! – с неподдельной грустью в голосе сказал Женька Михайлов. – Вы-то зачем повторяете этот бред?
– Что значит бред?
– Ну что же, и на старуху бывает проруха, – продолжал он сокрушаться.
– Так в чем же «проруха»?
– Не хочется вам, больному человеку, бередить нервы.
– Уверяю вас – нечем их тут бередить. Когда родился Иван Грозный – всем известно. Посмотрите любую книгу, любой учебник. Там все написано.
– Там и не такое написано! Только старо это все. Открыты новые сведения. И оказывается, что Иван Грозный родился в 1534 году, а не в 1530-м.
– Странно, – отвечал я, стараясь удержаться от иронии. – Отец Ивана Грозного – Василий III – умер в 1533 году, а его сын родился через год после его смерти?!
– Не через год, а в следующем году. Девять месяцев еще не прошло после папашиной смерти. Разве так не бывает?
– Так бывает. Но в данном случае было не так. Иван родился при живом отце. А после него у Василия родился еще один сын – Юрий. Так что не получается.
– Это у вас не получается. Потому что вы живете старыми материалами и не знаете новых открытий. А я сидел в Крестах с одним ученым историком. Так вот, он сделал много открытий на счет Ивана Грозного. Он целый сундук с его архивом обнаружил.
Тут я должен заметить, что за несколько дней до этого разговора Михайлов прослушал в камере мою лекцию об опричнине.
– Так вот, – продолжал Михайлов, – опричнины, оказывается, вообще не было.
– То есть, как не было?
– Не было. Ее иностранцы придумали. Поляки и папы римские. Чтобы Ивана Грозного на польский престол не избрали, они и приписали ему опричнину.
Я понял, что Михайлов оперирует сведениями, почерпнутыми из моей лекции, но, извращает их до неузнаваемости, до полного абсурда. В конечном счете он довел меня до того, что я, превозмогая боль, вскочил с топчана, схватил его за грудки и начал что было сил трясти. Нас разняли, меня уложили на постель.
Однажды Женька Михайлов выкинул совершенно невероятный номер, ради описания которого я и пишу здесь о нем.
– Братцы, хотите я вас классно развлеку?
Большинство из нас выразило желание развлечься.
– Записывайтесь завтра с утра со мной к врачу. Там я начну. А здесь будет продолжение.
Наутро Михайлов и еще трое, в том числе и я, записались у корпусного к врачу. На прием к доктору в каждый данный день могли записаться не более четырех человек из камеры.
После обеда нас четверых повели в амбулаторию. Тюремная амбулатория Шпалерки занимала одно довольно просторное, но темное помещение. В нем пахло карболкой. Вдоль стен белели ширмы, за которыми находились покрытые простынями кушетки. Возле некоторых блестели различные аппараты, вроде кварцевых ламп. На полках стеклянных шкафчиков стояли различные пузырьки и коробочки с медикаментами, лежали инструменты.
Прием вела врач – красивая блондинка с неулыбчивым лицом. По слухам она была женой недавно назначенного начальника тюрьмы. Ей помогала медицинская сестра, молча выполнявшая назначения врача. Лицо у нее было еще более непроницаемым, чем у врачихи. Итак, мы четверо предстали перед строгой докторшей.
– Что у вас? – спросила она у меня.
– Голова болит.
– Таблетку.
Сестра протянула мне таблетку и фаянсовую стопочку с водой.
– У вас?
– Живот болит.
– Порошок.
– У вас?
– Ухо болит.
– Закапайте камфорное масло.
Михайлова докторша уже знала.
– Что у вас, Михайлов?
Михайлов выступил вперед из-за наших спин, держа на ладони член.
– Что случилось?
– Да вот, доктор, посмотрите: у меня на кончике члена, вот видите – сверху, образовалось покраснение. Пятно в форме Южной Америки.
Все мы, разумеется, скосили глаза вниз и убедились, что Михайлов не врет. На головке члена у него явственно красовалось покраснение, очень похожее на очертания Южной Америки.
Докторша взглянула на указанное место, брезгливо потрогала его кончиками пальцев и сказала:
– Надо, Михайлов, меньше заниматься онанизмом – тогда не будете открывать у себя на члене Америк.
– Что вы, доктор! – обиженно воскликнул Михайлов. – Я тридцать лет занимаюсь онанизмом, но ничего такого не было!
– Ладно, Михайлов, идите, идите в камеру.
Нас повели обратно в камеру. Мы давились от смеха. Не мог удержаться от смеха и конвоир, видевший всю сцену.
В камере наш рассказ вызвал повальный хохот. Между тем Михайлов, вошедший в роль, стал барабанить кулаками в дверь, требуя корпусного.
Вошедший в камеру корпусной с порога задал обычный вопрос:
– Зачем вызывали?
– А вот зачем, – сказал Михайлов, выступая вперед с членом на ладони.
– Ах, так! – закричал корпусной, воспринявший выступление Михайлова как выпад против него лично. – За издевательство пойдешь в карцер!
Общими усилиями мы с трудом разъяснили ему, что никакого издевательства тут нет. Рассмотрев «Южную Америку», корпусной приподнял свою синюю фуражку, вытер пот на лысине и сказал:
– Может, и вправду дело серьезное? Может, это у тебя сифилис?
– Какой еще сифилис? – возмутился Михайлов. – Врачиха сказал, что это от онанизма. А от этого сифилиса не бывает. Короче – давайте бумагу и чернила.
Корпусной принес бумагу, чернила и ручку.
Михайлов – единственный из всех нас не скрученный хохотом, а напротив, сохранявший серьезность, написал на имя прокурора по надзору за тюрьмой заявление: «Такого-то числа, утром, я обнаружил у себя на головке члена покраснение в форме Южной Америки и показал этот факт тюремному врачу. Последняя отказалась оказать мне медицинскую помощь, обозвав меня онанистом. Все это происходило в присутствии свидетелей. Прошу вашего вмешательства для оказания мне медицинской помощи».
Корпусной забрал заявление и ушел. Мы еще долго не могли успокоиться.
Прошло недели две. Все мы, и в том числе сам Михайлов, были убеждены, что его заявлению не дадут ходу, ограничившись разъяснением, которое даст начальству – своему мужу – тюремный врач. Но вот, однажды утром, вскоре после завтрака, в нашу камеру влетел взволнованный корпусной.
– Скорее, скорее, – закричал он, – все убрать. Койки заправить, на столе порядочек навести. Пол подмести получше. Начальство, все начальство сейчас к вам прибудет.
Корпусной убежал, а мы быстренько навели дополнительный порядок.
Вскоре дверь отворилась, и к нам вошло сразу несколько человек – прокурор, начальник тюрьмы и еще трое в синих фуражках. Вместе с ними пришел старичок с седой козлиной бородкой, в очках, в белом халате и в белой шапочке. Старичок вполне сошел бы за доктора Айболита на сцене детского театра, если бы из-под белого халата не были видны синие брюки с ярко-красными лампасами. Старый доктор, окруженный тюремными чинами в синих фуражках, пугливо озирался. В его руках дрожал скомканный носовой платок, который он то и дело прикладывал к носу. Его волнение и страх были вполне понятны. Доставленный в тюрьму МГБ, да еще по такому дикому поводу, как покраснение в форме Южной Америки на члене политзаключенного, он, естественно, мог подумать, что его самого забрали под первым попавшимся предлогом. Если бы подобное случилось с ним три года спустя, на фоне «дела врачей» – у него вообще не возникало бы никаких сомнений насчет того, зачем его сюда привезли.
Но в тот момент, в пятидесятом году, он, вероятно, еще надеялся на то, что все обойдется.
– Михайлов! – крикнул начальник тюрьмы – высокий, полноватый мужчина. – Заявление прокурору писали?
– Так точно, гражданин начальник, писал.
– Ну, вот, по вашему заявлению приняты меры. Мы пригласили профессора из Военно-медицинской академии. Он вас осмотрит. Предъявите свою болезнь.
Михайлов подошел к столу и положил «свою болезнь» на газету, услужливо подстеленную кем-то из наших. Профессор вынул из кармана увеличительное стекло и навел его на небывалую географическую карту. Начальники старательно заглядывали через его плечо. Мы, обитатели камеры, тоже толпились вокруг стола. Как мы признавались потом друг другу, никто из нас никогда не испытывал такой пытки смехом. Каждый понимал – если мы рассмеемся, то нас могут выдворить в коридор. Но лишаться такого неповторимого спектакля, разумеется, не хотелось.
Профессор, наконец, распрямился и убрал свою лупу.
– Скажите, Михайлов, – обратился он к пациенту, – вы раньше никогда не замечали у себя этого покраснения?
– Нет, доктор, не замечал.
– А ведь это у вас родимое пятно, от рождения. Вы должны были его заметить.
– Михайлов! – закричал начальник тюрьмы. – Сукин ты сын, этакий. Что ж ты морочишь голову нам. И еще профессора из-за тебя побеспокоили! Как же ты мог не видеть у себя этого родимого пятна?! Симулянт несчастный?!
– Не видел, гражданин начальник. Ей-богу, не видел.
– Как это можно было не видеть?! – чуть не хором закричали все прочие начальники.
– А очень даже просто, – заявил Михайлов. – Раньше я был уголовник. Сидел в уголовной тюрьме и не знал политическую карту мира. А теперь я стал политическим и здесь в политической тюрьме я прозрел, вырос сам над собой.
– В карцер его, сукиного сына! – воскликнул начальник тюрьмы. – На трое суток! И штаны и кальсоны с него снять! Пусть там еще больше прозреет. Пойдемте, доктор.
Начальство вышло из камеры. Как только за ним закрылась дверь, из коридора донесся хохот, слышались громкие оживленные голоса. Начальство явно развеселилось. О чем именно там за дверью шла речь, мы не слышали. Возможно, прокурор или кто-нибудь другой посоветовали начальнику тюрьмы смягчить свое решение. Факт тот, что Михайлова в карцер не отправили. Впрочем, для этого могла быть и другая причина. Через несколько дней начался новый период в жизни нашей камеры.
Двадцать третьего августа, после завтрака, дверь камеры приоткрылась и корпусной сказал:
– Всем приготовиться на выход с вещами.
Мы стали собирать вещи в узелки. Все понимали, что мы расстаемся. Никто теперь не верил в освобождение. Многие, в том числе и я, верили в предстоящий суд. Так или иначе, мы понимали, что началось какое-то движение в сторону приговоров, расставания с этой тюрьмой и заключения в лагеря.
Мы начали прощаться. Многие обнимались. У многих на глазах были слезы. Я с особенным волнением попрощался с Михаилом Николаевичем Лупановым. Мы успели подружиться. Разговаривать с ним мне было очень интересно. Расставаться было грустно. Да и все мы успели привыкнуть друг к другу. Жалко было расставаться и с веселым Женькой Михайловым, мудрым и добрым Симоном Дрейденом, с симпатичными братьями – рабочими Лавреневыми, с российским чемпионом по шахматам Кронидом Харламовым, с конструктором авиамоторов Климовым.
О том, что нас всех уводят с вещами, мы сообщили через переговорную дыру в соседнюю камеру. К ним команды готовиться на выход с вещами еще не поступало. Соседи пожелали нам счастья.
Но вот снова раскрылась дверь.
– Климов с вещами.
Климов вышел.
Минут через пять дверь снова открылась.
– Лупанов с вещами.
Конвейер заработал в довольно быстром темпе.
Дошла очередь и до меня. Махнув на прощание рукой товарищам, остававшимся на своем печальном старте, я пошел, направляемый надзирателем куда-то вниз по лестнице.
Сердце билось учащенно. Я понимал, что иду навстречу своей новой судьбе, не сулившей ничего, кроме новых мучений и тягот. Старался себя подбадривать. Хорошо-де, что настанет какая-то определенность: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Меня привели на второй этаж, к двери кабинета начальника тюрьмы. Дверь была открыта.
– Входите, – сказал надзиратель.
Я вошел. В кабинете стояла массивная мебель, обтянутая черной кожей – диван с высокой спинкой, кресла. Напротив двери стоял большой письменный стол, за которым сидел молодой майор МГБ. Я обратил внимание на университетский значок у него на груди.
– Садитесь, пожалуйста. – Майор указал мне на кресло перед столом. Я сел. Свой узелок – какие-то вещи, завязанные в свитер, я положил на пол.
– Ваша фамилия?
Я назвался.
– Ознакомьтесь, пожалуйста. – Майор протянул мне бланк, размером меньше, чем в половину обычного бумажного листа. В его верхней части типографским способом было напечатано: «Особое совещание при министре государственной безопасности СССР». Ниже было впечатано на машинке: «Выписка из протокола от … июля 1950 года. Ниже, по сторонам, разделенным вертикальной чертой, было впечатано на машинке:
Пункт протокола 136.
Слушали:
Дело по обвинению такого-то в пр. пр. [11]11
В преступлениях, предусмотренных.
[Закрыть]ст. 58–10, ч. I.
Постановили:
Направить такого-то в ИТЛ сроком на 10 лет.
Под этим текстом стояло несколько подписей. Под ними – типографски напечатанное слово – «Читал». Вслед за местом для подписи была впечатана линеечка для указания даты и месяца.
Я подписался в указанном месте и вернул бумагу майору.
– У вас есть ко мне вопросы? – осведомился он.
– Есть.
– Пожалуйста.
– При аресте у меня был изъят университетский значок. Это не мой на вас надет?
– Нет, не ваш. Еще вопросы есть?
– Больше нет.
– Пожалуйста, идите.
Я встал и вышел в коридор.
Такова была процедура «суда», которого я ждал, к которому готовился, на справедливость которого имел наивность рассчитывать.
Фактически само МГБ приговорило меня своим Особым совещанием. Притом без всякого разбирательства, буквально в списочном порядке. Мое дело, как видно по выписке из протокола, рассматривалось на данном заседании сто тридцать шестым! Была ли эта цифра одной из последних, или вслед за моим «делом» в тот день было рассмотрено еще столько же, а то и больше дел?
Позднее я убедился, что через ОСО, то есть без суда, в эти годы были направлены в лагеря примерно восемьдесят процентов так называемых «политзаключенных».
Надзиратель повел меня по той же лестнице, по которой мы несколько минут назад спускались. Мы миновали этаж, на котором была наша двадцать восьмая камера и поднялись на следующий. Меня подвели к двери новой общей камеры. Дежурный по этажу надзиратель открыл дверь, я вошел и. Боже мой! В камере были все наши, кто был вызван «с вещами» раньше, чем я.
Товарищи тотчас меня окружили. Посыпались вопросы:
– Ну что, Даниил Натанович!
– Что вам дали?
– Сколько?
Я сказал: «Десять лет лагерей».
В ответ раздались веселые возгласы:
– Ха-ха-ха! И у меня десять!
– А у меня пятнадцать!
– А мне двадцать пять влепили!
– Ха-ха-ха!
Все это говорилось со смехом. Царило какое-то веселое оживление.
Один за другим входили остальные наши товарищи. Каждый раз повторялось все то же:
– Сколько дали?
– Пятнадцать.
– Ха-ха-ха! А мне десять!
– А мне двадцать пять!
Последним вошел инженер из политехнического.
– Ну, что? Сколько дали?
Вместо ответа он вынул из внутреннего кармана пиджака копию оправдательного приговора Верховного суда, порвал ее на мелкие кусочки, бросил их в парашу и спустил воду.
Особое совещание дало ему десять лет лагерей, продемонстрировав тем самым свое презрение к Верховному суду.
«Нездоровое оживление» момента первых встреч (воистину гениальное словосочетание, найденное Ильфом и Петровым) быстро улетучилось. Вызвано оно было, видимо, тем огромным зазором, огромным несоответствием между жестоким приговором и тем самоощущением, которым обладал приговоренный – то есть полным и абсолютным неприятием (невосприятием?) себя, хоть в какой-то степени, преступником: «Вот, дураки! Я совершенно ни в чем не виновен, а они мне такой срок влепили!» – такова, видимо, в примитивной схеме психологическая подоснова того странного и неуместного смеха, который охватил нас тогда, в столь трагическую минуту нашей жизни.
Всякое благодушие и даже внешнее бодрячество у всех нас исчезло окончательно после представленного нам свидания с родственниками.
Нас приводили в помещение для свиданий человек по десять и выстраивали вдоль деревянного барьера, высотой доходившего человеку до пояса. Над барьером, почти до потолка, находилась редкая металлическая сетка. Метрах в полутора от этого барьера находился другой такой же барьер, над которым сетки не было.
В проходе между барьерами туда и сюда расхаживал пожилой надзиратель в синей фуражке и в очках.
В помещение, по ту сторону отдаленного от нас проходом барьера, впустили родственников. Пришли жены с детьми всяких возрастов, матери.
В первые минуты стоял немыслимый гвалт. Пришедшие на свидание сначала толкались возле барьера, становились напротив своего. Дети постарше кричали – «Папа! Папа!..» Малыши плакали. Поначалу какая-то старушка громко запричитала. На нее зашикали. Успокоили детей. Начались разговоры. Слышно друг друга было плохо, так как каждый старался перекричать своих соседей.
Моя жена держала на руках сына. Я оставил его полуторамесячным. Теперь ему было около года. Смешной круглый пупс. Так хотелось протянуть к нему руки, взять его на руки. Руки невольно поднялись и, встретив сетку, крепко в нее вцепились. Так, с поднятыми вдоль сетки руками, словно повиснув на ней, я и простоял те полчаса, которые длилось свидание. Боль в пальцах была очень кстати. Она помогала удержаться внешне спокойным. Хотел быть спокойным, уверенным, хотел подбодрить жену, внушить ей, что не все еще в прошлом, что будущее обязательно наступит, что есть смысл жить ради этого будущего, ради сына.
Как я узнал потом в камере, некоторые из тех, кто получил двадцать пять лет лагерей, вели себя на свидании иначе: старались уговорить своих жен забыть их, поскорее оформить развод и строить свою жизнь самостоятельно, без этой страшной «гири» на ногах, какой является муж – «враг народа», осужденный к двадцати пяти годам. Тем более что дождаться его при таком сроке практически невозможно. (Кто из нас тогда думал, что Сталин через три года умрет и все мы после этого, кто раньше, кто позже, но до окончания срока, окажемся на свободе).
Я потом не раз задумывался над вопросом: какая позиция была честнее, благороднее – внушать своим близким ни на чем не основанный оптимизм, или благословить их на избавление от статуса прокаженного – «члена семьи врага народа». Такие раздумья пришли позже. В момент свидания мне просто не приходило в голову, что я могу сказать что-то другое, чем то, что я говорил.
Во время свидания мой сын учинил ЧП. Прохаживавшийся в проходе между барьерами пожилой надзиратель, каждый раз проходя мимо малыша, начинал с ним играть – «бодал» его двумя пальцами. В один из таких моментов сын заинтересовался очками этого «дяди» больше, чем его «рогатой козой». Он протянул ручонку и сдернул очки с носа старого тюремщика. Естественно, малыш их не удержал. Очки упали на каменный пол и разбились. Доигравшийся тюремщик, охая и вздыхая, присел, поднимая опустевшую оправу. В другой обстановке этот эпизод привлек бы всеобщее внимание. Здесь он прошел незамеченным. Мы с женой, конечно, перепугались. Думали, что наше свидание будет досрочно прервано. Но все обошлось.
Но вот свидание окончено. Нас уводят под крики и плач. Кричат дети. Кричат взрослые. Мы идем с головами, повернутыми назад, впившись глазами в родные лица. У каждого из нас на уме одно – не в последний ли раз вижу их. То же, верно, думали и наши родственники.
После свиданий, на которых мы по очереди побывали, настроение в нашей камере резко изменилось. Только теперь трагизм и непоправимость случившегося обнажились для каждого в полной мере. Тяжело и больно было и раньше. Тюрьма, допросы, угрозы, ощущение своего бессилия, предвидение тяжелой и страшной судьбы и даже гибели, разлука с близкими, беспокойство за их судьбу, обида за совершенную в отношении тебя несправедливость – все это было и до этого дня. Было все это. И мучило, и страшило, и оскорбляло. Но рядом жило и другое, не оставляли иллюзии, надежды. Пусть нелепые, неразумные. Но они были и держались устойчиво.
Так уж устроен человек. На фронте каждый думал, верил – не мог представить это себе иначе: пуля пролетит мимо него. Пусть рядом, пусть просвистит у самого уха, но мимо. А если не мимо, то ранит – попадет в ногу, в руку, но не в голову и не в сердце. В голову или в сердце она может попасть кому-то другому, тому, кто бежит в атаку рядом со мной, но не мне. А осколки снаряда пролетят, скорее всего, над головой, или просвистят мимо, или, если пойдут низом, – ранят в ноги. Без такого неистребимого убеждения каждого солдата война была бы невозможна. Мало кто смог бы подняться в атаку, перебегать через пристрелянные «поляны смерти» и вообще освоиться с жизнью на войне как с повседневным бытом.
Странно, что такого рода неразумный оптимизм насчет своей судьбы уживается со страхом, то есть с чувством (представлением) противоположного свойства: «страшно идти на передовую, страшно идти в разведку. – могут убить». Однако уживаются в человеке и страх смерти и уверенность в том, что тебя она минует. В этом сказывается неразрывная связь сознания с инстинктивными чувствами. В данном случае с инстинктом самосохранения от гибели – страхом – с одной стороны, и с инстинктом жизнеспособности, поддержания жизненной активности, спасения ее от паралича на почве того же страха. Последнее определяло и состояние заключенного в следственной тюрьме. Да, иллюзии, вера в исключительный поворот своей судьбы – все это было. А кроме того, была борьба за свою судьбу, борьба со следствием. Разум понимал, что ее исход предрешен. А инстинкт заставлял продолжать борьбу, поддерживал веру в благополучный исход.








