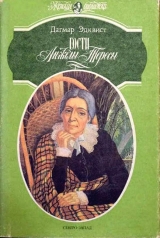
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Она сказала задумчиво:
– А ты заметил, как здесь все изменилось после той катастрофы? Она как будто разрезала все пополам. И сам дом стоит, как призрак, и внутри, в комнатах, только две старые женщины да съеденные молью костюмы. (Да, Давид, я тоже их видела.) Сознание Анжелы Тересы или, по крайней мере, ее внимание, остановилось, как часы, на определенной точке. Но нужно, мне думается, только прикоснуться к маятнику, и они опять начнут ходить. Она не мертвая, и не безумная, ей только нужно помочь справиться с ее горем и сделать первый шаг к живому настоящему. А сыновья… Они не должны стать для нас страшными привидениями. Не будем бояться произносить их имена. Пусть. Хосе и Эстебан живут здесь своей жизнью воспоминаний, благодаря нам, пусть живут в нашей памяти. Знаешь, это очень важно.
Да, важно, чтобы люди помнили тех, что погибли молодыми. Чтобы вспоминали их не со страхом и не для мести, а с печалью и сожалением. Как настоятельный призыв предоставить новому поколению возможность «остаться в своем прежнем состоянии».
И все-таки. Что-то в Давиде противилось подобным вынужденным воспоминаниям. Ему хотелось иметь самую будничную идиллию с Люсьен Мари, как с солнечным островком во времени, обтекаемым забвением. Бездумно – беззаботно – банально – безответственно – да, благодарствую!
Он улегся на пол, положил голову ей на колени и прикрыл глаза от солнечных лучей.
– Не взывай больше артистов на сцену, – произнес он. – Трагедия окончена.
Потому что она ведь наверно окончена?
Позже, уже днем, когда они бродили вокруг усадьбы, осматривая место, где поселились, им повстречался садовник, арендовавший у Анжелы Тересы землю.
Он поднялся от грядки с огурцами и пошел впереди, к участку за дом.
– Вот, – обратился он к ним, показывая на разбитый там огород. Весь участок был вскопан, разделан на аккуратные, прямые грядки; земля в них была темно-красная, хорошо насыщенная влагой. В середине каждой грядки едва-едва намечался неясный, трепетный узор из чего-то легкого, зеленого, еще неопределенного. Пока всего лишь намек на будущую пышную зелень.
Люсьен Мари повернулась, вопросительно взглянула на Давида. Как ни странно, он был взволнован.
– Ваш огород, мадам, – сказал он.
21. Часовня для женщин
Апрель кончился, пришел май. Люсьен Мари ходила по базару и делала покупки. Свое хозяйство она вела рачительно, с французским тщанием; открыла, что мясо здесь дорогое, зато рыбу в киоске около больших весов можно купить дешево. Иногда ей там перепадало и кое-что повкуснее – омары и каракатицы, маленькие кальмары и крупные pullpas, Анунциата была настоящая искусница их готовить.
Давид сидел дома и писал. Кормилец должен зарабатывать деньги на семью.
Возвращаясь домой со своей рыбой в корзинке по одной из узких улочек за рынком, Люсьен Мари услышала пение. Оно доносилось из маленькой часовни, низенькой и невзрачной, как усыпальница позади какого-нибудь старого замка. Из любопытства она подошла поближе, увидела, что за красивыми решетчатыми дверями мерцают восковые свечи. Постояла, прислушиваясь к пению.
Вышла женщина и приветливо придержала ей дверь. Люсьен Мари накинула на голову шарф и вошла, потом присела на ближайший свободный стул. Когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела алтарь с изображением Девы Марии, царицы небесной, в короне, с младенцем на руках. Алтарь был украшен розами. В часовне были одни женщины. Большей частью старые, с изящными испанскими профилями и седыми волосами под кружевными мантильями. На стуле рядом с нею сидела высокая, рослая старуха с горделивой осанкой, но одетая в сплошные лохмотья. Здесь не было ни кафедры для проповедника, ни хора мальчиков, ни священника. Не было вообще ни одного мужчины; это была месса для женщин, исполняемая женщинами. Нищенски одетая старуха взяла на себя роль солистки.
Но когда Люсьен Мари заглянула в ее молитвенник, та прикрыла текст рукой и окинула ее убийственным взглядом. Какой красивой она, видимо, была когда-то! Опасная женщина, пассионария. А теперь от нее пахло старостью и неопрятностью, и ноготь, водивший по тексту, был с трауром.
Не дожидаясь конца мессы, Люсьен Мари тихонько взяла свою корзинку и вышла.
Через несколько дней она зашла туда опять. Мессу служили в одно и то же время, и все почти женщины были там снова. Фантастическая старая жрица в лохмотьях сидела на своем месте. Опять было свободным только одно это место рядом с нею. Вполне понятно почему.
На этот раз Люсьен Мари пришла в черной кружевной мантилье, как все другие. Она поостереглась заглядывать в молитвенник темпераментной старухи. Но, тайком понаблюдав за молодой иностранкой и примирившись с ее присутствием, старая прихожанка пододвинула к ней книгу, чтобы та тоже могла следить за мессой.
Теперь Люсьен Мари поняла тот ее гневный, протестующий жест: женщины исполняли свою мессу на каталонском языке. Поэтому могли опасаться предательства. Ведь мессу разрешалось служить только на литературном испанском, в дверях церквей стояли жандармы и следили, чтобы священник и его паства не нарушали предписания.
Но либо местным властям не было известно, что здесь делается, в этой маленькой часовне, либо они махнули рукой – отсталые женщины, что с них спросишь – и смотрели сквозь пальцы на такую древность, как эта месса.
Освещенная трепещущим сиянием восковых свечей, над ними парила Пресвятая дева Мария, в алом одеянии и синем плаще, чуточку далекая в своей стилизации, с характерными для средневековья истончающимися формами и загадочной улыбкой. Над головой младенца взгляд небесной матери встречался с устремленными к ней взглядами молящихся.
Женщины взывали к деве Марии о помощи в своих женских горестях. Головы вздымались и падали в монотонном, постепенно повышающемся ритме. Паузы не соблюдались, партии речитатива переходили прямо в гимны. Время от времени раздавался один только звучный альт солистки-старухи, а все другие присоединялись к ней с ответом или припевом.
Люсьен Мари не старалась следить за мессой на чужом языке. Слова почти не играли для нее роли, главное было выражение лиц, истовость, страстное обращение женских голосов к Богоматери.
Была ли это христианская служба? Да, все испанки там были набожными католичками.
Но на этом побережье культурный слой был глубокий, а обычаи древние. Она могла бы спуститься на тысячу лет во времени – и нашла бы такое же богослужение в честь девы Марии, матери Иисуса. И на две тысячи лет, и опять нашла бы женщин перед украшенной розами царицей небесной – только имя ее в этом случае было бы Изида.
Однако как теперь, так и тогда, женщины поклонялись божественному младенцу у нее на руках и в трепете перед мистерией рождения припадали к ее стопам.
А до Изиды, вероятно, существовали богини-матери – мощные, древние, врата самой жизни.
Как много здесь было старых, скорбящих женщин. Они тянулись к излучающей свет молодой матери с младенцем на руках, они получали у нее утешение, на некоторое время сами становились юными и счастливыми.
Почему же Анжела Тереса не…
Эстебан.
Люсьен Мари догадывалась о ее лояльности сверх всякой меры по отношению к самому любимому сыну и его непонятным идеям.
Женщин среднего возраста почти не было. Им наверно было недосуг, с их подрастающими детьми и хлопотами по хозяйству, но две-три молодых девушки стояли на коленях и молились, горячо, страстно, ничего не замечая вокруг себя. От каких печалей любви искали они утешения у девы Марии?
Было там и несколько беременных женщин, грузных, тяжелых, погруженных в драму своего ожидания.
Волна горячей крови вдруг поднялась внутри Люсьен Мари, окатила ее с головы до ног. Да – у нее тоже имелась своя причина обратиться к Младенцу с молитвой. Благоговейно войти в единение матерей.
Уже второй раз у нее не было месячного очищения. В первый раз она решила, что это от нервного напряжения и вообще от самого ее желания иметь ребенка. Делать анализы, чтобы с помощью опытов на мышах ей научным путем определили, как и что, ей не хотелось. Она решила уповать на старые приметы, выждать некоторое время – полное смутных предчувствий, перемежающееся приливами то надежды, то страха. Она еще не говорила об этом с Давидом. Иногда она по его взгляду видела, что с его губ готов сорваться вопрос, но мгновение проходило, а они так и не решались об этом заговорить.
Так много другого занимало ее в эти шесть недель. Совершенно новый образ жизни. Давид. Анжела Тереса. Часто она себе говорила: это просто мое воображение, я же ничего абсолютно не чувствую. Я совершенно забыла об этом.
Разве забыла? О нет, не совсем, ни на минуту даже не забывала. Но и поверить она тоже не могла.
Но в это мгновение, в этой общности со всеми женщинами вокруг нее, неопределенность превратилась внезапно в полную уверенность. Несколько минут она чувствовала себя совершенно ошеломленной. От страха? От радости? У этого чувства не было названия. Просто ошеломленной. Земля у нее под ногами покачнулась, свечи кругом затуманились. Звуки доносились издалека.
Она прошептала себе, тому, кто был в ней, внутри ее: ах, как бы мне хотелось побыстрее тебя увидеть. Уж скорей бы. Какой ты? Какая ты?
Да, я догадываюсь, что ты есть, я уверена в этом. Я уже дышу тобой. Спи, моя крошка, в своем красном гроте. Плавай, моя рыбка, в своем теплом море. А я буду так тебя оберегать, так тебя лелеять. Чтобы всегда тебе было тепло и мягко, и ступать постараюсь полегче, чтобы ни одного толчка ты не ощутила.
О Господи, как же мне дождаться твоего первого движения? Твоего первого легкого знака, что ты уже есть?
Потом она пришла в себя. Взгляд ее опять обратился к тем двум, таким грузным, таким тучным, и она мысленно их спросила: ну, как вы? Как вы относитесь к своему положению? Что это для вас – счастье или горе, или всего лишь только немое стремление растения – созреть и дать семена. Как бы мне хотелось, чтобы вы рассказали, что вы чувствуете!
Внезапно в нос ей ударил запах ладана, восковых свечей и запах соседки. У нее слегка закружилась голова, и она, взяв свою корзинку, вышла на улицу.
Несколько мгновений Люсьен Мари просто стояла, глубоко дыша, пока не почувствовала себя лучше. Но, обогнув угол и собираясь перейти площадь, она опять ощутила, как мостовая у нее под ногами закачалась, и она испугалась, что упадет в обморок прямо на улице. Она огляделась кругом в поисках какого-нибудь убежища, но ничего не нашла, кроме лавочки Жорди.
Там было прохладно и полутемно, жалюзи он опустил. Ни одного покупателя.
Она оперлась на прилавок и спросила:
– Можно мне присесть на минутку?
Жорди взял ее за локти и усадил на свой единственный стул; для своих личных нужд он использовал его как стол, а вообще покупатели садились на него, чтобы примерить туфли.
– Посидите, я сейчас, – заспешил он, взял глиняный кувшин, быстро сходил на площадь, наполнил его свежей, холодной водой из источника и дал ей попить.
– Какой вы добрый, – взглянула она на него с благодарностью.
– Ну вот еще, – отмахнулся он, как будто и слышать не хотел об этом.
Когда она собралась уходить, Жорди пошел ее проводить и взял довольно тяжелую корзинку.
– А как же лавка? – спросила она.
– Покупателей наверно все равно не будет, – ответил он с горькой беззаботностью.
Она подумала: вот идиотка, могла ведь у него что-нибудь купить… Нет, хорошо, что этого не сделала. Гордость Жорди была как духовный воздухоочиститель, она, как огнем, выжигала всякую попытку отнестись к нему покровительственно. Поэтому воздух вокруг него был таким чистым.
Они двинулись дальше, молча, разговаривать им не хотелось. Жорди хорошо понимал ее, когда она говорила по-французски, но предпочитал объясняться с ней при помощи жестов или одного-двух лаконичных испанских слов.
Подойдя к мосту через реку, они встретили Давида. Тот даже вздрогнул: ему еще не приходилось видеть Люсьен Мари в обществе мужчины. Жорди, как испанец, сразу же уловил его чувства, слегка улыбнулся, приветственно помахал рукой и, передав ему корзинку, хотел уйти, предоставив Люсьен Мари объясниться самой.
– Нет, не уходите! – воскликнули они оба одновременно на разных языках, а Давид прибавил:
– Не хотите взглянуть, как мы там устроились?
Все это время Жорди ни разу не подавал о себе вестей. Он не навещал Анжелу Тересу. В первый же день после переезда Давид направился в город, чтобы немедля отыскать Руиса и узнать, почему Жорди арестован и что можно сделать для его освобождения. Но, как оказалось, Жорди опять сидел в своей лавочке, его выпустили так же неожиданно и без объяснений, как и арестовали.
Давид вошел тогда, поздоровался с ним за руку и предложил выпить рюмочку за свободу. Однако Жорди опять находился в своем апатичном и вместе с тем напряженном состоянии, когда человек ничего не воспринимает, кроме того, что его мучает. То, что его вот так, время от времени сажали в тюрьму, постепенно его ломало, на каждое пребывание там наслаивался еще и стыд. Он понимал, что Давид хочет ему добра, но не мог с собой совладать. Не только потому, что участливость Давида оскорбляла его гордость. В душе своей он был настолько испанцем, настолько лояльным к своей родине, что для него было просто невыносимо самому служить поводом для гнева и критики иностранцев, тем более, что он был совершенно беспомощен.
Давид почувствовал, что в тот момент присутствие его было мучительно для Жорди, и решил деликатно уйти. Последнее, что он видел, были руки Жорди, они у него так дрожали, что он поспешил опереться ими о прилавок.
Сегодня он выглядел здоровее, и Люсьен Мари удалось даже растопить его улыбку.
– Спасибо, не теперь, – ответил он спокойно, – но как-нибудь в другой раз с удовольствием.
Они условились о дне, и он отправился к себе домой.
Давид взял корзинку, просунул руку под руку Люсьен Мари и спросил:
– Где ты была? Я уже начал беспокоиться.
Она рассказала о женской часовне.
– Неужели месса для одних только женщин?
– Да, и в мае ежедневно – это ведь месяц Марии.
Месяц Марии. Давид заинтересовался, но почувствовал легкую тревогу, как всегда, когда речь шла о каком-нибудь союзе женщин.
– Как тебе вообще пришло в голову туда пойти? Из-за местного колорита, или…
– Не только, – сказала она мягко.
Давид потемнел. Неужели Испании удалось сделать то, что не смогли сделать ее семья и церковники – вернуть Люсьен Мари с ее левыми взглядами на стезю тети Жанны?
Он не мог возражать, так как сам защищал свободу веры. Но врагом номер один у свободы веры была испанская церковь. И вдруг теперь…
Он поймал ее улыбающийся взгляд сбоку и сбился с мыслей. Нет, здесь, кажется, что-то другое.
– А как Жорди попал в женскую часовню?
– Он там не был, я сама к нему зашла, – сказала она и немного сбивчиво поведала о своем приступе и недомогании.
Они шли по тропинке через рощу каких-то неизвестных хвойных деревьев, потом началась апельсиновая аллея.
Он непроизвольно сжал крепче ее руку, несколько раз пытался спросить:
– Это было… ты не… что это, Люсьен Мари?
Она остановилась, повернулась, подняла к нему свое открытое лицо.
– Да, Давид. Так оно и есть.
Он поставил корзинку, не в состоянии двинуться с места.
– Ты уверена?
– Довольно-таки.
Он нерешительно обнял ее за тонкую талию. Они подумали об одном и том же, улыбнулись, глядя друг другу в глаза. Она покраснела и стала еще привлекательнее. Продолжая держать ее за талию, он поднял ее и закружил, но сразу же осторожно, как стеклянную вазу, поставил на землю.
– О небо, быть внезапно возвышенным до создателя и отца…
Люсьен Мари удивленно раскрыла глаза. Что он будет лояльным, что не станет возражать против ребенка, она знала – но что будет так сильно взволнован, так рад,этого она никак не ожидала.
Ведь когда рядом с ним была Эстрид, беспокойная, терзаемая тщетными надеждами, он совсем не воспринимал ее состояние как что-то, относящееся к нему лично.
Или, может быть, как раз это и оставило в нем потом такой глубокий след? От самого себя скрываемый страх, что то была его собственная «вина»? Возможно, мужчина такой же чувствительный в этом вопросе, как и женщина…
Они опять зашагали к дому, обняв друг друга за талию, в одном темпе, в одном ритме – одним телом.
22. Мужчина и его демон
Весь день Давид ходил в каком-то возбуждении. Он не мог взглянуть на Люсьен Мари, ласково до нее не дотронувшись, или не спросив: ну как? Ты что-нибудь чувствуешь? Тебе не хочется отдохнуть?
В конце концов, защищаясь от него, ей пришлось сказать с улыбкой:
– Не будь несносным, Давид. Я совершенно такая же, как всегда, – и продолжала полоть свои грядки – эта работа ей особенно нравилась, потому что здесь она не чувствовала себя неуклюжей и не роняла вещи, когда забывала следить за своей левой рукой.
Вечером именно он из-за необычности положения не мог заснуть. Он долго лежал в ее привычном уже тепле – и слышал, как ее дыхание постепенно стало ровным, тихим, и она погрузилась в сон. Между грубыми рейками жалюзи яркая звезда просунула свой светлый нос. Северная звезда. Она светила ведь и над…
В его сознании рухнула, наконец, ледяная стена. Наконец-то он решился заглянуть в то пустое пространство, где жили тогда он и Эстрид.
Сколько тепла, сколько нежности может появиться между мужем и женой. Как надеялась Эстрид, что оно будет и у них с Давидом. Да и он тоже. Но никогда не обращался он с ней так, как с Люсьен Мари, не пытался ей помочь, освободить от скрытых в ней сил.
На мгновение он представил себе, до глубины души прочувствовал, что должна при этом ощущать всякая женщина – и Эстрид тоже – какое глухое отчаяние ее охватывало, если она была парализована своей неспособностью найти нужные слова, нужный тон, которые помогли бы ей пробиться к нему, к ее любимому.
Каким же слепым он был! Как не понимал ее горе! Почему? Ведь он же «любил» ее…
Вопросы жгли его, пока не разбудили воспоминания о том, юном Давиде. Да, он ведь и сейчас еще существовал в нем, тот Давид, он тоже тогда испытывал горе, только иного рода. Тот Давид чувствовал, как его связывают по рукам и ногам, как сужается перед ним горизонт, как ему душно от одного сознания того, что его лишают свободы, лишают возможности – устроить-свою-жизнь-так-как-ему-самому-пожелается – от тоски по внутреннему освобождению. По всему тому, что он называл словом «писать».
А Эстрид не могла понять, откуда у него в душе такой бунт. У нее тоже была своя пелена на глазах.
Но не ее была вина, что тогда он еще не созрел, что еще не был готов для совместной жизни. И не его тоже. Просто уж так все получилось.
Если бы она пришла к нему так же доверчиво, как Люсьен Мари, его ответ – его внутренний, честный ответ – в тот момент был бы другим. Наверное, он бы попытался вести себя более прилично, но чувствовал бы себя зато еще-более-зам-кнутым-еще-более-под-угрозой – перед всеми этими пеленками и детским криком.
А сейчас – ничего похожего на то, что было раньше.
Люсьен Мари и он оказались под воздействием одних и тех же сил, оба они поступали согласно и непосредственно перед тем, что с ними происходило, поступали, как две птицы во время высиживания птенцов.
Какая горестная судьба ожидает ту женщину, что исполнения желаний в жизни ожидает от отсталого в своем развитии мальчика, подумал Давид. От того, кто еще не чувствует желания создать свое собственное гнездо и детей. Пока ему не стукнет тридцать пять…
Он повернулся на другой бок, приподнял свое легкое одеяло, чтобы охладиться, глубоко вздохнул. Но сон к нему не шел.
Вместо этого ему привиделась сцена с двумя тенями, тени двигались, что-то делали, разговаривали. Это была Эстрид и он – нет, они изменились, и имена у них были теперь другие. Он знал их обоих, как свои пять пальцев, как свое сердце, но не мог предугадать заранее, что они будут делать дальше. Иногда они обменивались какими-то репликами, как будто кто записал их заранее. Неужели это он их произносил? Неужели это говорила она? Нет, все их слова были сказаны теперь. Но сказаны так печально, как будто люди, их произносившие, знали, что они все равно не поймут друг друга. Это было какое-то странное расщепление, – потому что в тот момент, когда его наполняла печаль этих сцен, сам он пылал от глубокого счастья, от божественной горячей радости наслаждения.
Его вдруг поразила мысль: в эту ночь, когда я люблю Люсьен Мари больше, чем когда-либо раньше, я лежу и думаю об Эстрид. Прямо как неверный муж.
Прошло несколько дней. Давид был нежен и заботлив, но молчалив. Он работал над эссе об испанской поэзии, о безымянных песнях, изливающихся из самых глубин души народа. Тех, что овладели Гарсией Лоркой и пели его устами.
– Ну что, не получается? – спросила Люсьен Мари, проходя через комнату и видя, что он сидит и качается на стуле, как школьник, когда весеннее солнце врывается в окно класса.
– Нет, никак, – вздохнул Давид и запустил пальцы в волосы. – Сдается мне, что получается какая-то несусветная кустарщина. И для чего я вообще этим занимаюсь?
На это она поостереглась ответить. Ей не хотелось также напоминать ему, что всего несколько недель назад он только и жил этой испанской лирикой, преследовал ее этой лирикой и на кухне, и в постели. К ее удовольствию. Именно из-за этой его увлеченности она не мыслила себе жизни с кем-нибудь другим.
Она прошла дальше и уселась под крышу из луба, устроенную ими между несколькими стволами, чтобы иметь местечко, куда не проникает зной. Рядом сидела Анжела Тереса и непоследовательно, без конца и без начала, без объяснений, рассказывала о прежних временах, еще более загадочных для них из-за трудностей с языком. Но именно поэтому ее рассказы приобретали магическое очарование народной песни и старых мозаик. Мозаик, наполовину занесенных песком, омываемых морскими приливами и отливами. Оставался только сам эпизод, исполненный чувства. Где, когда, как, кто в нем участвовал? Этого уже никто не мог объяснить. Рассказчица или умолкала, или повествовала дальше.
Люсьен Мари слушала и шила – насколько можно шить, когда ты не в состоянии как следует держать работу левой рукой.
Шумели кроны деревьев. Изгибаясь высокой дугой, все падала и падала струя источника, уже одно сверкание ее воды утоляло жажду и являло собой отраду для глаз.
Как все-таки удивительно. Эта легкая, переливчатая игра воды положила начало усадьбе и стала ее необходимым условием, условием ее существования.
На следующее утро Давид попросил себе пакет с бутербродами. Он решил немного побродить в горах, поразмять ноги. Вскоре он исчез между деревьями. Но через несколько сот метров появился опять, крошечной фигуркой на вершине ближайшего горного гребня. Несколько мгновений фигурка была еще видна сквозь трепетную солнечную дымку, уже подымавшуюся от горы, потом исчезла вновь. Но помахать Люсьен Мари сверху, как он это обычно делал, Давид забыл. Она поняла, по какой дороге он пошел. Они как-то уже бродили с ним там, в солнечном ветре, по узким тропинкам, между жимолостью и высохшими колючими растениями. Там, в горах, раскинулась вересковая пустошь, она тянулась до самого горизонта, где край скалы дикими уступами спускался прямо к морю. Само направление, в котором он пошел, вызвало в ней тревогу. В тот раз, когда она была с ним, они пробирались через сухой, исхлестанный ветром хвойный лес, и у самого обрыва увидели заброшенный жилой дом. Вид оттуда был величественный, внизу Средиземное море дробилось на многоцветные потоки и пенящиеся разломы. Им вдруг взбрело в голову, как в детстве, побежать к дому, шлепнуть ладонью по стене и закричать: чур, я первый!
Но потом…
Когда-то это, наверное, была маленькая нарядная дача. Теперь крыши не было, комнаты стояли голые под открытым небом. По выложенному узорами каменному полу в кухне шла по диагонали широкая густо заросшая травой и разными растениями трещина. Одна половина дома судорожно нависла над самым обрывом. Газовая плита, ошеломившая их газовая плита, выставляла напоказ свои витки из ржавых, перекрученных труб.
Невозможно было догадаться, кто были хозяева и что с ними произошло. Никакой мебели не осталось, кроме прикрепленной к стене дубовой скамьи. На ней и на выкрашенных масляной краской стенах виднелись нацарапанные кем-то имена – вероятно, молодежь забрела сюда как-нибудь в воскресенье, и птицы оставили на них отметины своим пометом. В углах скопились целые кучи хвои и мха.
Вид дома с другой стороны подтвердил их догадку о насилии и внезапном тяжелом убийстве. Розовая когда-то штукатурка на наружной стене была пробита и продырявлена выстрелами из винтовки. Или очередью из пулемета? Недалеко от этого места все ржавела и текла, ржавела и текла водосточная труба. Казалось, дом когда-то истек кровью. Следы от выстрелов и растекшееся ржаво-коричневое пятно разбудили у Люсьен Мари такие страшные воспоминания о войне, что Давид поспешил увести ее оттуда.
Ей не понравилось, что он пошел той дорогой. В самом солнечном сиянии там, наверху, ей вдруг почудилось что-то опасное.
Давида не было целый день. Он вернулся лишь к вечеру, когда уже начало смеркаться – усталый, проголодавшийся и такой обгоревший, что облез нос, но в глазах его еще сохранился блеск далекого счастья и отрешенности.
В душу Люсьен Мари мгновенно скользнула мысль, эхо от вопроса девушки с зелеными глазами: а когда же ты покажешь мне город? Эту мысль она отогнала, как недостойную, девушка ведь давным-давно уехала. Но вопросы рождались сами собой: где ты был? Что делал? Я-то боялась бог знает чего, в голову так и лезли бездонные пропасти и сломанные ноги…
Она произнесла вопрос, не подумав, как это обычно делают все жены – с ласковыми руками, со слезами во взоре и сердитыми нотками в голосе.
Давид сразу же незаметно замкнулся, ответил уклончиво и мало убедительно, что заблудился. Совсем забыл о времени.
Но Люсьен Мари взяла себя в руки. Все-таки она не молоденькая девочка-жена, а интеллигентная женщина, знала, за кого выходит замуж. По своей бесшабашной импульсивной манере она немедля дала задний ход.
– Ах, Давид, не обращай на меня внимания. Я была бы просто разочарована, если бы тебе время от времени не приходила мысль побродить по пустыне, видеть видения, слышать голоса и питаться диким медом и кузнечиками.
И этими словами сразу же вернула его себе. Улыбнувшись ей в ответ, он похлопал себя по впалому, голодному животу и заявил, что такая тощая диета его не устраивает.
Пока он смывал с себя под душем дневную пыль и пот, она накрыла на стол в саду. Была первая теплая летняя ночь в этом году, пламя свечей в двух подсвечниках на столе ровно и неподвижно поднималось вверх и образовывало маленький-маленький грот из света под мощным сводом темноты. Она знала – Давид любил, чтобы вся еда подавалась сразу, и поставила мясо, жаренную в жиру картошку Анунциаты и свежий салат из своего огорода.
– Да, это получше, чем кузнечики, – заявил он после небольшой паузы. Прислушался и добавил: – Лично мне они нравятся больше как музыканты.
И действительно, кузнечики давали свой оглушительный концерт. Звук был таким высоким, что долгое время его можно было совершенно не замечать – но как только вы обращали на него внимание, он оказывался пронзительно громким и звучным. Ему аккомпанировали древесные лягушки в пруду, во время своих неутомимых свадебных игрищ они испускали самые разнообразные трели и рулады.
Они вместе убрали со стола, потом уселись опять, с черным кофе. Давид тихо покачивался на стуле – теперь наступила запоздалая реакция после стольких часов ветра и солнца… и того, другого.
– Как нам хорошо, – сказал он и протянул через стол раскрытую руку. Она положила в нее свою, так они и остались сидеть. Говоря это, они не имели в виду только свое физическое самочувствие, хотя и оно играло определенную роль [14]14
Она посмотрела наверх, на кружевные узоры освещенных свечами ветвей на фоне черного неба, пронизанного звездным светом, и слегка поежилась в древнем страхе перед завистью богов.
[Закрыть]. Вот в чем полнота жизни… Подарите нам ее, те, кто наверху, не притесняйте нас…
Он думал: как легко мне дышать рядом с тобой, как жарко и быстро течет моя кровь по жилам, как все легко и просто. Как непохоже на чувства, вызванные отзвуками прошлого, что я испытывал сегодня днем там, у того дома – тихое, разъедающее душу ощущение растоптанной свободы, утерянных возможностей, какой-то сухости, и тоски, и стремления вырваться, и, наконец, приступы дикого голода. Но может кто понять, для чего я опять, снова и снова, должен там бродить, именно теперь?
И почему как раз острота этих переживаний оставляет после себя чувство очищения, какого-то почти постыдного освобождения?
Классическая задача всякого стихотворения. А как ты изумлен, когда она оказывается близкой к твоей жизни, так мало похожей на классическую.
Он сказал:
– Меня осенила идея…
– Да неужели? – спросила Люсьен Мари, и у нее весело заблестели глаза. – Интересно, как бы я могла этого не заметить.
– Я просто был вынужден побродить немного в одиночестве, чтобы она у меня приняла какие-то определенные очертания.
Еще пока он говорил, ему стало неприятно, зачем он сам коснулся тех своих переживаний. Стало страшно, что волшебная птица может вспорхнуть и улететь. Эстрид подобная таинственность всегда страшно сердила и раздражала. Придется ему, вероятно, учитывать ошибки прошлого.
– Это история о мужчине и женщине… об их браке…
– О нас с тобой?
У нее это вырвалось быстро, совершенно непроизвольно.
Давид помолчал, ошарашенный. Потом улыбнулся:
– О женщина! Если у тебя в доме писатель, так он обязательно должен быть трубадуром!
Люсьен Мари смутилась и поэтому сказала резко. Более резко, чем обычно:
– Потому что вы, писатели, смотрите на брак все равно как на сыр! Достаточно ли он выдержан? Пахнет ли? Достаточно ли в нем червячков? Чудно, тогда это лакомый кусочек для писательских уст, тогда мы можем его взять…
Давид даже не нашелся сразу, что ответить.
– Хорошо бы нам с тобой никогда не дойти до кондиции, угодной любителям такого сыра, – прибавила она, немного волнуясь.
– Аминь, – тихо произнес Давид.
Он поднялся, обошел вокруг стола, обнял ее сзади, поцеловал в порозовевшую шею.
– А как провели сегодняшний денек вы? – тихонько спросил он, не отнимая от нее своих рук.
Постепенно они наверно привыкнут, не будут относиться к этому, как к чему-то совершенно невероятному. Но пока еще для них обоих такое обращение как «вы» было ошеломляющим.
Они едва решались дышать, стали тихими, как окружавшие их деревья. Обе свечи совсем почти догорели, их крошечное пламя уже едва виднелось под колпачками. Вокруг спустилась интенсивная испанская ночь.
Они завели привычку купаться утром на самом дальнем пляже, прежде чем раскалится песок и целые сонмища туристов ринутся к морю.
Люсьен Мари и Давид шли мимо переполненных гостиниц, где люди, у которых гораздо больше денег, чем у них, сидели и грелись на солнце за своим утренним кофе или ранним стаканчиком вина. Но они бы не согласились обменяться с ними местами.








