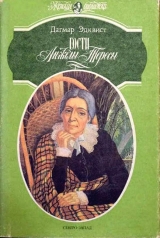
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
15. История I о всемирном менторе
Однажды он отправился к доктору Стенрусу посоветоваться.
Из Сахары подули теперь теплые ветры, горные склоны зазеленели. Подснежники, оказавшиеся совсем не подснежниками, окаймляли все тропинки. На крутых склонах в полном разгаре были весенние полевые работы: загорелые худощавые мужчины в грубых синих рубахах, с черным поясом вокруг талии, пахали на мулах. И как только может здесь что-нибудь расти, на этих покрытых тонким слоем земли полях, на этой красной каменистой почве, да еще когда наступает великий летний зной?
Доктор Стенрус был опять на ногах, еще более юркий и подвижный, чем раньше Они уселись в солнечном уголке сада – еще был март, еще можно было сказать: о чудесное солнце, о друг бедняка. В Испании оно вскоре становилось врагом бедняка.
Вышла госпожа Стенрус и принесла им кофе со свежими шведскими булочками. Но от беспокойства за Люсьен Мари Давид едва мог глотать.
Доктор Стенрус отговорил его от каких-либо спасательных экспедиций. Испанский доктор производил впечатление опытного врача, а лечение воспаления оболочки сухожилия требовало терпения и времени.
Только потом Давиду пришло в голову, что такой совет доктор дал ему в рассеянности и спешке, чтобы, видимо, как можно скорее перейти к тому, что занимало его гораздо больше.
Дага взяла поднос и ушла в дом.
Туре Стенрус этого даже не заметил.
– У меня тут появился один грандиозный проект, – сказал он и начал в волнении ходить взад и вперед по каменной дорожке шагами, слишком большими для его коротеньких ножек. Волосы у него еще больше вздыбились. – Грандиозный проект. От него может зависеть будущее всего человечества.
Теперь Давид действительно раскрыл глаза. Сказать такое вполне серьезно…
Доктор Стенрус был доволен произведенным эффектом.
– Ты думаешь, это бахвальство, – ухмыльнулся он. – Скоро я докажу тебе, что это не так… Мир вот-вот скатится в пропасть…
Несколько мгновений Давид сидел ошарашенный, его заворожили сами слова. «Мир» представился ему в виде бильярдного шара, готового вот-вот свалиться в пропасть. Но где была пропасть, если не в самом мире? И как может мир витать на краю пропасти, находящейся в нем самом?
– В международной мозговой элите нас всего несколько человек…
(Не ослышался я?)
– …мы планируем духовное маки. Думаем начать с радиопередатчика свободы – пиратской радиостанции в эфире, которую мы назовем «Голос разума». В простых словах она будет обращаться к народам и правительствам…
– На каком же языке?
– На нескольких. На всех великих языках мира. Она будет разоблачать закулисные махинации политических деятелей, объяснять истинные причины происходящих событий…
– А вы сами-то их знаете?
Туре Стенрус чопорно поджал губы, его лицо и без того густо-розовое, стало на один нюанс темнее.
– Мы не берем кого попало, – возразил он высокомерно. – Это я. Это один англичанин и один американец – один бывший министр, другой крупный промышленный деятель. Есть у нас и испанец – он, кстати, оказал правительству большую услугу во время войны. Я еще не имею права называть имена, но… те люди, о которых идет речь, знают, что говорят. Их ум и саму их личность можно выразить только такими словами, как «единственный в своем роде».
Последние слова окончательно повергли Давида в шоковое состояние. Он вспомнил, кто их любил употреблять.
– Мы будем вводить истинный либерализм. Будем разоблачать всю ту тайную власть черни, что скрывается за так называемой демократией нашего времени. Мы будем ратовать за право на личную свободу, так что она снова станет живой реальностью. В настоящее время она исчезает.
– Да, – сказал Давид задумчиво, – она исчезает.
– Ха, ты согласен?
– Я разрываюсь на части от размышлений, когда пытаюсь определить, что же такое свобода.
– Ну, об этом понятии ведь не может быть двух мнений, – снова жестко возразил Стенрус.
– Вот как? Как же ты его определяешь?
– Свобода, – провозгласил Стенрус, и глаза его за очками остро сверкнули, – означает условия, способствующие свободному росту личности. Можно, разумеется, насчитать четыре, пять свобод, которые тоже желательны, но главное, чтобы великую личность не придавливали и не стригли под одну гребенку с остальными.
Это верно, подумал Давид. Вокруг великих душ должно быть свободное пространство. Но как быть с теми, кто требует для себя привилегий гения, а под этими претензиями скрывает одну лишь свою жажду власти?
Он возразил:
– Но если некоторые личности действуют как раковые клетки в живом организме, разрушают и разъедают другие клетки, «свобода», по-вашему, должна гарантировать также и их свободный рост?
– Ты берешь исключительные случаи…
– Нет, – сказал Давид, – примитивный эгоизм человека безграничен. Тем или иным способом его нужно ограничивать, прежде чем человек будет годиться для жизни среди других людей.
– Ничего себе учение, – нахмурился Стенрус и подозрительно посмотрел на Давида. – Я-то думал, что ты из левых… А ты, оказывается, вероотступник?
– Ну что ты. Но я же был в прошлом юристом.
– Ага! Значит, ты придерживаешься всяких параграфов и предписаний, – обрадовался Стенрус, как будто разоблачая позорную болезнь.
– Смысл законов в защите человека от человека. Ты считаешь это излишним?
– Большинство законов людям не нужно, – заявил Стенрус. – Они означают внешнее принуждение, а принуждение вгоняет отдельного индивида в оппозицию.
– И что же ты предложил бы взамен?
– Просвещение и внутреннее убеждение.
– Но как же ты получишь это самое внутреннее убеждение без предписания закона? Ты что, веришь в «доброго дикаря»?
– Разумное воспитание, – начал было опять Стенрус, но, увидев устремленный в пространство взгляд собеседника, прервал себя.
– Ну что ты все сидишь и размышляешь?
– Размышляю, какой свободой мы должны пожертвовать, чтобы предотвратить свободный рост раковых клеток. Террора самых сильных эгоистов.
– Не можешь же ты бояться этого всерьез, – отрезал Стенрус, и, разгорячившись, опять начал вышагивать взад и вперед. – В конце концов это реакционно… Так говорят социалисты…
Он посмотрел на Давида с неприкрытой злобой, не мог понять, в чем тут дело.
Как будто трудно сделать себе идеал из своего стремления к беспощадной, неограниченной власти, подумал Давид.
И сказал горячо:
– Вероятно, нужно выбросить вон этот парадный лозунг с большим С, и тем надежнее защитить целый ряд более точно определяемых свобод: свободу мысли, свободу слова, свободу веры, свободу передвижения. И в особенности ту, что Спиноза называл «правом оставаться в своем существовании». Все то, что ежедневно попирается в этой стране…
– Здесь?! Да я знаю несколько человек из власть имущих, – неохотно сказал Стенрус, – и могу тебя заверить, что они как раз хотят дать народу больше свободы. Ты не слышал, что кардинал-архиепископ Севильи назвал генералиссимуса слишком либеральным?
– Да, ужасно трогательно, – язвительно сказал Давид. – Архиепископ натравливает своих конфирмирующихся ребят на еретиков, из чистого усердия те выбегают на улицу, бросают камни в маленькую группку евангелистов и бьют у них стекла в домах. Слухи – такая досада – доходят до Франко, который как раз сейчас хочет убедить Америку, что свобода веры здесь развивается вовсю. Он позволяет себе сделать кардиналу-архиепископу маленькое замечание. На что тот мечет громы и молнии и называет Франко опасным либералом…
Давид встал, гнев не давал ему сидеть на месте.
На заднем фоне мелькнула обеспокоенная Дага Стенрус. Туре улыбнулся, оскалив клыки, и сказал Давиду:
– Не накручивай себя, вредно для давления.
Это был запрещенный удар, но он возымел действие. Давид засмеялся, вскоре попрощался за руку с хозяевами и направился к выходу.
– Значит, ты полагаешь, надо оставить Люсьен Мари там? – спросил он в калитке.
– Подожди по крайней мере несколько деньков, – посоветовал доктор Стенрус.
Давид шагал и размышлял о странностях во взаимоотношениях между земляками. Разве мог он отрицать, что как Туре Стенрус, так и он сам терпеть не могут друг друга? Едва ли. Но в трудную минуту он бросился именно к нему, прося о помощи – и был почти уверен, что точно так же поступил бы и Стенрус.
– Он глуп? – спросила госпожа Дага, глядя на исчезающего вдали Давида.
– Нет, – скривился доктор Стенрус. – Он не глуп, он ограничен. У него нет понимания чрезвычайных обстоятельств.
16. Женщина с зелеными глазами
Теплый ветер из Сахары не унимался. Подниматься на гору к монастырской больнице стало жарко. Так жарко, что однажды Давид разыскал свои трусы, спустился на пляж и выкупался. Жители Соласа были поражены. Их пробивала дрожь при одном виде того, как он раздевается. А сами вы разве не купаетесь? – поинтересовался он. В июле, отвечали те.
Вода была холодная, как дома, в Швеции, в начале июня, только самолюбие заставило его броситься в кипящие волны; когда он вышел, кожа у него была красная, как у креветки. Теплые волны в марте придерживаются больше суши.
В следующий раз, вернувшись от Люсьен Мари, он отправился на дальний пляж, защищенный от взглядов мощными выступами скалы. Там он мог лежать и загорать, не ощущая комичной необходимости представлять потомка викингов.
Он лежал, вытянувшись, на спине, сквозь закрытые веки солнце виделось ему пурпурным. Пляж выглядел совершенно безлюдным, только вверху на тропе показался и исчез мальчик-рыбак. Песок был теплый на поверхности, но холодный внизу; полежишь немного, и холод проникает вверх. А, дядя Рубен, старый дружище, подумал он в дремоте и неторопливо, как змея, переполз к более теплому местечку. Вдруг он вскочил: его нагретая солнцем рука прикоснулась к чему-то обнаженно-прохладному, неподвижно-живому.
– Привет, – послышался голос Наэми Лагесон, как всегда упрямый и робкий одновременно.
Оказывается, она тихонько подошла по песку и села рядом, не произнеся ни звука. Была она в купальном костюме, свою одежду, видимо, оставила под рыбачьей лодкой. Солнечное тепло ее еще не согрело, и тело покрывала гусиная кожа.
– Привет, – отозвался Давид. И прибавил, – А, это ты. А я думал, что дотронулся до ящерицы.
Ее раскосые зеленые глаза сверкнули.
– А что если это змея? – усмехнулась она.
– Боюсь змей, – сказал Давид едко и уселся прямо, охватив руками колени. Не был больше беззащитным перед солнцем и ветром.
– Я видела, как ты вчера купался на том пляже. А я обычно купаюсь здесь.
Ее тело, ее бледная кожа уличали во лжи: эту кожу не кусали крутые соленые волны, ни часа не пригревало ее мартовское солнце.
Но он с ней больше не пререкался. Ее поведение было как всегда вызывающим, но ему противоречила хрупкость и какая-то невинность в самом строении тела. Ее ключицы, и плечи, и колени трогательно просили его не быть с нею жестким.
– Ну, как ты вообще? – спросил он.
– Спасибо, хорошо, – сказала она, отвернув лицо. Она знала, как надо себя вести, но что-то делало ее застенчивой и непокорной. – Как поживает твоя… супруга?
– Спасибо, – ответил Давид сухо. – Ей очень плохо. – Его губы изогнулись, выразив муку. Он здесь у моря, на солнце, а Люсьен Мари в горах, с тампонами в ране…
Наэми взглянула на него и отвернулась опять, и некоторое время молчала, не решалась высказаться. Ее прежнее «я» подало голос: нет, сейчас никак нельзя… Но фанатичное новое «я», не знающее удержу, сразу же возразило: почему же нельзя? Как раз теперь и можно: он один… и проголодался…
Давид ощутил ее мысли, как сигналы азбуки Морзе в своих нервах. Внезапно он схватил ее за щиколотку:
– Ах ты чертенок! Настоящий ученик дьявола! Когда же ты позволишь себе быть человечной?
– Я кажется достаточно человечна, – проворковала она и свернулась нежным комочком на песке, до конца используя его мимолетное прикосновение.
– Нет, ты не человечная. Но ты наверно станешь ею, когда тебя захватит что-то настоящее.
– Надеешься, что стану верующей? – спросила она, и ей удалось вложить в хорошо знакомое ей слово оттенок присущей ему независимости, отчужденности.
Он поднялся и встал над ней.
– Наверно, только одно это тебя и волнует, – покачал он головой. – Пока, я иду одеваться.
– А ты… не будешь купаться? – запинаясь, спросила она. И на глазах у нее выступили слезы гнева и унижения.
– Сегодня мне хочется побыть трусом, – вздохнул он. Но потом он решил, что холодный душ ему, пожалуй, не помешает. Повернулся на ходу и побежал прямо в волны прибоя. Они двигались на него с ревом, накрыли с головой, наполовину утопили, но потом все-таки оставили на берегу, задыхающегося и хватающего ртом воздух. Он стряхнул воду с глаз, с волос и медленно зашагал по песку обратно. Идти стало вдруг очень тяжело.
Когда он подошел ближе, она сказала, не глядя на него:
– Завтра я убываю.
– Снова в путь? – спросил он и почувствовал себя как-то странно.
– Да. Хенрик и его приятели устроились в Банюэле, пишут там свои картины.
– Помирились, значит.
Она пожала плечами, не ответила.
– Смотри, остерегайся впредь парней и мешков с кофе, – улыбнулся он. Но шуток она никогда не понимала.
Он протянул ей руку.
– Тогда до свидания, Наэми, желаю счастья.
Она не взяла его руку. Ее зубы были так крепко стиснуты, что обрисовывались высокие скулы и упрямые широкие челюсти.
Насмешки, колкости, грубости, тяжелая артиллерия моралистов – ничто ее не задевало, ничто не оскорбляло, – кроме одного: в конце концов, напоследок, неодержать победу как женщина. Одна только мысль билась, монотонно отдаваясь у нее в голове: даже сегодня вечером он не хочет… Она сидела смирно, но ей хотелось, чтобы в руке у нее был камень – камень, чтобы его убить.
Сопротивление – пожалуйста. Ради Бога – долгое, упорное сопротивление – но потом, внезапно, он должен быть побежден, и тем самым превращен в нападающего, жестокого, деспотичного нападающего, а она, уже в качестве победителя, станет плавать в блаженстве, в экстазе своей покорности.
– Ну, так пока, – повторил он и пошел к сараю, где лежала его одежда.
Она проползла несколько шагов и добралась до камня, стоя на коленях, бросила его в Давида. Но поскольку была девушкой, не попала, только песок завихрился у его ног.
Он обернулся, в изумлении посмотрел сначала на камень, потом на нее. Она сидела, сжавшись, съежившись, как будто только и ждала побоев, она просто уповала на побои.
Его кинуло в жар. Брошенный в него камень говорил о такой необузданности, что его самообладание выглядело уже странным. Рукоприкладство взывало к рукоприкладству.
Ну нет, такой язык он не признает. Если ей так хочется побоев и совокуплений, пускай выпрашивает у других. У пресловутого Хенрика, например.
Он двинулся дальше. Оделся, направился к городу. Сжавшаяся в комок фигурка так и осталась сидеть на песке.
Боже, как устроена жизнь. У человека, может быть, была идея – никогда никого не обижать, но как ни повернешься, все кого-нибудь да заденешь. То, что тебе кажется добротой, другой воспримет как жестокость. А грубая жадность может иногда обернуться чуткостью и сочувствием.
Давид посмотрел на берег, и внезапно он показался ему отвратительным. Красный песок, синее море, пенистый прибой – да, конечно. Но чего-то не хватает. Кажется, и раньше не хватало, чего-то существенного. Только чего?
Внезапно до него дошло: чаек. Чайки не кидались, голося, на отбросы с рыбачьих шхун, не прочерчивали на ветру прихотливых сверкающих узоров.
Красиво, как на открытке, даже как на картине, но не нравится мне такое бескрылое пространство, подумал он.
17. Ветер из Сахары
Оккупированная страна. Земля, где разыгрываются бои. Оборонительные силы, отступающие вначале, но потом изгоняющие оккупантов сперва из одного пункта, затем из всех других.
Сначала Люсьен Мари почувствовала себя лучше «сама». Потом начала поправляться рука, боли под мышкой прошли, опухоль опала, ночью она больше не лежала без сна.
Она почувствовала себя выздоравливающей.
А тем временем на испанскую землю продолжали дышать теплом ветры из Сахары.
– А я сегодня вставала, – сказала она однажды вместо приветствия, когда Давид вошел к ней, загоревший, с курткой, перекинутой через руку.
Жалюзи из деревянных реек раскачивались на ветру, пропуская рассеянный, не слепящий солнечный свет.
– Наконец-то! Значит, скоро будешь дома, – обрадовался он.
Дома! Где же это, интересно?
– Ну, это еще ничего не значит… – Она пошевелила своей перевязанной рукой. Маленькая аккуратная повязка, а не пакет с ватой, похожий на… Они помнили, их взгляды встретились. Люсьен Мари произнесла, прерывисто дыша:
– Давид… мне приснилось…
Он кивнул.
– Ты знаешь об этом? Я бредила, да?
– Да, – ответил он и провел ладонью по ее щеке.
Она спросила сдавленным голосом:
– А другие? Они не слышали? Не поняли они, что…
– Нет, как раз в тот момент я был там с тобой один.
Они помолчали немного. Потом она тихо сказала:
– Знаешь, это было реальнее, чем в жизни, мне показалось тогда, что незачем больше жить, лучше умереть, когда я увидела, что ошиблась.
Он вспомнил и то утро, когда она все плакала и ее сотрясала лихорадка. Он мог бы догадаться уже и тогда. Вспомнил, как она дрожала, как взволновалась, когда маленький Хосе пытался сосать ее голую руку.
Она продолжала, тем же напряженным, дрожащим голосом:
– Но самым удивительным было все-таки не это. А то, что я была я – но вместе с тем та, другая…
Он поднялся, сделал несколько шагов к окну, постоял, глядя на вечнозеленое дерево. Он уже знал, что за этим последует, знал еще до того, как она это произнесла, оборонялся заранее.
Она испугалась и замолчала. Но молчание ее было хуже, чем слова.
– Говори, – промолвил он, не оборачиваясь.
Она произнесла прерывистым шепотом, как под тяжестью вынужденной исповеди.
– Я была Эстрид. Я была она, когда у нее должен был родиться ребенок. Я думала: наконец-то, я так долго тебя ждала…
Он молчал, поэтому она продолжала шепотом:
– Откуда у меня это взялось? Ведь я ее даже не видела. И не знаю о ней ничего, так, только с твоих слов. И все-таки – я была ею. Как будто наследство получила от незнакомки.
Но ведь так оно в сущности и есть, подумал Давид. В этом отношении все они как-то сливаются вместе, все женщины до единой. Превращаются в одну космическую женщину, без всяких индивидуальных признаков. И такими тогда становятся для нас чужими…
– Давид, – сказала она, глядя на его спину. – Давид, я тебя мучаю? Иди сюда…
Когда он подошел и сел на край кровати, она положила ему руку сзади на шею, притянула его лицо к своему.
Ветер из Африки дул все сильнее.
Она больше не была больной, она была горячей, обновленной, в ней кипели силы вернувшегося к жизни человека.
Внутренний протест у Давида вспыхнул с новой силой – как только что, когда он стоял у окна, всем существом ощущая, как бьется у него сердце.
Вот лежит Эстрид, рассудительная, несчастливая, никогда не получавшая от него того, что просила. Поэтому она и оставила в нем такую боль, такой несглаживающийся шрам – рваный, болезненный: скупой благодетель, ускользающий должник.
А вот другая – зеленоглазая, колючая, не признающая никаких законов. Та, что бросила в него камень, раз не получила того, что хотела.
Теперь он должен отдать им свой долг…
И вот, наконец, она, его любимая, его Люсьен Мари, та, что зажгла в нем огонь, – но за ее лицом таились те два, другие.
Ветер из Африки шуршал в рейках жалюзи.
Она сумела разгадать его тайну – принимать любовь, даже если она приходит к ней со сжатыми кулаками и искаженным лицом, освобождать ее, преображать. До самых глубин существа делать его необузданным, гордым и свободным – а потом, в то мгновение, когда останавливается дыхание – счастливым до полного самозабвения. Тогда сотрясается земля, и тогда, как лава, тают границы его души.
Потом лава застывает и человек опять возвращается в свою постоянную форму – но у тела остается воспоминание о том, как это было, воспоминание о своем расплавленном состоянии.
Они ощущали глубочайшее отдохновение, они были далеко, далеко. Время, не измеряемое никем, длилось бесконечно. Возможно их оцепенение продолжалось не более, чем миг, нужный лепестку, чтобы оторваться от стебля и в медленном скользящем полете опуститься на каменные плитки дворика. А может быть, и все время, пока чья-то робкая рука перебирала регистр органа, разучивая хорал, едва доносившийся сюда из монастырской часовни по другую сторону двора.
В это время одна из монахинь, совершая обычный обход, решила зайти к Люсьен Мари. Она приоткрыла дверь, но тут же в ужасе ее захлопнула. Это была сестра Флорентина, рыхлая, в круглых очках, простая женщина, она испытывала великий страх перед всем, что запрещено монастырским уставом.
Придя в себя, она поспешила в покои аббатиссы. Она шагала так быстро, как только ей позволяли ее тяжелые башмаки и сковывающая тело одежда, и влетела в комнату аббатиссы, не дожидаясь, пока ее начальница скажет: «войдите»!
Настоятельница сидела за своим письменным столом и делала записи в журнал. Стол был роскошный, в стиле испанского ренессанса, он мог бы украсить любой дворец. Аббатисса сдвинула брови у нее была аристократическая неприязнь к легко возбуждающимся женщинам.
– Почему вы так пыхтите, сестра Флорентина? И входите, даже не постучав?
– О досточтимая матушка, – задыхаясь, произнесла сестра Флорентина, держась за свои вздымающиеся перси. – О досточтимая матушка…
– Что случилось?
Сестра Флорентина маленькими круглыми глазками впилась в свое духовное начальство и промолвила:
– Этот иностранец… этот господин лежит в постели французской дамы.
Настоятельница приподнялась со стула, кровь прилила к ее увядшим щекам, но потом медленно отлила обратно, точно так же, как она сама, постепенно овладев собой, спокойно и неторопливо опять опустилась на стул.
– Ну и что? – произнесла она. – Сейчас у нас сиеста. Дорога сюда, в горы, долгая и тяжелая. Без сомнения, этот господин, к тому же иностранец, почувствовал себя утомленным и прилег отдохнуть.
– Но досточтимая матушка! В постель к пациентке!
– У иностранцев вообще очень странные нравы, – сказала аббатисса сухо. – Кстати, они женаты.
Если она и обладала скепсисом умудренного жизнью человека, то сестре Флорентине она его не показала.
– Но что же нам делать? – недовольно пробурчала сестра Флорентина; сделанное ею сенсационное открытие у нее на глазах уходило в песок.
– Предоставь это мне, – кивнула аббатисса.
Когда сестра Флорентина с неуклюжим поклоном вознамерилась уйти восвояси, ее собеседница распорядилась:
– А вы, сестра, можете спокойно удалиться куда-нибудь в тихий уголок и трижды прочесть там Отче наш.
Настоятельница осталась сидеть, погрузившись в размышления. Вероятно, мысленно она сделала для себя небольшую пометку в календаре на своем роскошном письменном столе.
Слышали ли они, как закрылась дверь?
Скорее всего, нет. Орган, на котором монахиня разыгрывала свои упражнения, издавал множество самых разнообразных звуков. Но Давид вдруг заторопился.
– Галстук правильно завязан? – спросил он, потому что в комнате не было зеркала.
Классический час уныния и запоздалого раскаяния.
Хотя нет, здесь этого не было.
Он стоял над ней и улыбался, через него еще перекатывались волны возвышенной радости.
– Послушай-ка, а время не опасное?
Она посчитала на пальцах. Да, опасное. Оно всегда опасное. От внезапного страха она съежилась под своим одеялом. В этот момент она была истой француженкой, очень далекой от мыслей, когда-то одолевавших Эстрид.
– Поздно теперь раскаиваться, дорогая, – сказал Давид с сочувствием.
– Этого мы не знаем.
– Да, конечно. А сама-то ты знаешь?
– Нет… А когда мы сможем обвенчаться? – спросила она, даже не пытаясь выдать себя за героическую женщину.
– Как только…
Он умолк, так как вошла сестра и стала возиться с окном. Потом она удалилась, но появилась настоятельница собственной персоной и встала в ногах у Люсьен Мари. Она постояла немного молча, и эти секунды показались им обоим долгими, потому что они изо всех сил пытались выглядеть безмятежными.
– Меня радует, что болезнь прошла, и наступило такое быстрое и, я бы сказала, удивительное улучшение, – промолвила аббатисса, и Давиду послышались в ее тоне нотки иронии. – У нас больше нет причин задерживать здесь мадам.
Давид и Люсьен Мари обменялись взглядом, оба подумали: добились-таки. Исключат нас.
– Меня это тоже чрезвычайно радует, – произнес Давид, а сам подумал, что тон у него сейчас до смешного елейный, будто специально предназначенный для аббатиссы. – Но не стоит, пожалуй, делать слишком резкий переход – посмотрим, что завтра скажет доктор.
Это был тонкий шахматный ход – ла супериора как-то выпустила из виду врача. Но она мгновенно нашлась.
– Завтра мы узнаем, какой день доктор полагает наилучшим для выписки нашей пациентки.
Она сделала легкий поклон, как всегда держа руки в рукавах, бронзовое распятие на ее четках зазвенело, ударившись о железную спинку кровати. Выйдя, она оставила дверь в коридор приоткрытой.
Легко сказать – поехать домой. А куда? В Париж? Если бы только у нее хватило сил…
Люсьен Мари перебила его мысли:
– Давид, ты говорил с хозяйкой белого дома?
– Нет еще. С ней связаны трагические события…
И он рассказал об Анжеле Тересе и ее сыновьях.
– О, – только и могла произнести Люсьен Мари. Вся она как-то поникла и съежилась в своей постели.
– Я думал, может быть, ты не захочешь жить в тени таких страшных страданий.
Но тут она уселась в постели, и ее черные глаза заблестели.
– Бедняжка! Ее же еще и избегают, потому только, что ей пришлось пройти через весь этот ужас…
– Да, обычно люди так и делают.
– Но не ты и не я, – сказала Люсьен Мари.
– Мне кажется, нам обоим пришлось почувствовать, что несчастья все сторонятся, не правда ли? Мне уже нравится эта сеньора – как ее зовут?
– Сеньора Фелиу. Но все, по-моему, называют ее Анжела Тереса.
– Мне уже нравится Анжела Тереса. Мы поймем друг друга.
– Вот только… – замялся Давид, – о ней ходят разные слухи: что она очень странная, и даже недоступная. Боится людей.
– Еще бы, вполне понятно.
– И ты все же хочешь там жить?
– Больше, чем когда-нибудь.
Люсьен Мари опять опустилась на подушку, сказала мечтательно:
– У тебя нет такого чувства, что тот белый дом стоит и нас ожидает? И онанас ждет. Чтобы живые люди разорвали вокруг нее круг одиночества и холода.
– Это можешь сделать только ты, но не я, – сказал Давид.
– Ты же сделал это со мной, – произнесла она тихо.
– Ну что ты…
– А как ты думаешь, каково мне было в Сен-Фуа-де-Луп, пока не пришел ты? Заживо замурованная в той маленькой мертвой аптеке… Никто не обращал на меня внимания.
Он обхватил руками тоненькую фигурку в постели. И они сидели, прижавшись друг к другу, захваченные мессой своих воспоминаний, которую время от времени служат влюбленные в память о своем первом свидании.
Вдруг она вспомнила то, о чем часто думала по ночам. И прошептала:
– Видела аббатисса наши паспорта?
Насплетничать могут и документы.
Он прикрыл руками ее ухо и прошептал:
– Сержант Руис их караулит, пока мы их не потребуем.
Ему было приятно поймать ее удивленно-восхищенный взгляд: вот это мужчина, смог все так здорово устроить. Но потом в ее взгляде появилась усмешка, а в голосе некоторая настороженность:
– А что поделывает твоя ученица Фауста?
– Она не моя, – буркнул Давид с легким раздражением. – И потом она уже уехала.
Люсьен Мари опустила глаза, чтобы засветившаяся в них радость не рассердила его еще больше. Такая смена настроений была ее отличительной чертой, и они отражались не только в ее лице, но и во всех линиях еще раз.
– Что ты сказала? – спросил он, хотя она не произнесла ни звука.
Она поманила его пальцем, потом, на ухо, прошептала боязливо:
– Следует ли нам раскаиваться в том, что произошло сегодня?
– Почему это мы должны раскаиваться?
Она пробормотала что-то о монастырском уставе и нарушении доверия.
Давид, как истый протестант, возмутился:
– Доверие? Ты заболела и попала в больницу. Ты не давала никаких обетов. Их устав – не наш устав.
Она с облегчением вздохнула, когда он облек все в ясные, простые слова – потому что ведь точно так думала и она сама.
Дело было лишь в том, что иногда ей приходили в голову мысли, взаимно исключающие друг друга, и она с чувством глубокой безнадежности бросалась из одной крайности в другую до тех пор, пока кто-нибудь из тех, кому она больше всех доверяла, не выносил окончательного решения.
Давид сам часто мучился разнообразными сомнениями, но, к своему удивлению, теперь играл роль человека, принимающего решения и выносящего безапелляционные суждения.
Никто раньше не требовал от него чего-либо подобного. Младший брат, слишком юный супруг…
У него появилось ощущение, будто все высокие деревья в лесу вокруг него оказались вдруг сваленными ветром, он стоял совершенно беззащитный под высоким небом. Но рядом с ним находился кто-то другой, едва достигавший ему до плеча…
Это было сладостное чувство.
Из монастыря Давид спустился другой дорогой, через рощу пробковых дубов Педро Фелиу. Стволы их были наполовину ободраны и черны, как будто их обожгло огнем.
Старая собака подошла к нему и близоруко обнюхала его брюки. Она задрожала от удовольствия, когда Давид почесал ей за ушами.
Дом Анжелы Тересы стоял там, где начиналось все великолепие долины. На этот раз Давид подошел к нему с задней стороны, по заросшей тропинке между какими-то одичавшими зарослями, кустами и бамбуковыми рощицами, в два раза выше человеческого роста.
Зазвенел колокольчик, и из дома вышла Анунциата с кринкой в руке. Она остановилась, поставила кринку и засеменила ему навстречу, восклицая хриплым басом, как многие старые женщины в Соласе:
– А, это вы! А я уж решила, что вы передумали и уехали.
Она вытерла пальцы о передник, и они поздоровались за руку. В самом ее приветствии было больше тепла, чем в словах. Давид подумал с удивлением: Люсьен Мари права, они нас и в самом деле ждут.
Анунциата продолжала:
– Как-то вечером приходил Мартинес Жорди и говорил с Анжелой Тересой. Уже давненько теперь пожалуй.
Значит, Жорди поборол все-таки свое сопротивление и навестил старых друзей.
– Жена моя заболела, вот в чем дело, – вздохнул Давид. – Она еще лежит там, в горах, у монахинь в больнице.
– У las monjas [11]11
las monjas – (фр.)монахини.
[Закрыть]? – спросила Анунциата и почему-то рассмеялась. Это было лишь хриплое эхо того смеха, которым она смеялась в молодости. Когда-то он наверно напоминал нежную птичью песенку.
– Ваша госпожа может меня принять? – спросил он.
– Она не совсем подготовлена, – пробормотала Анунциата нерешительно.
Давид прожил в Испании достаточно долго, чтобы понять все хлопоты, связанные с приходом в дом гостя и со встречей с женщиной, безразлично, с молодой или старой, которая не была подготовлена.








