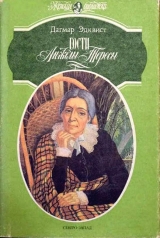
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
А может быть, я его просто романтизирую? – хмуро подумал Давид.
Ясное утро перешло в холодное серое ненастье, пошел мелкий ледяной декабрьский дождь. Где-то сейчас скрывается Жорди? – подумал Давид и ему стало зябко от сочувствия, когда он увидел, как хребты гор теряют свои контуры в расплывающейся сырой хмари.
Шесть-восемь часов, сказала монахиня. Прошло только два. Но не имело смысла тащиться домой по дождю, все равно работать он не сможет. Кстати, и жандармы там наверно все еще рыщут. Так им и надо, продолжайте и дальше в таком же духе.
Он вернулся в кабачок Мигеля, со стыдом сознавая, что ужасно проголодался. Но уселся не в комнате, предназначенной для туристов, а у рыбаков перед пышущим жаром очагом. Их было мало сегодня, не слышалось обычного уютного хлопанья от бросаемых с размаху карт. Мигель расхаживал вокруг с угрюмым видом, ему были не по душе события, мешавшие коммерции. Зато Давид избежал вопросов о жене, что уже было для него облегчением.
Ему пришло в голову: а разрешается ли роженице пить и есть, и если разрешается, так покормят ли ее там? Он представил себе, что ей сейчас хочется пить, и это была мучительная мысль.
Когда прошло четыре часа, он сидел, держась руками за скамейку, чтобы удержать себя на месте, а когда прошло пять, подумал вдруг, что монахиня ошиблась и он уже опоздал, и так заторопился, что едва успел расплатиться.
Но мысль о том, что ей хочется пить, не давала ему покоя, и по дороге он купил гроздь винограда.
Уже от сестры-привратницы он услышал: сеньор, еще рано, ничего еще нет. То же самое сообщили ему и монахини в самом монастыре. Ему хотелось навестить ее, но его не пустили. Тогда он написал записку – любовное письмо на бумаге от пакета – и попросил передать ей вместе с виноградом. Монахини заколебались, но поскольку подобный случай не был предусмотрен уставом их монастыря, сделали, как он просил.
Через некоторое время одна из сестер высунула из двери голову:
– Она просит сказать, что виноград придал ей новые силы.
Давид вздохнул с облегчением и улыбнулся, как будто выполнил трудную задачу.
У монахинь не хватило духу выгнать его на дождь, и ему было разрешено посидеть в приемной, где они поддерживали небольшой огонь.
Наступил вечер, и все еще ничего не произошло. Время от времени он выходил в коридор и прислушивался; конечно, со всех сторон к нему неслись разнообразные звуки и голоса, но Люсьен Мари он среди них различить не мог.
– Она страдает? – спросил он одну сестру, вышедшую из ее палаты, это была та толстая, с круглыми очками.
– Да, конечно, – ответила сестра Флорентина. – Но в Священном писании сказано: в муках будешь рожать детей своих…
Хорошо тебе так говорить, и мина у тебя благочестивая, довольная, тебе-то никогда не приходится рисковать, – подумал Давид, и у него появилось такое чувство, что он во что бы то ни стало должен прорваться к Люсьен Мари, как-нибудь ей помочь.
Фантастические видения у него становились все более несуразными. Зря она сюда приехала, думал он. Концентрированная девственность всего этого заведения накладывается на нее и мешает ей рожать. Сам воздух здесь оказывает сопротивление.
Незаметно его мысли перенеслись от Люсьен Мари к ребенку. Ах ты, малышка, с нежностью думал он, от тебя сейчас тоже требуется немало усилий. Никто тебя не просит, и все равно – ты работаешь в слепом желании появиться на свет.
Он задумался над мистерией рождения. Интересно, правда ли, как говорят психологи, что рождение есть первое большое потрясение, первый страх, или это только тема для научной статьи?
Темно и тесно, душно. Самое раннее впечатление от жизни – это смертельная борьба за нее, первое железное объятие бытия, которое так потом никогда по-настоящему и не разжимается.
И это после райского периода в бессознательном состоянии. Морской анемон в теплом ночном море, лишь изредка освещаемом мерцающим розовым светом.
Ему снились морские анемоны. Ему снились морские чудища с мощными когтями.
Он проснулся оттого, что монахиня трясла его за плечо.
– Все, кончилось, – сообщила она. – Все благополучно.
Он вскочил, пристыженно коря себя за предательство. Оказался не в состоянии прободрствовать одну-единственную ночь.
– Девочка?
– Мальчик.
Жаль. Здесь, в Испании так много красивых имен для девочки.
– Его пришлось тащить щипцами? – ужаснулся он.
Она была ошарашена.
– Нет. Мы послали за доктором, и он уже собрался идти, но… потом все обошлось.
– А Люсьен Мари?
– Можете навестить ее через несколько минут. Хотите посмотреть вашего сына?
Давид последовал за нею с ясным ощущением нереальности происходящего.
Женщина в белом халате и без монашеского головного убора подошла к нему с каким-то белым свертком. Крошечное старообразное существо с мокрыми черными волосами и сморщенным личиком. Сердится и кричит.
Боже милостивый, подумал Давид. Конечно, я не красавец, но неужели же обязательно, чтобы он-то был таким безобразным?
– Смотрите, как ребенок хорошо сложен.
Давид сказал, запинаясь:
– Но голова… Она такая странная.
– Это иногда случается при родах. Ничего, потом пройдет.
Люсьен Мари дали ее прежнюю палату.
Он вступил в нее с трепетом.
Но попробуй, разберись в женщинах!
Он ожидал увидеть ее измочаленной, истерзанной, такой измученной, что голову не смогла бы поднять с подушки – а она, оказывается, сияет. Увидев выражение ее лица, он понял значение слов «освободившаяся от бремени». Минуту они молчали, переполненные чувствами. Потом она спросила:
– Ты его видел?
– Да, – сказал Давид, и, чтобы избавить ее от шока, добавил: – Придется тебе приготовиться к тому, что он больше похож на меня. – И не понял, почему эта фраза зажгла такое веселье в глазах Люсьен Мари. Она промолвила сдавленным голосом:
– Не смеши, а то мне ужасно больно… Конечно, он похож на тебя!
Вошла няня с ребенком, завернутым, как все грудные дети. Люсьен Мари протянула к нему руки, и на лице ее отразилось блаженство: можно было подумать, что более красивого ребенка она в жизни не видела.
Она лежала, поглаживая одним пальцем черные волосики, целовала крошечные трепыхающиеся ручки, не могла вдоволь налюбоваться на такое чудо.
– Возьми его, – предложила она. – Подержи немножко.
– Я? – удивился Давид.
– Ну конечно. Тебе ведь, наверно, надо ему представиться.
Давид со страхом, непривычными руками, взялся за маленькое тельце, поднял его, прижал к себе. Выглядело все это очень неловко, и монахиня-няня хотела вмешаться, но Люсьен Мари сделала предостерегающий знак за спиной Давида.
– Такой маленький комочек, а какой тяжелый, – сказал он уважительно, он ожидал веса целлулоидной куклы.
– Три с половиной килограмма, – подтвердила монахиня.
Давид взялся поудобнее, чтобы увидеть малютку в лицо. Отошел к окну и повернулся к женщинам спиной.
– Привет, малыш, – сказал он своему сыну очень тихо, по-шведски. – Добро пожаловать.
– Теперь им нужно отдохнуть, – сказала сестра и подошла, чтобы взять у него ребенка.
Мальчик залился криком.
– А у меня не плакал, – подумал Давид с удовлетворением и почувствовал себя избранным и признанным.
30. Беззвездная ночь в декабре…
Берег был окутан влажной черной пеленой с туманным отсветом от города снизу, когда он шел по шоссе, длинным обходным путем. В такой тьме прямую дорогу не найдешь.
Тьма? Всего лишь серый туман по сравнению с чернотой туннеля под апельсиновыми деревьями. Здесь он пробирался между стволами деревьев ощупью, шаг за шагом.
Внезапно какое-то неведомое чувство подсказало ему, что вблизи есть люди.
– Есть здесь кто? – спросил он вполголоса.
В то же мгновение свет от фонарика ударил ему прямо в лицо. Сноп света был резкий, как взрыв, ослепленный, он выпрыгнул прочь из светового шара. Его остановил грубый окрик, дуло карабина ткнулось в световой круг и прокричало ему свое круглое О.
Давид поднял руки вверх, он увидел рукав мундира и отблеск света на черной каске.
Их, как всегда, было двое.
Не он, сказали они друг другу. Это не Жорди, это иностранец.
Давид обрадовался. Значит, Жорди по-прежнему на свободе. Он бежал, возможно, он уже во Франции.
Когда свет фонарика переместился, он увидел их красные от холода носы и подумал: вот бедолаги, стоять на посту в такую ночь. Ему хотелось сказать: плюньте вы на все, ребята, пошли, опрокинем стаканчик за моего сынишку.
Но дуло карабина умерило его благожелательность ко всему свету.
– Что это вы здесь караулите? – поинтересовался Давид. – Ведь вы же сами видели: Жорди здесь нет.
– А вдруг он придет? И потом, кто-нибудь может прийти его навестить, – сказали они многозначительно. – Где вы были так поздно?
Нет, в таких крестных он не нуждается.
– Моя жена только что родила, это наш первенец. И она еще в больнице. Спросите ваше начальство, он ехал с нами в машине до самой монастырской больницы, – объяснил Давид.
Тогда они что-то проворчали – может быть, даже поздравили – и пропустили его.
Дом был тоже погружен во тьму, не виднелось ни полоски света. Конечно – обе старушки спали. Эх, хорошо бы ему удалось их не разбудить… Ключ… ах да, верно, он у него с собой, в кармане куртки.
Он повернул ключ так бесшумно, как только мог, но замок тихонько скрипнул, дверная пружина тоже. К его удивлению, в доме совсем не было темно. В холле горела лампа, но снаружи ее свет совершенно не был виден. Он посмотрел на окно. На окне висела штора, как во время затемнения, несмотря на закрытые ставни.
– Заприте, – послышался голос Анунциаты.
Он механически послушался и круто обернулся. Вот же они стоят – прямо за дверью в кухне, их глаза блестят в полумраке. Как странно – они полностью одеты и стоят так, как будто за ним следят…
– Это только он, – произнесла Анжела Тереса вполголоса.
Только он?
– Как мило с вашей стороны, что вы не спите и ждете… – начал было он. – Мальчик. Оба хорошо себя чу…
Дальше сказать он не успел, потому что кто-то еще оказался рядом с обеими женщинами. Не важно, что освещение слабое…
– Пако! – ахнул он и застыл от нахлынувших на него противоположных чувств. Облегчения, что его друг на свободе. Страха, что он именно здесь, у него дома, ощущения, что его самого засасывает водоворот событий… – Ты здесь? Когда кругом выставлены посты, везде полно жандармов!
– Мы знаем, – сказала Анжела Тереса.
Давида почти затошнило от мысли о только что высказанном им тщеславном предположении.
– Пойдем наверх, поговорим, – сказал он. Теперь он понял, для чего была нужна штора – у него тоже появилось ощущение, что у замочной скважины и у щелей есть глаза.
Обе старые женщины пошли к себе, с явным облегчением перекладывая всю ответственность на мужчину.
Давид начал медленно подниматься по лестнице. Он так устал, что шатался, но сон как рукой сняло.
Жорди шел сзади. Видно было, что он спал в костюме, что давно не брился, щеку пересекал красный рубец, как от удара хлыстом. Позже Давид узнал, что это пуля прошла так близко. Жандармы стреляли в темноту, наугад, когда он бежал.
Он еще не произнес: пи слова. Был просто телом, находящимся там, где ему быть не следовало, душой, спрятавшейся за беспокойными, воспаленными от усталости глазами.
Он подождал на лестнице, пока Давид на виду у жандармов подошел к окнам и опустил жалюзи. Когда Давид повернулся, то Жорди стоял там с дрожащими от напряжения мускулами, ежесекундно готовый к побегу. Побегу, заранее обреченному на неудачу.
Давид пошел к нему навстречу.
– Здравствуй, – сказал он и взял его за плечо. – Садись. Рассказывай. Как ты сюда попал?
Он находился здесь еще с той самой ночи.
– Что? – воскликнул Давид и выпрямился на стуле. – Ты был здесь, когда тебя разыскивали жандармы? Это невозможно.
Нет, возможно. Он пришел сюда на рассвете. Кто-то, наверно, видел его на дороге, раз жандармы искали его так упорно именно здесь. Анунциата его впустила, а Анжела Тереса спрятала в потайном месте, которое когда-то Эстебан приготовил для себя, но не смог им воспользоваться.
– Где же это?
– В полу под кроватью Анжелы Тересы есть лаз. А внизу, в земле, выкопана небольшая яма, нора.
У Давида перехватило дыхание, когда он вспомнил, как лейтенант шарил там стволом своего карабина. А Анжела Тереса казалась тогда такой старой, такой отсутствующей… И откуда только у нее взялись силы так убедительно сыграть свою роль?
Хотя, по всей видимости, она даже не играла. Сознание у нее раздвоенное; есть поверхностный слой, где она кажется вялой, неподвижной старухой, но Пако и Люсьен Мари удавалось из-под наслоившихся лет извлекать живую, темпераментную женщину. Поэтому в минуту тяжелой депрессии для нее, возможно, не составляло особенного труда найти себе убежище именно в своей немощной оболочке и даже преувеличить ее. Найти защиту в своей дряхлости.
Жорди подошел к столу, налил стакан воды и жадно выпил.
– Сначала бежишь вслепую, как зверь, к месту, где ты можешь найти себе укрытие. Но потом у меня было время подумать. Тебе никак нельзя быть замешанным.
– Я уже замешан, – хмуро сказал Давид.
– Нет. Ты ничего не знал – и тебе не нужно ничего знать. Скоро я отсюда уйду.
– А жандармы?
– Я могу проскользнуть мимо них незаметно. С этой стороны они меня никак не ожидают.
– А потом?
Жорди провел ладонью по отросшей щетине на щеках, произнес устало:
– Раньше или позже, какая разница. Все равно схватят, Я все себя спрашиваю, зачем мучаю себя и других, зачем сопротивляюсь?
Он выпил еще глоток и добавил:
– Но человек всегда сопротивляется. Пока есть силы.
– А как ты влип в эту историю с контрабандистами? – вырвалось у Давида.
Жорди вздрогнул, к его щекам прилила кровь.
– Как бы я тебе ни объяснял, тебе этого не понять. Ты слишком обеспечен, – с горечью сказал Жорди.
– Но не так глуп, чтобы не понять то, что мне объясняют. Тебе были нужны деньги?
– Да. Тысячу песет, Давид. В твоей валюте это гроши. Цена одного костюма.
Давид молча на него уставился.
– Деньги, – промолвил Жорди. – Ты настолько наивен, что можешь позволить себе говорить о них легкомысленно. Я тоже был таким. Ведь у нас в Испании считается даже не совсем приличным касаться их в разговоре. О деньгах мы упоминаем, как в светском обществе о функциях кишечника и об уборной: нечто необходимое, чем занимаются вдали от посторонних глаз. Деньги… Исходят из того, что они у тебя есть. Но в один прекрасный момент оказывается, что они нужны для самых насущных потребностей – а их у тебя нет. И что же тогда прикажешь делать?
– Ты сам испанец, – сказал Давид. – Мы догадывались, что ты в затруднительном положении и хотели… Но ты и заикнуться нам не давал о деньгах.
– Не ругай меня за это, по крайней мере, – сказал Жорди.
– Вот ведь в чем загадка. Ты считаешь себя слишком хорошим, чтобы взять в долг – а чтобы заниматься контрабандой?..
– Долг я не мог бы отдать, и я не какой-нибудь нищий!
Ах, эта запальчивая гордость, «я не какой-нибудь нищий!» Но почему же тогда не сказать: «Я не какой-нибудь контрабандист»? Жорди, должно быть, догадывался о подобном возражении, потому что вскинул голову, как конь, когда ему досаждают мухи, и сказал сдавленным голосом:
– Что дальше спорить? Я ведь тебя не прошу о помощи.
Когда Давид хотел его перебить, он поспешно продолжал:
– У тебя жена – и ребенок… Вполне понятно, что ты не хочешь иметь со мной дела. Я ухожу.
– Спокойно, Пако, – произнес Давид и, взяв его за плечи, прижал к стулу. – Люсьен Мари будет верна своим друзьям до самой смерти, я не могу быть хуже ее. Обе старые женщины, там, внизу, тоже, они не слишком задумываются о том, что ты делаешь, для них Пако просто всегда Пако. Нет, действительно, только я – бывший юрист Давид Стокмар – должен был бы понять, почему такой честный человек, как ты, мог выбрать незаконный способ добывания денег, хотя имелся и другой выход.
Жорди все же поднялся и стоял за стулом, как обвиняемый у скамьи подсудимых.
– Ты живешь в свободной стране, ты не понимаешь состояния негласной войны между нашим правительством и такими, как я. Из года в год, из года в год они к нам цепляются и прижимают, как могут. А потом нам становится невмоготу, и тогда начинаем давить мы.
– Это я понимаю.
– Тысяча песет! – произнес Жорди язвительно, зло, и стал нервно шагать взад и вперед. – Они украли у меня будущее. Они препятствуют малейшей моей попытке заработать хоть немного денег, чтобы можно было свести концы с концами. Если бы ты знал, с каким наслаждением я бы надул их проклятых таможенников на тысячу песет… Но побеждают, как всегда, они. Они побеждают в каждом заходе.
– Нет, Пако, – покачал головой Давид. – Мы еще не видели последнего захода.
Жорди взглянул на него, немного подозрительно, уловив изменение в его тоне.
– Прости, что я заставил тебя произнести целую речь в свою защиту, – сказал Давид. – Ты выиграл процесс.
Он подразумевал при этом, что готов ему помочь.
Как будто он не сделал бы этого и так!
Да, разумеется, но сделал бы по принуждению и неохотно, сердце его не участвовало бы. Мысленным взором он видел перед собой заголовок статьи: «Известный писатель замешан в историю с контрабандистами», и он бы страшно терзался.
Смешно так дотошно добиваться определения своих поступков?
Нет. У него такое же право быть чувствительным к нарушению закона, как у Жорди к нищенству. Зато теперь он мог, слава тебе боже, спокойно перенести любые заголовки, какими бы они ни оказались.
– Садись, и давай решать, что делать, – сказал он, протянув Жорди сигарету.
Жорди посмотрел на пачку – и улыбнулся. Американские. Прошел по комнате и поднял банку с кофе, стоявшую рядом с кофеваркой, потом поставил ее обратно, ничего не сказав.
– Они были в свободной продаже, я купил их в бакалейной лавочке здесь, в городе, – пояснил Давид.
– Конечно, – согласился Жорди. – Тем не менее это контрабанда. Тем не менее кто-то рисковал жизнью – или по меньшей мере тюремным заключением – чтобы вы могли их купить.
– Господи, и сам я обыватель, – произнес Давид по-шведски. Законопослушание, проявленное им только что, встало у него поперек горла, когда в ослепительном свете одного мгновения он увидел все предписания и параграфы, опутывающие простого человека и нарушающего великие, простые и важные законы человеческого общежития. Он спросил с вызовом:
– Выпьешь чашечку контрабандного кофе?
– Да, с удовольствием, – согласился Жорди.
Давид поставил кастрюльку с водой на спиртовку, осмотрелся кругом.
– Как ты думаешь, где у Люсьен Мари печенье?
Между ними опять установились простые, дружеские отношения. И оба почувствовали, как им не хватает Люсьен Мари.
– Как она… Как они? – деликатно спросил Жорди.
– Надеюсь и верю, что хорошо. Она передает тебе привет.
Они размешали в чашках кофе и стали пить. Давид отставил в сторону чашку, посмотрел на свои ладони, взвесил их в воздухе.
– Я его подержал, – похвастался он. – Настоящий маленький живой человечек. Тяжелый, ты не поверишь. Почти что четыре килограмма. Просто непостижимо, верно?
Жорди смотрел на Давида, улыбнулся слегка. Давид Стокмар в качестве гордого отца; да, довольно-таки непривычное зрелище.
В следующее мгновение выражение его лица изменилось, он весь напрягся, как струна, стал прислушиваться так напряженно, что на лбу вздулась жила: может быть, там чьи-то шаги? Или просто ветка задела за стекло? А что, если в следующую секунду они услышат зловещие удары в дверь?
Давид взглянул на него, и внезапно ему передалось от Жорди страшное чувство незащищенности, нависшей опасности. Как будто он завернул за угол и был встречен бурным натиском ветра. Его охватило то же нервное напряжение, он так же стал прислушиваться к звукам за дверью, к шороху за окнами – но потом взял себя в руки и сказал:
– Сегодня ночью они не придут, а то уж зашли бы вместе со мной. А поскольку я абсолютно ничего не знал, то говорил убедительно, и они мне поверили.
– Я тоже не думаю, что они явятся сегодня ночью, – глухо сказал Жорди, – но что будет потом – никто не знает.
– Во всяком случае нам надо поспать. Хочешь лечь здесь наверху? Ведь все комнаты свободны.
– Нет, лучше я буду в спальне у Анжелы Тересы, на полу. Около своей крысиной норы…
Но они сидели еще целый час и строили планы.
31. «Что-то случится со мной… Печальное мое сердце, Что мне нагадаешь?..»
Утро.
– Спрячься, – вполголоса сказал Давид.
Жорди заполз в свою черную нору.
Давид осторожно закрыл крышку, подвинул на нее кровать.
Они распахнули настежь окна и двери, разговаривали, носили дрова, подзывали свистом старую собаку.
Так должен выглядеть дом, в который каждый может заглянуть, если пожелает.
Они были актерами, только играли, не зная, есть ли у них зрители, потому что сейчас жандармов не было видно.
– Вы не хотите сходить в город, сеньор Стокмар? Надо тут кое-что купить, а у меня сегодня, как на грех, много дела! – прокричала снизу Анунциата.
Давид взял сетку и отправился за покупками. На базаре он купил овощи. Потом пошел за рыбой к некоему Антонио. Антонио был для него важнее, чем рыба. Но его нигде не было. Ни среди отдыхающих на пляже. Ни в баре Мигеля.
Когда люди многозначительно ему подмигивали и улыбались, и говорили: ну как, можно поздравить? то Давид всякий раз должен был брать себя в руки, чтобы не показать, насколько далеки его мысли от жены и сына.
Искушенные в таких делах отцы семейства воспринимали это как горделивую застенчивость новоиспеченного отца, смеялись и хлопали его по плечу, а Мигель так даже угостил всех присутствующих своей мансанильей.
В Соласе семейные новости распространяются с телепатической быстротой.
Давид охотно повторял, каким тяжелым был мальчик и как хорошо выглядела Люсьен Мари, но самое плохое было то, что он не мог спросить об Антонио. Жорди особенно настаивал, чтобы он никого о нем не спрашивал.
Ему ничего не оставалось делать, как идти домой и ждать следующего дня.
На мосту он мог опять вспомнить «другую сторону»,ту, светлую, где не было места страху. Даже вернулся обратно и купил цветы. Однако и эта сторона оказалась не так уж начисто лишенной страха, обнаружил он, когда поднялся к монастырю и подарил по розе каждой монахине, повстречавшейся ему по дороге. Теперь он любил их от всего сердца – за то, что они дали пристанище Люсьен Мари и малышу, и ему хотелось попросить прощения за то, что он так плохо о них думал. Он ожидал увидеть идиллию с мадонной и младенцем, как прошлой ночью, нежную и кроткую в мягком свете декабрьского солнца; но у Люсьен Мари поднялась температура и она беспокоилась, что малыш не хотел брать грудь.
Сестра отвела в сторону Давида и сказала, успокаивая его:
– Знаете, вечно ведь все матери взвинчивают себя понапрасну, когда у них первый ребенок. Ну, а потом-то, конечно, начинают относиться ко всему поспокойнее.
Давид сидел у постели Люсьен Мари и держал ее руку, но был молчалив.
Он собирался рассказать ей, как странно все получилось с Жорди, но если она уже и без того взвинчена и у нее температура, то решил, что не стоит расстраивать ее еще больше.
Она сразу же спросила, не поймали ли Пако – и обрадовалась, услышав его односложное «нет».
Все ее интересы были теперь настолько тесно связаны с ребенком, что она едва была в состоянии вспомнить о ком-нибудь другом.
– Как же мы его назовем, Давид? Мы ведь с тобой придумывали имена только для девочки, а не для мальчика.
– А ты как думаешь? – спросил он ревниво, а сам с неудовольствием подумал: опять она, конечно, скажет «Морис»…
– Мне кажется, у него должно быть шведское имя, – задумчиво сказала Люсьен Мари, и Давид устыдился своих опасений.
После долгих споров и размышлений они решили пока назвать его Пером. Пер Стокмар.
Конечно, все это было важно и необходимо, но Давид сидел, как на иголках, ему не терпелось узнать, что делается дома, у Анжелы Тересы.
В конце концов Люсьен Мари попросила его отправить телеграмму о событии в ее семье.
Ну, конечно, так обычно и делают. Как это он сам не догадался? Просто забыл. Надо бы уж, действительно, разориться и на телеграмму его старшему брату о прибавлении семейства.
Он с готовностью ухватился за мысль о телеграмме – по крайней мере есть повод снова пойти в город и поискать Антонио.
На этот раз он нашел того, кого искал. Антонио оказался на берегу, возился у своей лодки. Он был один, потому что уже спускались сумерки.
Ветер мерзлыми волнами шелестел в сухих пальмах и увядшей траве. Место было рискованное, видное отовсюду, но зато никто не мог услышать их здесь в грохоте волн.
Давид свернул к нему, шагая по песку, и сказал:
– Добрый вечер.
– Здравствуйте, – отозвался Антонио и вопросительно посмотрел на него, не выпуская концы веревок, которые распутывал. У него было обветренное лицо и вьющиеся волосы; он производил впечатление добродушного человека, но глаза были острые и дерзкие.
– Хочу передать вам привет от Жорди, – продолжал Давид.
– Его взяли? – спросил Антонио, не меняя выражения лица.
– Нет, он скрывается.
– Где?
– Это я скажу, когда вы ответите на один мой вопрос, – сказал Давид. – Вы можете взять его и перевезти во Францию?
Антонио прошелся разок вокруг лодки, что-то поделал, тянул время.
Каким серым может быть Средиземное море. Даже песок, всегда такой красный, сегодня казался блеклым.
– Я сейчас не во Францию, – произнес он наконец.
Давид назвал сумму, которую они могут заплатить. Прибавил, что очень торопятся, что они больше не могут его прятать.
– Я отвечу завтра, – заключил Антонио. – Идите теперь, и больше меня не разыскивайте. Куда вы обычно ходите, не привлекая внимания?
– За покупками.
Антонио покачал головой.
– Хожу еще навещать жену в больницу. Около одиннадцати. По прямой дороге вверх по склону с пробковыми дубами.
– Вот это подойдет, – согласно кивнул Антонио. – Я где-нибудь там вынырну.
Свернув на первую же поперечную улицу, Давид увидел двух жандармов, и сердце у него заколотилось от страха.
Неужели это я? – подумал он с изумлением. Ни во что не вмешивающийся наблюдатель. Законопослушный гражданин.
А при виде полицейского первый мой импульс – спрятаться…
Дом Анжелы Тересы был заперт, демонстрация с распахнутыми дверями закончилась, и они выпустили из подполья Жорди.
Давид нашел его поникшим на стуле. Он был еще более небрит, чем когда-нибудь, костюм его выглядел совсем плачевно. Человек, распадающийся на части.
– Господи, как хорошо, что вы, наконец, дома, – сказала Анунциата и вздохнула с облегчением.
– Да, мы вас так ждали, – добавила Анжела Тереса. – Я жду вас еще с тех пор, как исчез Эстебан…
– Ш-ш-ш, – покачала головой Анунциата. – Опять ты все смешала.
Давид посмотрел на всех троих, глаза их с надеждой были устремлены на него. С детской надеждой освободиться, наконец, от страха.
Он, собственно, должен их ненавидеть. Не спрашивая его согласия, они вовлекли его в ситуацию, в которой он должен был стать либо подлецом – если откажется помочь своему другу, либо преступником – укрывая его у себя. Но тут же подумал, что никогда еще так сильно не охватывало его чувство солидарности с другими людьми, за исключением разве что Люсьен Мари.
– Сейчас ты должен принять горячую ванну и почувствовать себя человеком, – обратился он к Жорди. – Бритва и всякое такое в ванной комнате, бери, что тебе надо. И вообще отныне чувствуй себя как дома. «Мой дом это твой дом», как вы говорите.
Он вынул рубашку, брюки и толстый пуловер.
– Не могу я… – начал Жорди.
– Нет, можешь, – прервал его Давид. – Не хочешь ли помочь мне с переводом, когда будешь готов?
Ему хотелось занять Жорди трудной работой, не давать ему времени для размышлений.
Но очки Жорди остались у него в лавке, опечатанной жандармами, читать он мог очень недолго. Им нужно было как-то пережить период пассивного ожидания. Труднее всего он был для Жорди, потому что сам он ничего не мог предпринять, только ждать и ждать, в абсолютной зависимости от других.
– Как ты думаешь, могу я выйти поразмять ноги, когда совсем стемнеет? – спросил он.
Давид покачал головой.
– Нет, Пако.
Жорди встал и прошелся по комнате взад и вперед, охваченный волнением. Давид сделал вид, что не замечает его тревоги, он понимал муку заточения.
И не только заточения.
– Каким я был безумцем, – глухо промолвил Жорди, размышляя вслух. – Все эти годы одна только мысль поддерживала меня, как спасательный круг. А именно: они меня наказывают, но без законных оснований. А теперь…
Давид не понял, была ли такая реакция Жорди неизбежным следствием всего хода дела или ее вызвали его слова накануне вечером. Теперь же она его только рассердила:
– Держись своей ненависти, как вчера, – резко сказал он. – Она еще тебя поддержит впредь.
На другой день Давид отправился к монастырю кратчайшей дорогой, вдоль крутого склона, между рощей пробковых дубов и виноградником. Воздух был прохладным и чистым, небо над горами отливало холодноватым розовым светом.
Внизу, в белом доме, притаился страх – и Давид больше не мог его вынести. Он забыл, что стал взрослым, что ему уже не одиннадцать лет, и был исполнен страшного щекочущего напряжения.
Как Антонио даст о себе знать, может быть, птичьей трелью? – Два раза он останавливался, прислушиваясь к птичьему щебету – только для того, чтобы убедиться, что щебетали действительно птицы.
Антонио сидел, поджидая его, в зарослях агавы. Листья высотой в человеческий рост хорошо скрывали их обоих. Он мог сообщить следующее:
Он согласен помочь Жорди – но ему нужно время. Сам он не может подойти к французскому берегу, но попытается устроить ему встречу с одним рыбаком – французом, он его знает, и как-нибудь ночью Жорди сможет перейти из одной лодки в другую. Он лично не возьмет никаких денег – Жорди его товарищ, как он сказал, – но французу придется заплатить.
Кажется, он вздохнул с облегчением, увидев, что Давид согласен уплатить названную сумму и что он сразу же вынул свой бумажник.
– Я дам о себе знать, как только договорюсь с французом, – сказал он и исчез.
Нежные розоватые краски были такими красивыми, но предвещали они шторм, как сказали рыбаки. И действительно, разразился страшный шторм, так что три дня в море было выйти нельзя.
Антонио не появлялся.
Зато появились жандармы.
Давид и Жорди сидели и играли свою бесконечную партию в шахматы, прислушиваясь к завыванию бури в деревьях, к тысячам скрипучих звуков в старом доме, когда в дверь постучали. С лестницы показалась голова Анунциаты, в ее глазах был страх.
– Это он, лейтенант…
– Один?
– Да.
– Пойдите и откройте, быстро, – распорядился Давид. – И пусть все двери стоят настежь.
У Жорди не было времени спускаться в свой тайник, он только успел броситься под кровать Давида, положившись на провидение. В последнюю секунду Давид рывком задвинул за ним его кофейную чашку. Только что на столе стояла роковая лишняя чашка.








