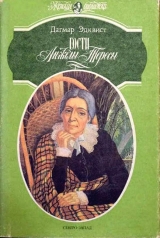
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Guapa, guapa [15]15
Красавица, красавица.
[Закрыть], кричали вслед молодые мужчины, когда Люсьен Мари проходила мимо в своем белом пляжном платье и большой соломенной шляпе.
Она вздрагивала, как от прикосновения, но Давид гордо посматривал вниз на свою жену, на «красавицу».
Однажды утром, когда они медленно, чтобы не вспотеть сразу же, шли по пляжу, она спросила:
– Придумал ты название для того, что пишешь сейчас?
– Да. Я назвал это «Слепые». – И прибавил задумчиво: – хотя с таким же успехом можно было бы сказать и «Глухие». Ты заметила, что семейные люди отгорожены от всех других непроницаемой стеклянной стеной? Их все слышат и понимают, что они говорят, а они других – нет.
Она крепко схватила его за локоть:
– Я не могу, чтобы это случилось с нами… Мы с тобой должны изобрести какую-нибудь азбуку Морзе, которая проходила бы через эту стеклянную стену – теперь, пока еще мы видим и слышим – и, главное, чувствуем…
Он остановился и поцеловал ее прямо на мосту. В этот момент им повстречались возвращавшиеся с речки женщины с высокими бельевыми корзинами на голове. Самая молоденькая уронила свою корзину на землю.
– У нас не будет стеклянной стены, – успокоил ее Давид.
Нет, никакой стеклянной стены, никакой ледяной стены. С наивной уверенностью Люсьен Мари считала, что у нее есть тот огонь, что поддерживает жар в мужчине и мешает вырасти такой вот стене. Но она подумала также: а вот когда ты пишешь, то уходишь в четвертое измерение. Тебя окружают невидимки, ты общаешься с ними, с ними ты страдаешь и переживаешь. От тебя тогда надо держаться подальше, а то может ударить током… Когда я вхожу к тебе в комнату и ставлю на твой стол чашку с кофе, ты смотришь на меня пустым, стеклянно прозрачным взглядом… Такой взгляд заледенил бы меня на месте, если бы я не знала, что он относится не ко мне, а к тем, к другим.
Ты такой, какой есть, и должен быть таким, это одно из условий нашего с тобой существования. С фундаментальными условиями жизни не вступают в дискуссию, как ты однажды выразился. Да, но как раз это и приходится делать. Не всегда легко взять и перестать трясти тебя, напоминая о том, что я существую. А, да в общем я и не требую, чтобы мне было легко. Кстати, у меня тоже есть своя тайная жизнь, есть свои связи с неким существом, пока невидимым для других.
И с уверенностью лунатика Давид продолжал выполнять свой сложный цирковой номер с балансированием: в реальной жизни жил в одном браке, а в вымышленном мире – в другом, с лучом прожектора, иногда неожиданно прорезающим то один его брак, то другой.
И они не смешивались?
А откуда он мог знать – как именно переживания человека смешиваются в хмельную жизненную брагу?
23. История II о всемирном менторе
Соласцы решили устроить танцы и танцевать свою сардану при свете факелов на площади в Вилла виэйя.
Жорди зашел за Давидом и Люсьен Мари.
Он опять стал приходить в дом Анжелы Тересы. Да, если бы он захотел, обе старые женщины приняли бы его к себе как сына.
Однажды вечером, когда все сидели в саду, под чьими-то ногами заскрипел гравий – всего лишь несколько шагов – потом стало тихо, как будто кто-то хотел дать знать о своем присутствии. После этого на неслышных веревочных подошвах в комнатку без стен, образованную одним только сиянием свечей, вошел Жорди, Робко постоял немного и вскоре попрощался – но лед был сломан, он стал приходить к ним опять. Иногда молчаливый, и, казалось, замерзший в разгаре знойного летнего дня, готовый вот-вот выпустить свои сверхчувствительные усики-антенны, чтобы проверить, не мешает ли он здесь кому-нибудь своим присутствием.
А иногда мог промелькнуть новый Жорди, с проблесками былого веселого нрава. Он играл на гитаре так, как это умеют только испанцы – но упросить его удавалось не часто. Он знал бесчисленное множество старинных народных песен – настоящий золотой клад для Давида.
Анжела Тереса сидела иногда, положив руку на плечо Жорди, беседуя о прошлых временах, как будто они были настоящим, как будто позабыв обо всех мучительных годах, отделявших прошлое от настоящего. Один раз она помахала ему рукой и сказала: передай привет маме, Пако. Он поднял руку, но не ответил. Его мать давно умерла.
В другой раз она засмеялась, как в молодости, и заметила, что он чем-то похож на своего предка – епископа.
– А я думал, что у епископов не бывает потомков, – сказал Давид.
Да, конечно, но тем не менее многие старинные каталонские семьи считают свое происхождение либо от епископов, либо от святых.
Отец Пако был редактором одной либеральной газеты в Барселоне. Когда он умер, вдова со своим маленьким сыном переехала в Солас, где жизнь была гораздо дешевле, и оказалась ближайшей соседкой семьи Фелиу.
Прошло несколько лет. Каждый год с наступлением зимы мать Пако стала устраивать в Барселоне пансион для него и для мальчиков Анжелы Тересы.
– И это называется дама из хорошего общества! – ворчала Анунциата. Отсюда следовало, что сама она и ее кумир, дон Педро, не принимали своих интеллигентных, но бедных соседей так же безоговорочно, как Анжела Тереса и ее сыновья.
На узких улочках толпилась масса народу, когда Жорди, как лоцман, вел их к месту, откуда все было хорошо видно. Ощупью они пробрались вверх по томной лестнице в степе крепостного вала, вышли на узкий балкончик сторожевой башни с бруствером. Оттуда можно было обозревать всю площадь и расходящиеся от нее улицы.
Свет факелов отсвечивал красным на светлых летних платьях и блестящих черных волосах. И на еще более блестящих черных касках жандармов.
Заиграл духовой оркестр, жарко засверкала медь. Мужчины и женщины взяли друг друга за изящно поднятые руки, образовав одно большое кольцо внутри другого.
Раз, два, три, четыре, направо, налево, вперед, назад…
Юбки у девушек развевались, мужчины распрямились и выпятили грудную клетку. Молодежь останавливалась в нерешительности перед каждым новым движением, перед каждой фигурой старинного танца. Но несколько пожилых женщин в черных платьях хорошо его знали. Многие смотрели на него, как на простое народное развлечение, но все равно танцевали с ритуальной серьезностью, ставили ноги с неизменным изяществом и точностью. Они почитали своей обязанностью передать свое унаследованное умение дальше, новому молодому поколению.
– Танец наверно очень старый? – спросила Люсьен Мари.
– Даже древний, – отозвался Жорди. – Когда финикийцы подошли на судах к этому побережью, они вышли на берег, чтобы начать торговать с местным населением. Но скоро заторопились обратно на свои корабли, подняли якоря и сказали: нельзя торговать с людьми, если они считают даже тогда, когда танцуют.
– Да уж, что скупы, то скупы, и каталонцы, и мы, жители южной Франции, – сказала Люсьен Мари и засмеялась.
Раз, два, три, четыре – теперь темп увеличился, и фигуры в танце закаливались высоким прыжком.
Большой открытый автомобиль нахально протискивался через толпу, но жандармы его остановили – и он был вынужден дать задний ход.
– Неужели там был доктор Стенрус? – удивился Давид.
Доктор и еще два седовласых господина на заднем сиденьи – и очень элегантный испанец среднего возраста за рулем.
Жорди долго глядел им вслед.
– Бог ты мой, какие дела могут быть у твоего земляка с Эль Бурреро? – пробормотал он, и губы его изогнулись в усмешке.
Эль Бурреро, погонщик ослов. Давид вопросительно посмотрел на Жорди.
– Возможно, я ошибаюсь, – сказал Жорди, пожав плечами. – Может обмануть освещение… Но мне кажется, я узнал человека за рулем. Негодяй, каких свет не видел. Когда-то ему удалось продать одну партию мулов нашим войскам, а деньги получить два раза – и все-таки мулы оказались по другую сторону. С тех пор его и зовут эль Бурреро.
Давид вдруг вспомнил слова Стенруса о человеке, «оказавшем правительству большую услугу…»
Нет, невозможно, Стенрус ведь психолог, человек проницательный.
– Ты, наверно, ошибся. Освещение-то какое, посмотри, факелы чадят и качаются, – сказал он. – Пожалуй, пора домой, пошли ужинать.
Они встали по обе стороны Люсьен Мари и покинули площадь.
Примерно через неделю к ним на лужайку перед домом с рычанием завернуло такси. Люсьен Мари еще утром пошла к Консепсьон, чтобы помыть волосы, а Давид сидел один и писал за спущенными жалюзи, когда к нему вошла Дага. Глаза ее были расширены, волосы растрепались.
Давид вскочил. Уже само появление всегда непоколебимо безмятежной женщины, да еще в таком виде, было сигналом бедствия.
– Помоги мне, – простонала она. – Туре исчез.
Она грузно опустилась на стул, совершенно раскисшая от жары и отчаяния. Но в таком виде она была более человечной.
– Что случилось? – спросил Давид. – И где ты его искала?
– Случилось так много всего, – промолвила она устало. – Все оказалось сплошной липой. Он одурачил и Туре, и министра и мистера Мак Кёллена. Мы потеряли все наши деньги. Но все это неважно, лишь бы только Туре…
У нее перехватило горло, и она с трудом продолжала:
– Нам все стало известно вчера, мы как раз подумали, что теперь все в порядке, и скоро начнется радиопередача. Первую большую речь в эфире должен был сказать сам министр.
– А разве здесь есть частные радиостанции?
– Нет, по другую сторону границы. – Она назвала место и продолжала. – Когда Туре туда поехал, там его просто не поняли, никто никаких денег не получал и вообще никто ничего не знал. Документы, контракты, телеграммы – все было сплошным надувательством со стороны сеньора Касаверде. Мне бы надо было забеспокоиться, потому что Туре воспринял все это невероятно спокойно. Ты-то знаешь, как он обычно рвет и мечет… А тут он только молчал. Потом пошел и лег. А сегодня вдруг исчез.
Сперва я решила, что он пошел выкупаться, хотя ему это запрещено. Но на берегу его не было. И в городе тоже. И на дорогах в горах его не видели. Сначала я повсюду бегала сама, а потом взяла такси и весь день колесила по городу. Ну что могло случиться?
– Может быть, ему просто захотелось побыть одному, пережить удар, – предположил Давид. В конце концов ему удалось уговорить ее отдохнуть, а сам он решил заняться поисками вместо нее.
Она произнесла едва слышно:
– Больше всего я боюсь, чтобы этот Касаверде из страха перед Туре…
Она совсем сникла на диване у Давида.
– Сеньор Касаверде наверно уж давно отряхнул прах со своих ног, – хмыкнул Давид.
Поскольку такси Ганзалеса, все еще сопя и всхрапывая, стояло на лужайке перед домом, он поехал на нем в город.
У доктора Стенруса и в самом деле было высокое давление, верно также, что его мог хватить инфаркт во время купания или в горах. Но прежде чем допустить такой катастрофический исход, Давид решил поискать его в тех местах Испании, которые казались ему наиболее подходящими для убитого горем человека.
В Эль Моно его не было.
Хозяин и эль секретарио посмотрели на Давида задумчивым взглядом, когда он на несколько минут присел на то место у двери, где обычно сидел Жорди.
Его перестали рассматривать как туриста, он уже начал вписываться в местное население городка.
Не было доктора Стенруса и у Мигеля, и Давид собрался было следовать дальше, но у стойки стояли эль вигилянте и сержант Руис. Они крепко похлопали его по плечу и сказали, широко улыбаясь: Hombre [16]16
Hombre – (исп.)человек.
[Закрыть], мужчине рюмочка никогда не повредит, а в особенности, если он окружен одними женщинами!
Но в этот момент Давид увидел, что сам старый Мигель стоит в дверях во внутреннюю комнату и делает ему какие-то знаки бровями, повернув негнущуюся шею.
В маленькой комнатушке, неизвестной раньше Давиду, восседал Туре Стенрус собственной персоной, в полном одиночестве и царственно пьяный. Перед ним стояла бутылка мансанильи.
Мигель безмолвно поставил еще одну рюмку.
– Что ты имеешь сказать? – спросил Стенрус воинственно.
– Твое здоровье, – сказал Давид, улыбнувшись.
Стенрус посмотрел на него долгим взглядом. Его переполняли кристалльно-ясные идеи, было необходимо поведать их миру, и поэтому он нуждался в аудитории.
– Вот это и есть в тебе самое плохое, – начал он. – То, что ты говоришь, еще не так возмутительно, как то, что у тебя на уме. Как, например, сейчас. Ведь ты сидишь и думаешь: так и надо этому старому ослу. Дать себя одурачить какому-то даго…
– Это слово не мое.
– Нет, разумеется, так сказал министр. Но он-то в таком же положении, что и я. А я… Старый тщеславный идиот. Не может успокоиться, что уже вышел в тираж. Не ввели в правительство собственной страны, так дайте ему, видите ли, местечко повыше здесь, дайте стать гласом божьим в эфире, всемирным ментором, распределяющим кнуты и пряники между правительствами. Кстати, а какое до всего этого дело тебе?
– Да Дага очень волнуется, – объяснил Давид.
Доктор Стенрус величественным жестом отмел Дагу в сторону. И закончил этот жест, приставив свой острый указательный палец к груди Давида.
– Ты суешь свой нос куда не следует. Ты думаешь. А думать опасно.
– Слушай, а не поехать ли нам лучше домой? – предложил Давид.
Стенрус отмел в сторону также и свой дом.
– Хочешь знать, о чем ты сейчас думаешь?
– Нет, – поспешил Давид.
– Ты думаешь: вот сидит старый человек, загубивший напрасно свои последние годы, самый драгоценный отрезок своей жизни, когда мог бы еще работать и работать. Как избалованному ребенку, ему захотелось убежать из дому, чтобы отечество стало клянчить и умолять его вернуться обратно…
Стенрус опрокинул в себя свою рюмку.
– А его никто и не думал просить, – произнес он изменившимся голосом.
Вот, оказывается, каким он может быть к себе беспощадным, под вечной маской желчности и язвительности, подумал Давид с удивлением и сочувствием.
– То, что ты обо мне подумал, задевает мою честь, продолжал Стенрус. – Если бы ты не был в два раза моложе и в два раза выше меня, я бы вызвал тебя на дуэль.
– А на чем бы мы дрались? – с интересом спросил Давид.
Но Стенрус уже ударился в другую область.
– А Мак Кёллен?
– Мультимиллионер. Половые швабры. Человеколюб, хотел «послужить человечеству». Ну, этого типа так легко не выдоишь. Для него это всего лишь укус блохи в шубу миллионера. В швабру миллионера, ха-ха-ха!
– Тогда вы сможете начать все сначала – если верите в свою идею.
Стенрус посмотрел на него с отвращением. Если. Начинать все сызнова с проколотой шиной.
– Вы что, организовали акционерное общество, или…
Стенрус кивнул, глаза у него были совсем остекленевшие.
– Каждый из нас. Внес свой вклад. Министр – связи и деньги. Мак Кёллен – только деньги. Я – псих… психологическую проницательность и деньги. Лопнуло все.
– А идею подал Эль Бур…, то есть я хотел сказать Касаверде?
– Да. Чертов кот, так нагадить, – отчетливо произнес Стенрус, и после этого увял совсем.
Когда Давид и Мигель деликатно помогли ему добраться до вновь вызванного такси Ганзалеса, он на секунду проснулся и сказал жалобно:
– Где Дага? Она же знает, что мне нельзя пить!
24. Три «Аве»
В переулке перед дамским салоном Люсьен Мари столкнулась с Кармен, двенадцатилетней дочкой Консепсьон; та выбежала из дома с плачем, закрывая лицо руками. Однако, увидев, на кого налетела, Кармен отняла руки, и тут весело блеснули ее глаза и зубы, но когда из двери высунулась мамаша Консепсьон, девочка вновь надела на себя печальную мину. Люсьен Мари обратила внимание, что Кармен была в черной мантилье, как будто собралась в церковь.
– А что случилось с Кармен? – спросила Люсьен Мари, глядя вслед удаляющейся фигурке.
Консепсьон обратила к небу глаза и руки.
– Матерь пресвятая Богородица! – воскликнула она, – неужели еще недостаточно, что и так забот полон рот, то аппарат испортится, то мальчишки свалятся со стены и разобьются, неужели еще нужно, чтобы люди злословили о Кармен, ведь она еще ребенок!
Последние слова она произнесла таким громким голосом, чтобы услышали не только клиентки в парикмахерской, но и соседки, стоявшие в раскрытых дверях по всей улице.
Они вместе вошли внутрь. Там сидели три клиентки, но тишина стояла совершенно особая, напряженная. Одна женщина привела себя в порядок, заплатила и удалилась со своей свитой – те две приходили сюда с ней только за компанию. Люсьен Мари уселась на стул возле умывальника.
Консепсьон закрыла окно.
– Это все Серафина, – объявила она. – Старая грымза, и зубы у нее как у козы, чтоб они совсем у нее повывалились! Работать она, видите ли, больше не может, а вот бегать повсюду и в каждый угол совать нос, так на это она мастерица, а потом разносит все свои сплетни по домам. Старый человек, а туда же, забралась по крутой стене во-он в тот сад наверху… Не удивлюсь, если она, как кошка, начнет ходить по крышам и хватать наших цыплят!
Пока Консепсьон гораздо более чувствительно, чем обычно, намыливала ей волосы, Люсьен Мари осторожно поинтересовалась, какое отношение все это имеет к Кармен.
– Так она ее и увидела – го есть, как она уверяет, что увидела – с Пакито. Да вы знаете, темный такой мальчик, еще смеется всегда, он помогает отцу продавать рыбу в ларьке, у самых весов. В его саду, наверху, на уступе, как уверяет Серафина. Где каменные скамейки и кусты все подстриженные. Ходит и болтает всем, что они целовались!
– А Кармен?..
– Говорит, что играли в пятнашки и так запыхались, что чуть не упали, и тогда Пакито одной рукой охватил дерево, а другой ее, и они так хохотали, что и в самом деле повалились.
Последнюю фразу Консепсьон произнесла совсем тихим шепотом, едва удерживаясь от слез.
– Ну, наверно, не так уж все опасно?
– Не опасно? – снова воскликнула Консепсьон и стала весьма энергично прополаскивать волосы Люсьен Мари. – Ей двенадцать лет, она рано развилась, уже полгода, как она женщина, вы понимаете, о чем я говорю. А дети теперь имеют такую волю, что только будет дальше? Мы-тознаем, как пойдет дело – или как, сеньора?
Люсьен Мари вздрогнула и невольно выпрямилась. Но Консепсьон улыбнулась так, что показались ее розовые десны, и прошептала:
– Спокойно, сеньора, – знаю только я одна. Я сразу же все поняла, как только увидела, как вы держитесь и как ставите ноги. Раньше вы ходили такими же большими шагами и так же быстро, как эль сеньор Стокмар.
После этих, заключенных в скобки слов, она опять вернулась к Кармен.
– А она только смеется, и все отрицает. Ах, как нелегко нынче быть матерью. Но ведь девочек надо сначала запутать как следует, чтобы не играли с мальчиками слишком долго. Вот я сейчас и послала ее исповедаться. Ей, конечно, не понравилось, но пришлось все-таки идти. Уж так я жалею, что отец Себастьян умер! Он-то умел говорить о вечном суде и о неразумных девах, так и почувствуешь, как пламя лижет кожу.
Люсьен Мари с изумлением взглянула на кроткую, добродушную Консепсьон.
– Я не знала, что вы такие… такие набожные, – сказала она, не находя более точного слова. Хуан всегда был непрочь подчеркнуть свою нелюбовь к церкви.
На лице у честной Консепсьон отразилось смятение и обида, как у человека, стоящего перед тяжелой проблемой. Такое выражение придало патетический оттенок ее бедным, убогим словам, когда она проговорила:
– Нет, конечно, но… когда все стало таким, как оно сейчас есть… и потом все равно надо платить за все, за церковь и за священника… так должны же мы иметь от них хоть какую-то пользу! И потом… Мы ведь видели что случилось с теми, кто срывал иконы.
Тут загрохотал фен, и разговор пришлось прервать. Стало жарко, Консепсьон распахнула окна и дверь.
Вскоре в одном окне показалась развевающаяся мантилья, и перед ними уже стояла Кармен, глаза ее так и искрились веселым смехом.
– Три «Аве»! – крикнула она матери. – Три «Аве», всего-навсего! Я уже их прочитала!
– Три «Аве»! – повторила ее мать. – Какое же это покаяние?! Разве он не запретил тебе встречаться с Пакито?
– Нет!
– Не читал тебе строгую мораль?
– Нет!
– Неужели он тебя не наказал? И не предупредил никак?
– Нет, нет, нет.
– Значит, ты не сказала ему правду!
– Нет, сказала…
Последнее «нет» звучало не совсем уверенно.
– Посмотри на меня, Карменсита. Как могло случиться, что священник дал тебе прочесть «Аве» только три раза?
Кармен покачалась с носков на пятки, потом всей своей красивой, стройной фигурой выразила недоумение, а также нежелание задерживаться на этом вопросе.
– А это был новый священник из Мадрида…
– Святый боже, – еще один из Мадрида!.. Ну?
– Сначала он не слышал, что я говорила…
– Да?
– И сказал: дитя мое, говори погромче… Но я испугалась и не могла говорить громче. Тогда он сказал: дитя мое, говори по-испански, а не по-каталонски… но…
– Кармен! Ты притворилась, что знаешь только каталонский?
– Да, – прошептала Кармен, и глаза ее заблестели. – А потом он не понял, что я говорила… и не хотел показать, что не понимает… Потому что довольно скоро он сказал мне: иди с миром, дитя мое. И прочти три «Аве». Так что я сказала правду, и получила отпущение грехов.
Консепсьон обернулась к своей клиентке с выражением досады и гордости. Ну и дочка, сумела провести священника из Мадрида…
Но отпущение грехов есть отпущение грехов, спорить теперь было не о чем.
Консепсьон начала расчесывать щеткой волосы Люсьен Мари прежними покойными движениями, от всей ее фигуры веяло теплотой и добродушием. Но вдруг она что-то вспомнила и прорычала в окно:
– Ну, смотри, голубушка, увижу тебя еще раз с твоим Пакито, не миновать тебе валька!
Что делать бедной матери? Должна же она как-то обеспечить добродетель своей дочери и ее будущее счастье?
Люсьен Мари рассказала вечером об этом эпизоде Давиду, после того, как он сплавил доктора Стенруса потрясенной супруге, время от времени повторявшей: о господи, ему же запрещено пить…
Давид засмеялся и сказал:
– В мире религиозных идей существует точка зрения лягушки, только ее трудно принять даже язычнику.
– А я понимаю Консепсьон, – заключила Люсьен Мари. – Она любит своего ребенка, и ей дела нет до того, консервативно она сама настроена или революционно, набожная она или язычница.
– Вот этатипично женская точка зрения и пугает мужчин, – вздохнул Давид.
Люсьен Мари сразу вспыхнула:
– А тебе не кажется, что есть и мужская точка зрения, и она пугает нас никак не меньше? Вспомни жертву Авраама.
– Не вынуждай меня защищать такие жестокие мифы. Но смысл их наверно в том, что мужчина, любящий всей душой, в состоянии пожертвовать всем, даже своим ребенком, богу. Тому, что он называет богом, – уточнил Давид.
– А женщина, любящая всей душой, в состоянии пожертвовать всем, даже богом, ради своего ребенка.
– Главное в обоих случаях это все равно преданность…
– Да, но ведет она к различным результатам, – упрямо продолжала Люсьен Мари. – Или ты хочешь пожертвовать людьми ради своей идеи, – или своими идеями ради одной человеческой жизни.
– В этом, действительно, основное различие, – согласился он. – Но бог знает, где здесь проходит граница, только ли между мужчиной и женщиной… У тебя у самой разве не бывало иногда идеи, за которую стоило пожертвовать жизнью? И потребовать жертв?
У Люсьен Мари перехватило дыхание. Как порыв ветра пронизало ее воспоминание о страхе, который она испытывала в войну. Ожидание. Потом небрежный посвист смерти – и наконец все, гибель. Уничтожение.
Или ожидание смерти в тюремной камере. Ее ожидал Морис. Ее ожидал Эстебан. Разве не пережила она в мыслях каждую из минут тех, приговоренных к смерти?
Она произнесла дрожащими губами:
– Мне кажется, все неумолимые жестокие идеи, требующие человеческих жертв, это плохие идеи.
– А тебе ведь своего родного отца хотелось назвать предателем за одно только подозрение, что он попытался купить жизнь Морису?
Она помолчала, потом приподняла немного руки и сказала:
– Тогда я ожидала ребенка.
– И спряталась у него в объятиях, ища защиты.
– Давид, что мы делаем! Как только мы решились дать жизнь ребенку в таком мире, как наш?
Чтобы было за что умереть без колебаний, – подумал Давид, лежа на спине и глядя в темноту.
Может быть, ты и Консепсьон правы. Идеи сбываются с рук, как фальшивые монеты, золотое обеспечение слов и выражений куда-то исчезло. Но одно остается: обновление всего живого. Ребенок на руках у матери.
Он был совсем юным, даже мальчиком; в руке он держал цветы. Он нанялся юнгой, но сбежал с финикийского корабля, стоявшего сейчас в бухте на якоре. Цветы он должен был возложить на алтарь богини, настолько прекрасной, что лицезреть ее могли только женщины.
Он пробирался через залитую туманом равнину, через заросли агавы. Ни жриц, ни служительниц при храме, тех, кто охранял вход, не было видно.
Наконец, он добрался до места. Вот, сейчас… Но святость храма настолько его парализовала, что он не мог поднять взгляд. Опустив глаза, он возложил свой дар у подножия божества.
Надо возвращаться. Но кругом опасность. Теперь он видел то, чего не замечал раньше: колючие заросли были не чем иным, как стайками женщин, все эти неясные, туманные, переливающиеся волнами кустарники были, оказывается, женщинами. Агавы пытались захватить, опутать его.
Агавы, агавы…
В эту минуту женские существа тоже его увидели, стали его хватать. Дикие, как вакханки, они пустились за ним вдогонку, и все те, кто находился в парикмахерской, тоже бросились за ним в погоню, он чувствовал за собой горячее дыхание и пыхтение сушильных аппаратов…
Он проснулся.
Да, летние ночи теперь знойные, их стало трудно переносить, человек просыпался утром до нитки мокрый от пота.








