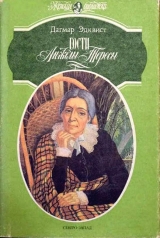
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
19. Букет из бессмертников для невесты
На другое утро, когда Давид – довольно поздно – постучал в дверь к Люсьен Мари, она сидела, выпрямившись, на краю кровати, еще не одетая. Глаза у нее подозрительно блестели и немного опухли.
– Мы должны поторопиться, чтобы вовремя успеть в консульство, – сказал он.
Она отвернула лицо и ответила едва внятно:
– Может быть, нам следовало бы подождать…
– Подождать? Зачем?
Только сейчас он заметил, что она сидит и беззвучно плачет. Немного виноватый, немного разочарованный, он спросил:
– Ты огорчилась, что я вчера вечером ушел?
К его облегчению, она сделала отрицательный жест, отметая подобное подозрение, как бессмыслицу.
– Тогда в чем же дело?
С неожиданной резкостью она протянула вперед свою левую руку.
– Вот в чем! Я не могу…
Она жалобно закричала, но голос ее пресекся и он едва расслышал:
– Она ни на что не годится. Я не могу даже одеться.
В монастыре ее обслуживали полностью. Там было в порядке вещей, что она ничего не может делать сама. Но теперь, когда она оттуда выписалась и должна бы быть совсем здорова…
Только что, перевязывая себе руку и накладывая на нее широкий пластырь, она увидела, как атрофировались ее мускулы за эти несколько недель. Рука стала в два раза тоньше – как ей показалось – чем раньше, и никак не выпрямлялась. И тут Люсьен Мари охватила паника. Она представила себе, как ее круглая, изящная рука постепенно превращается в громадный кривой коготь – она увидела перед собой свое будущее – будущее инвалида.
Давид обнял ее и почувствовал, как дрожит все ее тело, как болезненно оно напряжено.
– Милая моя, дорогая девочка. Как плохо работает моя фантазия во всех практических вопросах… Я бы давно должен был прийти к тебе и помочь, – с раскаянием произнес он.
Она его слегка отодвинула от себя.
– Мы должны все спокойно и трезво взвесить, – сказала она, хотя дрожь ее тела противоречила словам. – Я не могу выйти за тебя замуж, если я буду тебе только обузой. Лучше нам немного подождать… А пока я поеду домой.
Вот что, оказывается, нашептала ей паника. Скорей на самолете в Париж, Заползти в серый, разношенный уют своей семьи, спрятаться среди трех женщин, там, где физические недостатки и недуги естественны и никого не пугают. Никогда больше не лелеять опасных грез о побеге в иную жизнь.
Давид взял ее за плечи и посадил на край постели. Рассказал, что знал сам, о воспалении мускульного мешочка. Требуется время и упражнения, чтобы потерявшие чувствительность сухожилия и увядшие мускулы смогли начать работать опять.
– Да, конечно, но…
– Потом у тебя ведь есть еще и правая рука…
– Я знаю, – сказала она, не поднимая глаз. – Я знаю, я должна быть благодарна, что…
Она резко втянула в себя воздух, продолжала:
– Я знаю, что есть на свете инвалиды и всякое такое; весь ужас только в том, что к ним нужно отнести саму себя.
– Но ведь ты себя к ним не относишь? – спросил Давид. – Он заставил ее смотреть ему в глаза.
Она вздохнула – продолжительно, глубоко.
– Нет, кажется, – согласилась она. – Но кто может поручиться…
Она прервала себя. Что-то было не то в ее восприятии проблемы, даже перед самой собой. Паника не сама по себе затронула ее, а только в сочетании с судьбой Давида.
Он сказал интуитивно:
– Ты мне не слишком доверяешь.
– Я не доверяю? Прилетела к тебе…
Он слегка улыбнулся и покачал головой. Оба смутно понимали, о чем идет речь. И тот и другой помнили, как произошел разрыв с Эстрид. Люсьен Мари волей-неволей пришлось узнать кое-что не очень привлекательное о Давиде…
(Он догадался об этом, стиснул зубы, было мучительно увидеть в глазах другого человека моментальный снимок себя самого в таком неприглядном виде, уже недоступном для ретуши.) Ее любовь уже пережила крушение иллюзий. Она согласилась принять его таким, каков он был: не выдерживающим больших нагрузок. В критические минуты на него положиться нельзя.
(Но иногда у Давида в душе вновь и вновь поднималось чувство протеста: это не совсем так. Почему она не хочет разобраться?)
Инстинкт материнства заставил ее напрячь все силы, сделал саму ее слабость действенной: что ж, придется тогда этим заняться мне, взять на себя тот груз, который оказывается самым тяжелым…
Эта мысль не испугала ее. Наоборот, сняла то таинственное и опасное, чего она боялась в характере Давида.
Но теперь она попала в противоположную ситуацию. Теперь она сама стала обузой. И ожил опять страх, что Давид изменится, замкнется в себе, станет чужим и непонятным, ускользнет. Страх, трудно выражаемый словами. Холод в руках и дрожь во всем теле. Неверие в возможность выздороветь и наладить свою жизнь.
– …А ты был таким добрым ко мне все это время, – прибавила она, смутно ощущая все же угрызения совести.
Давид стоял молча. Он был достаточно чутким, чтобы хорошо понимать ее чувства, – и заразительная меланхолия всеми своими щупальцами потянулась от нее к нему. Ощущение беспомощности, того, что как раз тогда, когда мы больше всего нуждаемся в помощи, мы не можем ее ни давать, ни принимать. Именно в этот момент человек осужден на одиночество, никто не в состоянии проникнуть к нему внутрь, никто не достанет снаружи.
Но попытка оказалась неудачной, щупальцам меланхолии не за что было ухватиться. В следующее мгновение он уже с поразительной уверенностью знал: я могу. Я гожусь. Я в состоянии помочь ей и себе.
– …«Добрым», – усмехнулся Давид. – Разве человек добрый, если не дает своему ребенку упасть в колодец, а своему дому сгореть?
– Нет, но…
– Вот и я «добр» к тебе именно таким образом. Яснее ясного. Потому что ты самое дорогое, что у меня есть. Чего еще у меня нет…
Он произнес это без всяких сантиментов, поворачивая ее спиной и застегивая бюстгальтер.
– А моя рука…
– Плевать мне на твою руку, – сказал он.
Тем временем она попыталась надеть себе нейлоновые чулки, но с одной рукой это было особенно трудно, левая ей только мешала. Она так рассердилась, что впилась вдруг в нее зубами.
Он взял ее ни в чем не повинную руку и поцеловал след от зубов.
– Ну, ребеночек! Сейчас тебе уже лучше?
Да, это уже была разрядка. Она устало оперлась на его спину, пока он сидел рядом, наклонясь вперед, и не чувствовала больше никакого стеснения, что он натягивал ей чулки.
Когда она была уже одета и они стояли друг против друга, слегка улыбаясь, еще не оправившись от смущения, он спросил:
– Ну, а… с венчаньем как? тебе уже больше не хочется?
– Нет, что ты. Только… нет, я хочу, – подтвердила Люсьен Мари.
– Тогда ты должна обещать мне одну вещь.
– Ну?
– Не убегать от меня, если с тобой случится что-нибудь плохое.
– Со мной?
– Да, ты-то определенно не оставишь меня в беде, если случится что-нибудь со мной.Дай такую возможность и мне. Подумай о словах в Священном писании: «Ради этого женщина должна оставить тетю Жанну и держаться своего супруга…»
Она посмотрела в серые глаза Давида, в который раз удивилась его застенчивости, его манере шутливо говорить о самых серьезных вещах. В ней вдруг огнем вспыхнула жаркая надежда на их счастье в браке, на такой союз, в который ни он, ни она не решались верить, не осмеливались мечтать.
Через некоторое время Давид сказал:
– Если бы ты знала, как у меня замирает сердце, когда ты перестаешь владеть собой… Была бы ты похитрее, всегда могла бы использовать это для шантажа.
Люсьен Мари пришло в голову, что нежность и заботливость Давида по отношению к ней не что иное как еще одна сторона его же характера, такого тяжелого во время кризиса с Эстрид. Чего он не мог вынести, так это мысли о том, что он причинил кому-то непоправимое зло. Поэтому он и стал по отношению к ней жестким и ненадежным.
– Ну как, готова теперь? – спросил он.
– Да, все в порядке.
– Минутку, – тихо пробормотал он и исчез в своей комнате. И вернулся с букетом. Не с французским букетом для невесты из белых лилий, а с розами нескольких оттенков. В их положении они были более уместны.
Несколько лощеных молодых испанцев любезно провели их в приемную консульства, предложили посидеть, и на ломаном шведско-английском языке по телефону доложили о них консулу. Через некоторое время консул пришел, представился и пригласил их к себе в кабинет.
– Какие-то осложнения с паспортами, насколько я понимаю…
– С паспортами? – удивился Давид. – Да, я, конечно, упоминал, что нам бы хотелось иметь один общий паспорт. Но главное – это то, что мы решили зарегистрировать наш брак.
– Как зарегистрировать? Где? – в свою очередь удивился консул.
Давид ошеломленно показал на пол.
– Здесь. Теперь. В двенадцать часов.
– Это невозможно. Я не обладаю полномочиями для заключения брака. Кто вам назначил время?
– Я позвонил сюда. Спросил того, кто мне ответил – консул, мол, уехал – имеете ли вы право нас зарегистрировать, тот ответил, что да, несколько раз, на нескольких языках, и назначил время.
– Ясно, это Эмилио, – со вздохом произнес консул. – Честолюбив до невозможности, да и вообще слишком уж большой энтузиаст. Когда чего-нибудь не знает, все равно отвечает да – и полагается на провидение.
– А что там у нас не в порядке? – спросила Люсьен Мари, напряженно прислушиваясь к шведским словам и с пятого на десятое улавливая смысл.
– Никакой регистрации не будет, – отозвался Давид. – Оказывается, недоразумение. Консул не имеет права.
– О, – промолвила Люсьен Мари и опустилась на стул. Она посмотрела на свой свадебный букет. – И что же нам теперь делать?
Консул подошел к шкафу и вынул бутылку шерри и рюмки.
– Рановато, конечно, еще день в разгаре, но у нас с вами особые обстоятельства, – он слегка улыбнулся и налил своим гостям по рюмочке для поднятия настроения.
– Есть здесь пастор для шведских моряков? – спросил Давид.
Да, есть. Консул отыскал его по телефону – но тот тоже не имел права их обвенчать.
– А почему нельзя у испанского священника? – предложила Люсьен Мари.
Консул помог и в этом.
Первый вопрос испанского священника был: принадлежат ли и жених и невеста к католической церкви. После их ответа отпал и этот вариант.
– Придется нам съездить в Мадрид, в посольство, – сказал Давид. В его голосе послышалась вопросительная интонация.
– Я не уверен в том, что… – начал было консул, но в этот момент Давид добавил:
– Нельзя ли мне заглянуть в закон?
Консул позвонил и через минуту явился обольстительно улыбающийся Эмилио с толстенным томом, называемым «Законами шведского государства».
Перелистав его привычной рукой, Давид нашел Закон о заключении брака при посредстве шведских властей за границей. «На основании особого решения Его Королевского Величества полномочиями при регистрации браков обладают министры в Анкаре, Берлине, Каире, Париже и Тегеране, а также в Токио и Бангкоке, генеральные консульства в Бангкоке, Гамбурге, Шанхае и Танжере, а также консул в Иерусалиме».
Мадрида там не было. Дальнейшие изыскания в Своде законов привели их лишь к ограничениям: в одном случае разрешение распространялось на одних только шведских подданных, а в Париже, например, жаждущие сочетаться браком шведы могли это сделать лишь в свободный от праздников вторник.
– Так или иначе, а все равно, как ни верти, получается Париж, – резюмировал Давид. – В свободный от праздников вторник.
Люсьен Мари казалась смущенной. Когда консула позвали к телефону, она прошептала:
– Вчера вечером я отправила длиннющее письмо маме, и написала, что мы уже женаты. Я же думала, что мы с тобой на самом деле будем зарегистрированы, когда письмо дойдет. Пришлось мне взывать к ее романтическим чувствам.
Давид сразу все понял.
– Ясно, все дело будет испорчено, если мы вдруг теперь явимся туда, как снег на голову, а сами все еще не женаты?
Давид еще раз просмотрел весь закон.
– Если только прикинуться кочующими лапландцами. Или миссионерами в Китае. Вот для них имеется два-три гуманных исключения…
Наконец консул счел нужным пригласить незадачливых жениха и невесту с собой на второй завтрак.
– Не желаешь ли ты обвенчаться в Тегеране или Бангкоке? Или, может быть, в Иерусалиме? – с горечью обратился Давид к Люсьен Мари. И, обернувшись к консулу: – А что говорит Союз проживающих за границей шведов по поводу того, что только богатые люди имеют право и возможность сочетаться законным браком?
Люсьен Мари вдруг засмеялась.
– Нечего смеяться, – сказал Давид. – Ведь это типичный пример того, как мы тут, в Европе, опутаны законами и предписаниями, относящимися еще к прошлому веку. Мы с тобой европейцы, современные люди. Уж должны бы мы иметь те же возможности, что американцы. Наверняка те не страдают оттого, что один из них из Флориды, а другой, скажем, из Коннектикута.
– Я только подумала, что есть очень простое решение, – улыбнулась Люсьен Мари.
– Хотелось бы услышать, – хмыкнул Давид.
– Давай переедем границу и попросим мэра в первой же французской деревушке нас обвенчать.
И консул, и Давид собрались что-то сказать, но, взглянув друг на друга, сбились и умолкли.
Было как-то даже досадно, как все равно после проигрыша на международных соревнованиях – стоять вот так и смотреть, как Свод Законов бесцеремонно вытесняется Кодексом Наполеона. Но Люсьен Мари была француженка, бумаги у них в порядке, а мэр во Франции действительно имеет право регистрировать бракосочетания.
– Ты права, – согласился Давид. – Едем за границу.
– Я очень огорчен, что не смогу взять на несколько дней отпуск и отвезти вас в своей машине, – вздохнул консул; его забавляли их свадебные неурядицы, и, кроме того, хотелось узнать, чем кончится дело.
– Странно все-таки, что решение нашел человек, менее всех нас сведущий в законах, – заметил Давид.
Консул лукаво улыбнулся, но не сказал того, что думал, пока они не собрались уходить, а Люсьен Мари не скрылась в дамском туалете:
Женщины всегда гораздо хитроумнее и изобретательнее, чем мы, когда дело касается оформления брака, запомните это.
Волна тепла в марте прошла. Апрель явился в плохом настроении. Барселона была затянута дождем, когда они сели в поезд; через полдня они добрались до французской границы. Дождь и холод сопровождали их, когда они шлюзовались в таможенных очередях по ту и по другую сторону границы. Станционный поселок тоже не выглядел веселее от ненастья.
– Куда? – спросил Давид.
Люсьен Мари закрыла глаза, повернулась кругом и показала рукой – почти точно – на электричку, вот-вот готовую отойти. Они вскочили в нее наугад и вышли в какой-то горной деревушке у самых Пиренеев. Старое баскское селение, оно выглядело бы очень живописным, если бы не дождь и ветер. Затерянный мир среди диких гор.
Они отыскали гостиницу, а потом постепенно и мэра. Мэр – одетый в рабочую одежду крестьянин – возился у себя во дворе, среди старой хозяйственной утвари. Он оказался скептиком, с дотошной внимательностью просмотрел все их бумаги, как будто заподозрил, что они фальшивые, дал понять, что сначала должен позвонить об их просьбе в Париж, а будущих супругов, с сомнением покачав головой, попросил явиться на следующий день.
– Видишь, и здесь нам нельзя обвенчаться, – сказал Давид, разрезая плечом упругий горный ветер, когда они уходили от мэра. – И в самом деле, пожелать обвенчаться, как это подозрительно! Он сразу же решил, что мы авантюристы.
– Ну, что ты, он только вид сделал, – возразила Люсьен Мари, прячась от ветра за спиной Давида. Наверное из-за ветра она решила последовать примеру монахинь и спрятала руки в рукава.
– С чего ты это взяла?
– Нет, правда. Я тут разговорилась с его экономкой. У них есть корова, так она вот-вот должна отелиться, поэтому у него просто нет времени быть сегодня мэром.
Давид засмеялся, но если бы это была не Люсьен Мари, ему стало бы завидно. Люди всегда давали ему официальные объяснения, а ей они доверяли свои истинные побудительные причины – те, что всегда как-то надо оправдать перед собеседником.
– Ну, пойдем. Купим себе свадебный букет бессмертников, а завтра притащимся сюда, постаревшие еще на один день, – предложил он.
На следующее утро корова, наконец, отелилась, и у мэра появилось время быть мэром. Он потушил свой «галуаз», надел праздничный костюм, пригласил экономку и работника в качестве свидетелей, поплевал на палец и стал листать свой справочник.
Начало он прогнусавил в нос, внушительно, как мессу, но вопросы ее прокричал, как следователь на допросе в полицейском участке.
Правонарушители каждый раз вздрагивали и отвечали «да» – и стали таким образом мужем и женой. И даже получили об этом письменное свидетельство.
– Ну так как, теперь у тебя другое самочувствие? – обратился к ней Давид, когда они опять шагали по двору к калитке. Из хлева, пристроенного к дому, доносилось слабое мычание. Дождик на некоторое время перестал.
Он ожидал, что она отрицательно покачает головой и улыбнется, отвечая на его улыбку. Но она остановилась, оглянулась вокруг и серьезно произнесла:
– Ну совершенно по-другому!
Над серыми домами возвышались горы, там, на горных склонах, рождались облака – белые пушистые клочья, клубящиеся дымы, солнечные дороги из серебра – слоистый, меняющийся, подвижный мир.
– Совершенно по-другому, – повторила она и провела рукой по лбу, как будто у нее закружилась голова.
– Неужели ты это серьезно? – удивленно спросил он. – Ведь то была формальность самой чистой воды.
– Да, но не для меня. Вот стою я сейчас здесь – и фактически я совершенно новый человек. С новым именем. Новой национальности.
Что-то в ее тоне ужасно его растрогало.
– Это тебя пугает?
Вот теперь она улыбнулась и покачала головой. Он просунул свою руку под ее, и они зашагали дальше, в свободном, медленном темпе. Глубоко вздохнули, охваченные одним и тем же порывом, и одновременно произнесли:
– И не нужно будет теперь больше врать…
20. Дом Анжелы Тересы
Ливень хлестал по белым стенам, они стали серыми от стекающих по ним струй. Собственно, даже не ливень, а шуршащий весенний дождь. Но когда налетали порывы ветра и сотрясали деревья, тяжелые капли стучали по окнам и по крыше дробно, как градины.
Анунциата приоткрыла запертую из-за дождя входную дверь, и, щурясь в надвигающихся сумерках, выглянула между деревянными бусинками занавеса. Вытянула свою коричневую морщинистую шею, прислушиваясь, повернула голову сначала налево, потом направо. Ничего не видно, ничего не слышно. Она вернулась в дом и доложила об этом своей госпоже.
Анжела Тереса была одета в праздничный наряд, но сидела на своем обычном месте перед пылающим очагом на кухне. Она с волнением ожидала своих гостей, раньше, еще днем, но с каждым разом, как Анунциата возвращалась и отрицательно качала головой, становилась все более покорно-робкой, все более отрешенной, сидела тихо на своем стуле, устало, мертво отдыхая.
– Так я и знала, – промолвила она. – Их не пропускают жандармы.
– Нет, просто опоздал автобус, – успокоила ее Анунциата. – В горах шел дождь, дороги все развезло. Вот только суп-то мой вкусный остывает.
Они опять прислушались, но не уловили ни звука, кроме шума дождя и ветра. Пришла тьма и повесила на окна свое черное покрывало.
Анунциата зябко повела плечами и подложила угля и хворосту в огонь, помешала в горшочке.
– А помнишь, как мы раньше тоже поджидали их с горячим супом? – спросила Анжела Тереса.
– Нет!
– Сначала он подгорел. А потом стал соленым от наших слез. Но какая разница – все равно так никто не пришел, чтобы его поесть.
– Ну, это еще когда было. Я вообще забыла, что было тогда, – сварливо ответила Анунциата, потому что такое ожидание действовало на нервы и ей. В темноте ей было трудно стоять на страже и вовремя уследить, когда они пойдут. Разве она успеет тогда ввести Анжелу Тересу в зал, усадить в кресло и расположить на ней мантилью так, чтобы обе они произвели достойное впечатление, чтобы их не приняли за каких-нибудь там нищих старушонок, которые только и делают, что сидят и греются у горячих углей…
Если бы еще Анжела Тереса захотела ей немножко подсобить, а не сидела тут со своими вечными воспоминаниями…
– А Пако тоже не придет? – спросила Анжела Тереса.
– Нет, не придет, – отрезала Анунциата и плотно сжала губы.
– Он в тюрьме, – кивнула Анжела Тереса с безнадежной убежденностью.
Анунциата промолчала, потому что Жорди действительно сидел в тюрьме. Глупый Мартинес Жорди – повесил свою вывеску с правой стороны, когда она должна висеть с левой, или сверху, когда она должна висеть внизу – ну и конечно пришли жандармы и закрыли лавку, и взяли его. Просто удивительно, никак человек не может взять в толк, что нельзя делать ничего,что может рассердить жандармов. Конечно, другие владельцы магазинов на площади говорят, что все их распоряжения то и дело меняются, не знаешь, как за ними и поспевать – но все-таки! Другие же не попадают в тюрьму. Боже, как устаешь от людей, из-за которых вечно приходится беспокоиться!
Из водосточных труб лились целые потоки. Где-то скреблась и скреблась скрипучая ветка в стену дома. Таинственная ветка, в хорошую погоду ее никогда не увидишь.
В этот момент луч света прорезал одно из окон, задержался на потолке, забежал за угол и тут же исчез.
Обе женщины проводили его взглядом. Автомобильные фары. Сколько же это лет прошло с тех пор, как машина в последний раз заворачивала к ним во двор?
– Опять уехали, – прошептала Анжела Тереса.
Они прислушались.
– Нет, он наверно повернул… да, вот он, стоит у двери, – хрипло сказала Анунциата. Она стояла посреди комнаты, поворачивая голову направо и налево. Ей бы надо было прибрать Анжелу Тересу… Надо бы пойти и открыть… Надо бы… А она не двигалась с места.
В дверь громко постучали. Она очнулась и поспешила отпереть.
Там стоял Давид, пытаясь прикрыть Люсьен Мари от дождя. Они появились в комнате, как будто на улице их, как курица яйцо снесла темнота. Шофер вошел следом за ними с их чемоданами. Он засмеялся, они тоже засмеялись – для всех было таким облегчением добраться наконец до места, после путешествия по скользким, вязким горным дорогам. Они поздоровались за руку с Анунциатой, расплатились и попрощались за руку с шофером. Вместе с ними в дом ворвалось дыхание молодости и жизни, у Анунциаты прямо дыхание захватило: она только стояла и улыбалась. И все, конечно, пошло кувырком. Вместо того, чтобы пойти в парадную комнату, гости прямиком направились к открытой двери в кухню.
– Нет, нет, вот сюда, – попыталась отговорить их Анунциата. Но они не слышали, не желали слышать. Свет огня, как магнит, притягивал их к себе.
Женщина с белыми, как снег волосами, хрупкая и худенькая, поднялась со стула. Давид обнял за плечи Люсьен Мари и сказал:
– Вот моя жена, сеньора.
Анунциата с удивлением следила за тем, что происходило. Никаких тебе любезностей и приветствий, ни одной из подобающих случаю и положению фраз. Вместо этого обе женщины долго смотрели друг на друга, молча и испытующе. Потом их руки раскрылись сами собой, и они заключили друг друга в объятия.
– Вы пришли, – удовлетворенно кивнула Анжела Тереса. – Вы и в самом деле пришли.
Какая жалость, подумала Анунциата, ну до чего Анжела Тереса стала теперь непонятливой, не могла поздороваться с ними как-нибудь повежливее. И мантилья у нее сползла, а около уха выбилась седая прядка.
Но чета иностранцев, видимо, не обращала на это никакого внимания. Если бы Анунциата не знала, что Анжела Тереса едва с ними знакома, то могла бы подумать, что это свидание любящих родственников.
Они сразу же спросили о Жорди.
Анунциата кашлянула и тут же вмешалась:
– У меня готов суп, разрешите, я накрою вам в зале…
Молодая дама обратилась к мужу, а он сказал по-испански:
– А нельзя ли нам поесть здесь? Мы ужасно замерзли с дороги.
Анунциата пожала плечами и взглянула на свою хозяйку, хотя там ей нечего было ждать поддержки. Ладно, она сделала, что могла. А если они хотят есть, как поденщики, за кухонным столом – так пожалуйста, ей-то какое дело. Может быть, в ихней стороне так и принято. Дон Педро – никто кроме Анунциаты не думал о старике Фелиу как о доне Педро – ужас как бы осерчал, если бы увидел их в такой мужицкой обстановке.
Она налила им горячего супу, подала круглый хлеб и намекнула, что мужчина мог бы налить рюмочку из кувшина с темным вином.
Уговаривать их не пришлось, они устали и проголодались. Обе старые женщины с удивлением смотрели, с каким аппетитом угощались молодые; сами они ели, как птички в неволе. Это напомнило им о том времени, когда их дом был полон голосов, когда мгновенно опустошались горшки, и куски хлеба один за другим исчезали в широких белозубых ртах…
Анжела Тереса увидела больную руку Люсьен Мари и спросила участливо:
– Они вас пытали в тюрьме?
Люсьен Мари спрятала больную руку в колени. Барселонский врач снял у нее с руки повязку и сказал, что рану можно считать залеченной. Красный, распухший, лучеобразный шрам вскоре побледнеет, а со временем и совсем исчезнет. А если останется, так потом можно будет сгладить его с помощью пластической операции.
Но пока еще шрам этот все время напоминал о себе, ей не хотелось снимать жакет; она переняла манеру монахинь покрывать одну руку другой или прятать руки в рукава.
– Мы были не в тюрьме, – сказала она тихо. – Но мой брат там сидел – пока они его не убили.
Давид предостерегающе толкнул ее ногой под столом – зачем касаться такого болезненного воспоминания? Но про себя сразу же отметил, насколько тактичным был ее ответ, как он снял налет необычайности с вопроса Анжелы Тересы. Это был ответ на той же длине волны – и поэтому Анжела Тереса смогла очнуться и на минуту вернуться к жизни.
– В нашей войне? – спросила она и наклонилась вперед.
– Нет, в нашей. Против немцев.
– А, – произнесла Анжела Тереса и немного подумала. – Значит, была еще одна война?
Мимо нее она прошла, не оставив следа.
– Расскажите о вашей войне, – попросила она.
Наверху в их комнатах им показалось сыро и холодно после теплой кухни. Испанские лампочки одиноко висели где-то высоко под потолком. Оба осмотрелись кругом со сжавшимся сердцем и ощущением чего-то нереального: неужели действительно мы будем жить здесь? Спать, отдыхать, работать? Неужели?
Анунциата покричала на лестнице и спросила, не нужна ли им бутылка с горячей водой. Давид коротко откликнулся: нет, спасибо.
– Какое неверие в наши силы, – пробурчал он.
– Не хвастайся уж, – сказала Люсьен Мари. – Мне бы конечно бутылочка не помешала.
Ничего, она не замерзнет. Они заснули под шорох дождя, прерываемый дробным стуком тяжелых капель.
Пока они спали, высоко в небе подул ветер и прогнал тучи. И проснулись в совершенно обновленном мире, где каждая травинка сверкала и переливалась на солнце, а каждый листок напрягся от жизненных соков.
Давид вошел в купальном халате, с влажными волосами после душа, и принес поднос с черным кофе и горячим молоком.
Люсьен Мари протерла глаза и села в постели:
– Тысварил кофе?
– Ну, Анунциата, если на то пошло. Хочешь в постель? А то здесь есть солнечное местечко…
– Иду, – заторопилась она.
В холле имелась двойная дверь; казалось, она выходила на балкон. Балкона однако там не было, а одни только чугунные кованые перила, но когда утреннее солнце вливалось в распахнутые двери, человек находился как бы на улице. Они уселись на пол, на подушки, а посредине поставили поднос. Почему и когда фиксируется в памяти какое-то одно определенное мгновение, как некое уплотнение действительности, как концентрация реальной жизни – хотя ничего особенного или нового в сущности не происходит?
В тот момент, когда Люсьен Мари поднесла к губам свою коричневую чашечку, мир застыл, и ее, как волна, захлестнуло ощущение довольства жизнью.
Кофе не был контрабандным, поэтому довольно плохой, молоко пахло козой. Хлеб грубый, нарезан крупными кусками.
А вот и ее партнер, с торчащими вихрами, в распахнутом халате, старый ее приятель Давид, с которым она состояла в законном браке несколько дней, а в незаконном несколько лет. Давид заметил, что внезапно она застыла на месте, и сидел молча, хотя и по другой причине.
А все вместе было воплощением совершенства.
– Боже, какая я сильная, – вдруг сказала она.
Ну-ну, как раз сила не была ее отличительной чертой последнее время. Она с удивлением услышала свои собственные слова.
– То есть, я хотела сказать, счастливая, – поправилась она.
А может быть это то же самое?
Она поставила чашку на пол и протянула Давиду руку. Кончики его пальцев встретились с ее пальцами. Через эти пять контактных точек она электрическими разрядами передала ему, что жизнь хороша и любовь восхитительна.
Конечно, жизнь хороша! Конечно, Люсьен Мари пленительна в своей способности наслаждаться мгновением, с отчаянием подумал Давид. Если сам он видел лишь глубокую тень там, где солнце светит ярче всего, то мог же он по крайней мере заставить себя на эту тень не указывать ей…
Только что он опять спросил Анунциату о Жорди, и узнал, где он сейчас.
Открыв шкаф, чтобы повесить туда свою одежду, он обнаружил там несколько костюмов, изъеденных молью, но почти новых. Один светло-серый, другой зеленоватый, какие обычно надевают черноволосые молодые люди, когда танцуют сардану или идут на свидание с девушкой.
Хосе или Эстебана…
Он быстро захлопнул дверцу и открыл шкаф в другой комнате. Там лежали рыболовные снасти и принадлежности для игры в мяч. Он не мог скрыть своего волнения, она это заметила.
У него горячо вырвалось:
– Разве мы ведем себя прилично? Приезжаем сюда и хотим быть счастливыми в доме, где столько горя… Они тут, вокруг нас, почти живые. Это мы посторонние – а они должны быть здесь – их голоса, их труд, их дети. А я чувствую себя паразитом…
Он даже не попытался скрыть, что на глазах у него навернулись слезы. И сразу же подумал: ну зачем я должен так тяжеловесно портить ее счастливые минуты? Как будто в ее жизни их было так уж много. Потом заметил, что ощущение счастья у нее настолько глубоко, что его не так-то легко нарушить.
Она пересела и прижалась к его плечу. Ей хотелось разговаривать с ним тихонько, доверительно, и, не видя его, ощущать близость его тела.
– Слушай, ну почему мы должны чувствовать себя паразитами? Я смотрю на это совсем по-другому… Мы приходим сюда как друзья,– задумчиво промолвила она.
– Ну и что, какая им-то от этого радость – мужчинам, которые погибли такими молодыми, – почти грубо сказал Давид.
Люсьен Мари сидела, устремив взгляд вдаль, поверх крон деревьев, как будто искала что-то необъяснимое, то, что иногда вдруг мелькает во сне; вся жизнь – это единый поток, целый и неделимый. Но не могла додумать мысль до конца, сказала только:
– Им, конечно, все равно. Но они, по крайней мере, живут в нашем сознании, если только мы их в своем страхе не вытесним. А это, мне кажется, так жестоко…
La vie unanime [13]13
La vie unanime – единая жизнь (фр.).
[Закрыть], подумал Давид. Тихо исчезающий машинист Жюля Ромена. Остается одно лишь воспоминание, солнечный блик здесь, солнечный блик там, потом постепенно исчезает и он.








