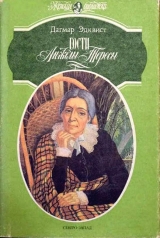
Текст книги "Гости Анжелы Тересы"
Автор книги: Дагмар Эдквист
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
5. Ночь в Соласе
Песок, море, горы – все мерцало и переливалось в слабом сиянии звезд. Все было тьмой и тем не менее все светилось. Далеко внизу мягкие округлые очертания бухты с темно-белой пенной каймой прибоя; потом вдруг рой светящихся желтых точек вдоль берега. Это рыбаки зажигали на своих суденышках высоко подвешенные кормовые огни для ночного лова рыбы.
Давид пробирался вверх по тропинке к заброшенному каменному брустверу на самом краю скалы. От ожидания письма и от попыток работать, делая вид, что ничего не ждешь, у него к вечеру разболелась голова.
Здесь же, как нигде в другом месте, человек мог оставаться наедине с ночью и морем. Слушать монотонные удары прибоя о берег, доносившиеся снизу как биение мощного пульса. Ощущать дыхание вселенной.
Один наедине с собой.
Один? Две тени у горизонта начали вдруг принимать некие определенные очертания на фоне неба – неторопливо, медленно, как слабые изображения в ванночке с проявителем. Люди – животные – каменные изваяния? Судя по форме, едва ли это люди.
Но он узнал их, это были силуэты жандармов в касках. Их было двое, они сидели вверху, на бруствере – сидели неподвижно, поджидая его. Ночной бриз приподнимал у одного из них плащ, он подбирал его опять бесшумно, как матросы, которые хотят зарифить парус. Дула карабинов высовывались из-под плащей наружу, но только совсем немного; по тому, какими они казались укороченными, Давид мог понять, что они направлены на него.
Он остановился и зажег сигарету, давая им возможность рассмотреть его лицо. Потом потушил огонек и произнес:
– Добрый вечер.
Они промолчали, как будто разочарованные, что не смогли взять его врасплох. Потом пробормотали угрюмо:
– Здравствуйте.
У них были не только карабины, у них были и автоматы. Давид вспомнил, что как-то сказал один язвительный каталонец о вооружении жандарма: карабин, чтобы как можно более метко расстреливать своих соотечественников с большого расстояния, автомат, чтобы косить своих сограждан с близкого расстояния, и револьвер, чтобы пустить пулю в лоб самому себе.
Давид решил, что может продолжать свой подъем дальше, вверх по тропинке, по тень, что была повыше, прокричала предостережение. Он не стал сопротивляться. В Испании мало кто осмеливается вступить в спор с вооруженным жандармом.
Он вернулся и стал спускаться по тропинке вниз. Теперь она казалась более крутой, ночь приобрела дополнительный оттенок угрозы.
Там, внизу, в разные стороны разбегались рыбачьи лодки, как рой огненных мух рассеивались по воде.
Кто-то еще взбирался вверх по тропинке, несмотря на тьму, шел спорым и уверенным шагом. Давид увидел сначала отсвет от фонаря, направленный на землю. Он остановился и зажмурился, когда световой душ из фонаря окатил его с ног до головы.
– Ах, это вы, сеньор, – произнес в темноте голос сержанта Руиса. – Вот и хорошо. А то я как раз вас искал.
– Меня? Что случилось?
– Ничего, – сказал Руис и, казалось, улыбнулся; он привык к тому, что его должность заставляет людей сразу же занимать оборонительную позицию. – Мне хотелось попросить вас об одной услуге.
Прежде чем Давид успел ответить, Руис продолжал:
– Минуточку – я только проверю несколько своих постов. Можете подождать?
И растворился в темноте.
Через несколько минут он вернулся.
– Не любят мои люди стоять на посту в одиночку здесь, наверху, да еще по ночам, – вздохнул он. – И во что бы то ни стало хотят быть на посту вдвоем…
– А для чего вам нужно так много постов теперь, в мирное время? – удивился Давид.
Руис рукой призрака показал в сторону исчезающих рыбачьих судов.
– Вон оттуда они каждую ночь отправляются на лов. Думаете, за пограничной линией, за три мили отсюда, они встречают одних только рыб? А уже потом идут домой, еще до рассвета, загружают машины для Барселоны и для других городов внутри страны. Время от времени мы делаем облаву, но знаем, что большая часть товара проходит мимо нашего носа.
Давид посмотрел вслед разбежавшемуся рою огоньков на воде, подумал, что, может быть, именно сейчас несколько лодок, потушив огни, скользят вперед, навстречу безмолвным и опасным приключениям.
– А какую они возят контрабанду? – поинтересовался Давид.
– Всякую, практически говоря. Но прежде всего кофе и сигареты.
Вспомнив о кофе из испанских колоний с его бесцветным вкусом разведенного шоколада, он невольно с благодарностью подумал о тех, кто контрабандой привозил сюда крепкий американский кофе, настоящий эликсир жизни для всякого пишущего.
Руис зажег свой «caporal» [5]5
Caporal – вид табака (исп.).
[Закрыть], и его сомнительное благовоние заставило Давида поспешно предложить ему «Виргинию».
– Контрабандные, – произнес Руис лаконично, но все-таки взял одну.
– Я не виноват.
– Да, конечно, их открыто продают по всей стране, я знаю.
Давид тактично переменил тему разговора.
– Если они грузят контрабанду в грузовики с рыбой, то непонятно, почему ваши посты должны стоять здесь, в горах.
– В последнее время было совершено слишком много облав на автомашины, так что они теперь опять начали пользоваться старыми контрабандистскими тропами, – объяснил Руис. – А откуда нам взять столько людей, чтобы охранять еще и горы?
«Ну, чего-чего, а жандармов у вас более чем достаточно», – подумал Давид. Он не забыл палаточный лагерь, увиденный им по дороге сюда: муравейник у муравейника на разграфленных, как по линейке, улицах. Военный лагерь, как во времена Цезаря, только увеличенный до гигантских размеров. «Война с галлами» в постановке Сесиля де Милля.
– Но вам все же не удалось их запугать, несмотря на все ваши старания? – спросил он.
– Нет. Слишком много среди испанцев бедняков. Доведенных до отчаяния, не останавливающихся ни перед каким риском, лишь бы заработать несколько песет.
В голосе сержанта послышались нотки товарищеской солидарности. Он знал свое дело, делал, что мог, чтобы захватить контрабандистов, но было ясно, что ему не было чуждо понимание причин, ради которых они идут на риск.
Искорка симпатии сама по себе, без всяких слов и жестов, зажглась между Давидом и стражем порядка.
Руис продолжал.
– Сущее наказание для нас эта контрабанда, сеньор. Я часто думаю, может быть нас, испанцев, преследует какое-то особое дьявольское наваждение…
Он оборвал себя, посмотрел в темноте на Давида и произнес более официальным тоном:
– Поймите меня, сеньор, я сам состою в жандармерии, я верен режиму. Но ведь я к тому же еще и каталонец. Я знаю, что думают и чувствуют люди в наших краях. Режим жестокий, он подавил буквально всякую форму сопротивления, Но должны же беспокойные души иметь хоть какую-то отдушину.
Это верно, подумал Давид. Так или иначе, но человек отыщет для себя возможность хоть в чем-нибудь насолить власть имущим.
Вслух он сказал:
– А что вы хотели от меня?
Руис как-то странно засопел и промолвил.
– Весьма прискорбно. Что им здесь нужно, они даже языка не знают…
– Не понимаю, – поднял брови Давид.
– Появляются здесь на нашу голову ваши земляки. Вот мы и подумали…
У Давида сразу же испортилось настроение. Нет ничего более неприятного, чем земляки за границей. В особенности земляки, угодившие в полицию. Внезапно он с сочувствием вспомнил о докторе Стенрусе, шарахнувшемся при виде его в первый попавшийся переулок.
– Что за тип? – буркнул он.
– Подождите, увидите. Немножко не в себе, как мне кажется. И без единого сентимо. Но паспорт шведский! – сказал сержант вызывающе.
Давид сделал попытку избежать своей судьбы:
– Арестованный швед без денег – разве это дело не шведского консула?
– Если бы он у нас здесь был…
– Кстати, а почему вы его арестовали? – спросил Давид, внезапно почувствовав себя на стороне неизвестного ему земляка.
– Его? Да это она,слава создателю, – хмыкнул Руис. До сих пор он употреблял слово compatriota [6]6
Compatriota – землячка (исп.).
[Закрыть], слово и мужского и женского рода.
Ну конечно, какая-нибудь бестолковая туристка – старушенция, растерявшая в дороге все свои капиталы, подумал Давид покровительственно, входя несколько позже в жандармский участок на первом этаже ратуши. Он поправил свой галстук и приготовился к роли Георгия Победоносца, берущего на себя дракона.
Руис указал ему на стул и отдал распоряжение жандармам. Костлявое коричневое лицо жандарма раскололось на две части в белозубой волчьей улыбке, когда он отдал честь и вышел.
Возвращаясь обратно, он подтолкнул в дверях перед собой молодую девушку. Девушку с волосами цвета некрашеного дерева, подвязанными наподобие хвоста у тибетской лошадки. Мужская рубашка навыпуск с высоким воротом и видавшие виды зеленые вельветовые брюки по щиколотку. Носки гармошкой и испанские веревочные туфли.
– Взгляните только, на что она похожа, – с возмущением сказал Руис. Его идеалом была сеньора Руис, андалузка с иссиня-черными волосами разделенными на прямой пробор, широкобедрая красавица килограмм на восемьдесят.
– Ш-ш! – зашипел на него Давид.
– Не понимает ни звука, – невозмутимо промолвил Руис, продолжая рассматривать ее тщательно и с интересом истого испанца. – Не поймешь – парень или девица, а так морочит голову моим гвардейцам, что я не могу ее больше держать у нас здесь. Можете вы мне это объяснить?
– Они, я надеюсь, ее не тронули? – резко спросил Давид. Вопрос прозвучал по-викториански строго, но был так же нелеп, как корсет с косточками рядом с этой девушкой, одетой, как приверженка экзистенциализма из квартала Сен-Жермен де Пре – но у нее было круглое шведское личико, тронувшее Давида, несмотря на свой надутый вид.
Руис засмеялся.
– Нет – но это уж моя заслуга, а не ее.
Давид пошел навстречу девушке и пробормотал свое имя.
Взмахнув своим белесым хвостом, она вялой рукой взяла его протянутую руку.
– Привет, – сказала она. – Вы швед?
– Да, – ответил Давид, несколько охлажденный ее равнодушным тоном.
– Чудненько. Велите тогда им, чтобы меня отпустили.
– Легко сказать… А почему вы здесь?
– Эти идиоты думают, что я пыталась провезти контрабанду…
– Вас вышлют, если будете оскорблять испанцев! – вскричал Руис. Некоторые слова, к сожалению, интернациональны.
– Вот этот очень нудный, с другими бы я справилась, – кивнула девушка с легкой усмешкой в сторону жандарма. Можно было подумать, что его ударило током.
Круглые девичьи щеки, оказывается, не всегда являются гарантией шведской добротности…
– Ее поймали на месте преступления, – сердито сказал Руис. – Мы делали облаву в автобусе, искали партию кофе, а она, представьте себе, сидит и прячет целый мешок под юбками.
– Но ведь у нее нет никаких юбок, – вставил Давид.
Возражение произвело на Руиса должное впечатление, но девушка сама сразу же опять все испортила.
– Я держала мешок между коленями, только положила на него свой плащ. Но ведь это была только шутка…
Давид посмотрел на нее меланхолическим взглядом.
– Боюсь, в таких случаях у них нет чувства юмора. Зачем вы такое натворили?
– В автобусе было, конечно, ужас как тесно, а мое место оказалось среди целой компании испанских реб… парней. Они все смеялись и кричали, да еще наступали мне на ноги. Потом вдруг подали сигнал, что идут жандармы – а они мне тогда и говорят: сядь вот на этот мешок. Ну я и села. Но жандармы все равно его нашли, и взяли меня и всех парней.
Она привыкла говорить ребята, но стиль требует сказать парни, подумал Давид, переводя ее слова и добавляя кое-что от себя о молодости девушки, о всеобщей разболтанности и о полном незнании законов и обычаев страны.
– Знала она раньше или нет ту компанию в автобусе? – спросил Руис через Давида.
– Никогда их раньше не видела, – ответила она тем же тоном, что и прежде.
– Хм, – произнес Руис. Потом потер себе подбородок и добавил:
– Ну, ладно – честно говоря, думаю, так дело и было. Те-то нам известны… Но все равно – за помощь контрабандистам полагается наказание.
– Знаете, если у вас нет особых возражений, так, может, вам лучше ее отпустить? – спросил Давид. – А то придется нам впутывать сюда консулов, адвокатов – стоит ли?
Руис задумался.
– Спросите-ка ее, сколько у нее есть денег, чтобы заплатить штраф, – сказал он. – Она из богатой семьи?
Девушка вывернула наизнанку карманы своих брючек.
– Переведите ему, что ровно столько же я могу получить из дому. И не стала бы возражать, если бы они оставили меня пожить здесь, в участке, только бы снабжали чернилами и бумагой.
Давид перевел, и Руис заколебался. Он был озадачен, Потом выпрямился и сказал с пафосом:
– Мы, испанцы, – рыцарский народ. Эта женщина нарушила наши законы, но мы не берем с нее штрафа. Сеньор, я вам доверяю: от имени вашей соотечественницы я делаю вам подарок.
Свои слова он закончил поклоном перед остолбеневшим Давидом. Затем прибавил более естественным тоном:
– И ради всех святых, постарайтесь, чтобы она отсюда исчезла!
Девушка перебросила свой лошадиный хвост на спину и засмеялась. Она окинула Давида взглядом с головы до ног, потом с ног до головы; этот взгляд бесстыдно пополз по его коже, по ее нервным окончаниям; ну как, разве не приятно получить такой подарок?
– Сходите за ее вещами, – приказал Руис жандарму. И в первый раз обратился к ней самой: – Сядьте пока.
Она присела на краешек стола, равнодушная и отсутствующая, потом взгляд ее опять задержался на Давиде, в глазах появилось какое-то новое выражение.
– Вы Давид Стокмар!
– Да, – удивленно сказал Давид, он ведь с самого начала так и представился.
– Я не слышала, – я вас не узнала…
– Разве мы раньше встречались?
– Нет, но я должна была вас все-таки узнать.
– Простите, а как зовут вас?
– Наэми Лагесон.
Руис протянул ему паспорт девушки. Он продолжал обращаться с Давидом, как с единственным разумным существом, присутствующим здесь. Давид прочел: Наэми Альбертина Лагесон, родилась 3 апреля 1927 года в уезде Топпелёса, провинции Иёнчёпинг…
Двадцать пять лет? А она разыгрывала из себя семнадцатилетнюю.
Наэми вырвала у него свой паспорт.
– Ни к чему тебе читать там все это об Альбертине и Топпелёсе…
Тебе. Шагала она быстро, как на марше, эта девица. А какое поразительное смешение бесцеремонности и шведской застенчивости!
– А мое имя тебе ничего не говорит? – спросила она почти робко.
Тут у него мелькнуло одно воспоминание, и он сообразил, кто она такая. Наэми Лагесон, да это же имя одной дебютантки-писательницы, в прошлом году она начала печататься. Романа ее он не читал, но припомнил, что отзывы в прессе были хорошие. «Хрупкий и своеобразный талант», – значилось в издательских аннотациях.
– Так что мы коллеги, – улыбнулся он.
Она кивнула и продолжала поедать его своими раскосыми, широко раскрытыми, очень редко мигавшими глазами.
– Может быть, я веду себя как ребенок… Но так занятно повстречать писателя старшего поколения…
Давиду почудилось, что его ударили ногой под ложечку. «Старшее поколение»! Какой жестокий способ обнаружить, что в глазах других ты уже не принадлежишь к молодым дарованиям! Он не мог сдержать в себе протест:
– Еще и десяти лет нет, как я сам выпустил свой первый роман.
– Мне кажется, я читала твои книги всю мою жизнь. И вот ты здесь, настоящий, живой. Так странно.
– И действительно странно, – согласился Давид и невольно рассмеялся.
Жандарм вошел с дешевым чемоданом, перевязанным веревкой. Давиду удалось бросить взгляд на часы: десять минут второго. Поздно даже по испанским понятиям.
– Стоп! – сказал он. – На сегодняшнюю ночь она должна остаться в участке. Сейчас уже все закрыто.
– Ты женат? – спросила Наэми.
Давид проглотил чуть было не сорвавшееся с языка «нет» и ответил: да, женат.
Жаль, – буркнула она лаконично, надула губы, осела как-то в своей мужской рубашке, пошевелила пальцами ног в своих веревочных туфлях.
Посовещались все вместе. Было решено, что жандарм унесет ее чемодан обратно.
– Спокойной ночи, – сказал Давид. – Завтра я за вами – за тобой зайду рано утречком.
– Мужчины всегда врут, – отрезало хрупкое дарование и поплелось за жандармом.
Давид и сержант посмотрели друг на друга.
– Было бы наверно спокойнее – для вас, – если бы ей дали пару месяцев, – покачал головой Руис.
На следующее утро Давид зашел за ней и взял на себя, заботу о перевязанном веревкой чемодане.
Он был зол, бреясь только что, несколько раз порезал себе подбородок, а она выглядела осунувшейся и немытой.
– Куда вы собираетесь идти? – спросил он.
– Куда идти? Я остаюсь здесь. Если выничего не имеете против, – прибавила она язвительно. Но в безжалостном утреннем свете она выглядела юной и растерянной. Дерзкой, но одновременно и испуганной.
– Я тут знаю один дом, где ты можешь пока пожить, – предложил он.
– Там же где…
– Нет, я живу в другом месте.
– Почему ты такой плохой товарищ? – спросила она жалобно.
– Извини, я не знал, что ты мечтаешь именно о товарищеских отношениях.
– Да, плохой товарищ! Да еще так важничаешь.
Тут Давид засмеялся.
– Я буду более естественным, когда ты перестанешь изображать из себя enfant terrible [7]7
Enfant terrible – ужасный ребенок (фр.).
[Закрыть]из асфальтовых джунглей. Паспорт говорит кое-что иное о твоем возрасте и месте рождения.
Она сказала с горечью:
– Мне все ясно. Уродилась деревенской дурочкой, значит, навсегда деревенская дурочка.
– Нет, я не это имел в виду, – произнес Давид более мягко. Несмотря ни на что в ней было что-то трогательное: как только речь зашла о ее больном месте, она сразу стала естественной, хотя ее защитная окраска его раздражала.
– Кофе ты пила?
Нет, кофе она не пила. Они вошли в рыбацкий кабачок Мигеля и заказали черный кофе, горячее молоко и большую тарелку хлеба. Сам патрон стоял в дверях и следил за порядком. У него было что-то с шеей, или со спиной, так что голова была всегда повернута набок и не шевелилась, он изучал людей из-под полуприкрытых век. Свою лысину прикрывал черным беретом и никогда его не снимал. Из принципа говорил лишь по-каталонски и рассматривал испанцев из других провинций своей страны как иностранцев. Поскольку при современном режиме это было довольно рискованно, перед незнакомыми гостями он предпочитал притворяться немым: отвечал пожиманием плеч, подниманием бровей, движениями большого и указательного пальцев.
– А вот тебе и коллега, – усмехнулся Давид, наливая кофе.
– Он писатель?
– Нет, контрабандист.
Ходили в городке слухи, что на протяжении десятилетий Мигель был вожаком контрабандистов Соласа, но его никак не удавалось схватить; только негнущаяся шея служила напоминанием о пуле жандарма. Поговаривали также, что Мигель таким путем нажил состояние, и смог поэтому дать дочерям богатое приданое, а сам содержал в Барселоне дорогую любовницу.
Зато во всем остальном Мигель был добрым католиком и относился благосклонно ко всем процессиям и праздникам, независимо от того, кто праздновал день своего святого-защитника и покровителя – рыбаки, сельскохозяйственные рабочие, таможенники или торговцы. В такой день кабачок закрывался для всех других посетителей и там вкушалась праздничная трапеза. Таким образом Мигель покровительствовал всем святым, а святые покровительствовали Мигелю и умножали его богатства, к обоюдной выгоде.
Наэми Лагесон шутка не понравилась. Легкость и шутливость не были ее сильной стороной.
– Почему этот несносный старикашка стоит и все на нас таращится? – возмутилась она.
Это была правда, Мигель рассматривал обоих своих ранних клиентов с неподвижной насмешливой улыбкой, воткнув кривую самодельную сигару в свою щучью пасть и придерживая ее уголком рта.
Давид повел рукой по направлению к окну, как бы показывая пейзаж, и заговорил безличным ровным тоном:
– Он говорит только на своем диалекте, но оскорбление учуял бы на любом языке.
– А какое мне дело, если он оскорбится?
Давид пытливо посмотрел на нее. Нет, она не принадлежит к тем, кто из деликатности постарается не наступать другим на ноги. Вероятно, она относилась к опасному виду людей, полагающих, что пальцы на собственных ногах лучше всего убережешь, если встанешь на чужие.
– Иностранец, оскорбивший испанца, высылается из страны, – объяснил Давид.
– О, – произнесла она, и было видно, что это она запомнит и будет впредь осторожнее.
– Мне бы хотелось спросить у тебя одну вещь, – прищурился он. – Почему ты вчера разыгрывала Руиса?..
– Кого это? Полицейского?
– Да… Что ты не знаешь испанского. А я заметил, что понимаешь ты довольно хорошо.
Она ответила безмятежно:
– Во-первых, многих слов я действительно не знаю, а во-вторых, мне не хотелось отвечать на их вопросы о том, откуда я и все такое.
– Почему же? Ты что, сбежала, не заплатив по счету? – пошутил Давид, потому что это было самое невероятное, что пришло ему в голову.
Но она кивнула головой и впервые сказала непринужденно и доверчиво:
– Вот именно. Ты тоже так делаешь?
– Ну, знаешь ли!.. – воскликнул Давид.
Она сразу же беспокойно заерзала на стуле и возразила обиженно:
– А что тут такого? Я только делаю, как все…
Некоторое время Давид сидел молча, глядя на нее. Что она, дразнит его, хочет увидеть, как долго он может держать себя в руках?
– Откуда ты явилась? – спросил он. – И кто такие эти «другие», которые делают так же?
– Мы, художники, ведь не обращаем внимания на деньги, – заявила она.
Эти слова можно было принять за богемное легкомыслие, но тут крылось и что-то другое. Что-то надуманное и претенциозное, снобистская поза.
– Деньги «других»?
– У нас у самих ведь их нет, – пожала она плечами и на этот раз победа осталась за ней.
Потом она вдруг без всякого стеснения рассказала, как она и еще один художник по имени Хенрик поехали на Майорские острова, чтобы там поработать. Но на Майорских островах шведских художников было как собак нерезаных, и Хенрик был все время не в духе.
– Он ужасно передовой, но когда дело касается женщин, то, ей-богу, считает, что они нужны только для того, чтобы… обслуживать мужчин, – сказала она, и когда ее слова были циничными, то звучали естественно.
– Так что, он тебе надоел?
Она как-то вся обвисла, лошадиный хвост обвис, прядь прямых волос спустилась прямо на лицо.
– Нет, я ему надоела раньше… Видишь ли, потом деньги кончились, и мы переехали, и так все переезжали и переезжали, и все в более дешевые хаты. В конце концов сняли комнату у одного рыбака…
– Как Мигель?
– Нет, что ты – постель без простыни, масло прогорклое, хлеб, как подметка. Бр-р-р! А потом у нас была жуткая ссора, и Хенрик стал бесноваться, и смылся – от платы за квартиру и от всего.
– Обворожительная личность, – заметил Давид.
– Ты же знаешь, наверно, художники – они все такие, – фыркнула она, пожимая плечами. – А потом я тоже побесновалась и улизнула со следующим пароходом.
– А рыбак?
– Что рыбак? Чего ты на меня так уставился?
Если Давид сердился особенно сильно, то несколько обычных линий исчезали с его лица – тех, что придавали ему иронически-терпимое или замкнутое и углубленное в себя выражение. Оно становилось гладким и жестким, а глаза делались ледяными. Но внутри у него все кипело.
Он жил в Испании уже почти два года – и стал сверхчувствительным в одном отношении. В отношении бедности. Голода. Всех этих людей, живущих в постоянных лишениях. И несмотря на бедственное положение какая сама собою рззумеющаяся честность! Какое живое сочувствие к окружающим! Не раз он наблюдал, как хозяева-испанцы, сами бедняки, помогали молодым художникам, попавшим в затруднительное положение, вплоть до того, что буквально делились с ним последним куском хлеба. А что делал молодой художник? В один прекрасный день получал деньги из дому, и либо уезжал восвояси, либо перебирался в хороший пансионат, поскольку полуголодное существование и последний кусок хлеба были не из приятных и не возбуждали в нем ни малейшего чувства благодарности. А бедняк только и видел свои денежки.
– Я полагаю, все же, что ты должна оплатить тот счет, – сухо произнес он.
Наэми хлебнула кофе двумя длинными и звучными глотками, как бы испугавшись, что он у нее отнимет и кофе.
– Как строго ты говоришь, – сказала она. – Ты что, верующий?
Он был уверен, что она над ним насмехается, – над тем свойством его натуры, которое требовало уважения к закону. По крайней мере к некоторым законам.
– Я ненавижу «художников» подобного рода! Настоящие художники не имеют с ними ничего общего!
– Да, но если нет денег…
– Ты ведь их потом получила! Сколько у тебя?
Она ответила хмуро, надув губы:
– Двести.
– А сколько вы там задолжали?
Она так и завертелась на стуле.
– Не помню…
– Сколько?
– За четырнадцать дней.
– По скольку за день?
– По тридцать песет.
Давид нацарапал на бумажке и умножил. Сто восемнадцать крон…
– Пошли.
– Ты что собираешься делать?
– Потащу тебя за шкирку на почту. Чтобы тот рыбак на Майорских островах получил обратно свои денежки.
– Ты что, не в уме?.. Не буду же я платить и за Хенрика тоже?
– Вытряхни их у него все до последнего эре, когда вернешься в Швецию. С процентами.
Она сказала с сердитыми слезами на глазах:
– Почему тебе жалко рыбака, а не меня? На что буду жить я?
– Ты-то уж найдешь кого-нибудь, у кого сможешь взять в долг, – вздохнул Давид. Увы, он догадывался, у кого именно. Он как раз получил немного денег после матери. Немного, правда, но все же какой-то резерв.
Когда дело было закончено и они вышли от почтовой дамы на цветастом диванчике, Давид вздохнул с облегчением, как будто с него свалилась тяжесть. Он улыбнулся, с некоторым удивлением иронизируя над собой, и повернулся к ней, чтобы объяснить, зачем он вдруг стал ей читать мораль, когда она с уважением и еще с каким-то едва уловимым чувством произнесла:
– Никогда бы не подумала, что кто-нибудь, кроме верующего, может быть таким строгим.
В замешательстве Давид понял, что у нее это не было насмешкой.
– Что ты имеешь в виду? А ты не думаешь, что неверующий тоже может быть честным?
– Нет, но… – начала она и казалась совершенно сбитой с толку. – Там-то, дома у нас, ясно, все знают, что такое грех и проклинают его – но писатели и всякие другие…
Давид улыбнулся:
– Ну, не все же писатели оставили в твоей душе такой горький осадок?
– Я знаю только немногих, – призналась она. – В той компании, куда я попала, когда приехала в Стокгольм, было несколько человек из тех, что пишут в газеты – иногда, если удастся пристроить то, что напишешь – и несколько художников. И все они жили, как придется, часто вместе, а деньги – да денег почти ни у кого и не было.
– А как ты туда попала? И когда?
– Два года назад. Когда приняли мою книгу. Тогда я должна была податься из дому.
– Почему же?
– Ну, понимаешь… мама и все в нашем приходе с ума бы сошли. Это ведь светская книга. Греховная.
Давид опять испытующе посмотрел на нее, но в ее голосе и намека не было на кавычки.
Как все люди, выросшие в очень стесненных условиях, она привыкла считать само собой разумеющимся все то, что относится к ее персоне: «мама», «прихожане», эти слова покрывали такие обширные области на карте ее души, что она даже не находила нужным их объяснять.
Он спросил, как она начала писать. Тут она зажглась:
– Я не могла не писать! Я писала массу, массу, только потихоньку. Никто не понимал, чем я занимаюсь у себя на чердаке, все думали, что я немножко туповата. А потом, однажды вечером – на богослужении – мне было видение.
– Видение?!
– Да. Меня понесло куда-то, люди все исчезли, голоса слышались издалека, только свечки разгорались все ярче, все ярче… Но это не было зовом, призывом к спасению души.
Она содрогнулась с головы до ног, будучи все еще во власти своего таинственного страха.
Он спросил неловко:
– А «видение», «зов» тебе какой был?
– Что я должна убежать и стать писательницей. Большой писательницей, – подчеркнула она, с естественным высокомерием избранной и отмеченной.
Давид долго молчал. Отчасти слова девушки помогали понять ее личность и поведение, – но не тот необъяснимый факт, что к ней пришла удача.
– Мне бы хотелось прочесть твою книжечку, – сказал он. – Она у тебя с собой?
Впервые Наэми покраснела, «как молодая девушка».
– Она у меня здесь, – застеснялась она и начала теребить узел веревки, обвязывающей чемодан, который нес Давид.
– Подожди, мы сейчас придем, – остановил он ее и перешагнул через одну из спящих на дороге собак. – Вот мы и дома.
Они благополучно разминулись со стадом коз, маленькая худая женщина босиком гнала их в этот момент вверх по крутой улице. Козы были тоже маленькие и худые, на зимнем пастбище в горах особенно не разгуляешься, но все они весело семенили на утреннем солнышке.
Женщину прозвали «Поющая Мария», он слышал ее каждое утро. Теперь она тоже пела своим резким голосом какую-то печальную песенку, он мог различить только припев:
Память, забудь, забудь
Того, кого помнишь…
Давид остановился. «…Того, кого помнишь». Наэми тоже остановилась и обернулась вслед козам.
– Взгляни на их безумные желтые глаза, – скривила она губы. – Так и видно, что они злые, эти животные.
– А разве есть злые животные? – удивился Давид, ласково глядя на беременную черную козу, так мужественно и старательно шагавшую вперед по каменистой дороге. Она напомнила ему Консепсьон.
Их встретила старушка, мать самой Консепсьон.
– Добрый день, сеньор. Вот сюда, сеньорита, – приветливо прошамкало вставными зубами маленькое сухонькое древнее существо.
На этот раз над постелью висела икона с изображением самой Мадонны, la Virgen [8]8
La Virgen – Мадонна (фр.).
[Закрыть], с мечом в сердце.
Давид по лицу девушки увидел, как она вздрогнула и оцепенела, увидев олеографию: все религиозные символы, видимо, касались ее, как горячими щипцами.
– Тут у тебя по крайней мере есть крыша над головой, – сказал он и протянул руку, чтобы попрощаться.
– Нет… подожди… а книга! – воскликнула она, в испуге хватаясь за каждый повод, чтобы его удержать.
Из хаотических внутренностей сумки она извлекла на свет божий тоненькую книжицу. Обложка с абстрактным рисунком ничего не объясняла, только давала толчок, указывала исходное положение фантазии.
Он перелистал ее, прочел кусочек здесь и кусочек там: беспокойная образная речь могла бы показаться смешной, но смешной не была, потому что в глубине, в ее засасывающих воронках и водоворотах, таилась взволнованность.
Неужели так может быть, неужели действительно в этих вельветовых джинсах разгуливает настоящий писатель?
Ну что? – спрашивал ее взгляд, ее сжатые в кулак руки.
– Мне хочется прочесть ее как следует, – признался он и засунул книгу под мышку.
Она с облегчением вздохнула, как будто бы выслушала положительную рецензию.
Но тут прилив скромности и естественности ее оставил. Опять она извивалась, опять ее взгляд пополз, как щупальцы присасываясь к его нервным центрам:
– А когда ты покажешь мне город?








