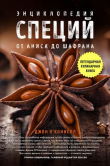Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
А прямо передо мной сейчас женщина в джинсах очень большого размера и туфлях от Gucci набирает пачками лепешки наан [66]66
Наан – лепешки, похожие на лаваш.
[Закрыть]для сегодняшней вечеринки, постукивает пальцами в кольцах с рубинами по прилавку, пока я пробиваю длинный черный хлеб, говорит дребезжащим, как консервная банка, голосом: «Давайте быстрей, я спешу». А сама на самом деле думает в это время о своем сыне-подростке. Он так странно себя ведет в последнее время: ходит с ребятами, которые ее пугают своими бритыми головами, серьгами, байкерскими куртками, тяжелыми бутсами, как будто собрались на войну, своими холодными-холодными глазами и сжатыми в узкую полоску ртами, которые уже становятся его глазами, его ртом. Неужели он… Но ее разум с содроганием отказывается дать этому название даже мысленно – и никакие слои косметики, кремов, румян и густых теней для глаз не могут скрыть ее любви и беспокойства.
Спасибо тебе, богатая женщина, за то, что ты мне напомнила. За сияющей кольчугой, из алмазов она или из золота, – скрывается ранимая плоть.
В уголок ее сумочки, тоже от Gucci, я кладу хартуки – сморщенные семечки формы женского чрева. Хартуки помогает матерям справиться с болью, которой знаменуется рождение ребенка и которая сопутствует матери вечно, – болью, в которую вплетается радость, как голубое на черном.
Суббота обычно нисходит, словно вспыхивает неизданная радуга под сенью черных крыл, распускается, как широкая юбка в индийском танце, кружащаяся быстро и все быстрее. Суббота – как ритм ударных, прорывающихся из наушников молодых людей, что проходят мимо подозрительно медленно, выискивая неизвестно чего. В субботу не остается ни одной секунды, чтобы перевести дух. Так как в субботу я выставляю таблички: СВЕЖАЙШИЙ МЕТХИ, ВЫРАЩЕННЫЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ; РАСПРОДАЖА ДИВАЛИ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ; КИНОНОВИНКИ С ЛЮБИМЫМИ АКТЕРАМИ; ДЖУХИ ЧАВЛА-АМИР КХАН – НА ДВА ДНЯ ПО ЦЕНЕ КАК ЗА ОДИН. И даже смелое: СПРОСИ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ.
Такой наплыв народу в субботу – что, кажется, стены вынуждены сделать глубокий вдох, чтобы вобрать их всех в себя. Вся эта разноголосица: хинди, ория, ассамес, урду, тамил, английский, перекрывающие друг друга, словно кто-то играет на танпуре, [67]67
Танпура – струнный аккомпанирующий (фоновый) музыкальный инструмент.
[Закрыть]все эти голоса говорят мне больше, чем их слова: в них вопрос о счастье, которое никто не может найти. И я, слушая их, должна внимать одновременно и специям, взвешивать их своими руками с коралловыми косточками. Должна сопроводить нужными заклинаниями каждый пакет и пакетик, успевая взвешивать, рассчитывать и пробивать все это в кассе и еще прикрикивать с напускной строгостью:
– Пожалуйста, не трогайте митайс [68]68
Митайс – сладости.
[Закрыть]руками.
Или:
– Если бутылка разобьется, вам придется платить.
Я люблю их, всех моих субботних покупателей.
Но не следует думать, что только несчастливые люди посещают мой магазин. И другие приходят, и их немало.
Папа, посадивший дочку себе на плечи, забегает купить ладду по пути в зоопарк. Престарелая пара: он опирается на трость, она поддерживает его под локоть. Две замужние женщины, вышедшие прогуляться по магазинам и поболтать в хороший денек. Молодой компьютерный специалист, решивший поразить родителей, которые собираются к нему в гости, своим кулинарным мастерством. Они легко переступают порог и, двигаясь между рядами, распространяют вокруг себя легкое сияние.
Смотри-ка, пучки листьев подина [69]69
Подина – мята.
[Закрыть]– зеленых, как леса нашего детства. Возьми и вдохни их острую свежесть – много ли надо для счастья. Вскрой пачку перченых кешью и всыпь сразу целую горстку в рот. Прожуй. Эта острота, сочный хруст за щеками – слезы от удовольствия выступают на глаза. А вот алый, как сердцевина цветка гибискуса, порошок кумкума, которым мазали нам лоб на счастье в браке. А вон там, смотри, смотри: сандаловое мыло из Майсура с ровным ярким ароматом, той самой марки, что ты покупал мне в Индии, когда мы еще только что поженились. О, как хороша жизнь.
Я посылаю им вслед благословение, шепчу слова благодарности за то, что они позволили мне разделить их радость. Но вот уже они бледнеют у меня в памяти, и я уже обращаюсь мыслями к другим. Тем, кто мне нужен, потому что я нужна им.
Ману, которому семнадцать, в куртке кричаще ярко-красного цвета, на пару размеров больше, вбегает, чтобы купить мешок байра атта – просяной муки, по просьбе матери, после чего собирается бежать в школу покидать мяч в баскетбольное кольцо. Сердитый Ману, ученик старшего класса в Высшей школе Риджефильда, в мыслях у тебя: «Нечестно, нечестно». Потому что, стоит тебе только заикнуться о выпускном вечере, как отец орет: «Все это пиво-виски, танцы-обниманцы с дешевенькими американскими девахами в мини-юбках, о чем ты только думаешь?» Ману стоит, раскачиваясь с пятки на носок, в своих безумных флюоресцирующих кроссовках от «Найк», которые он купил на деньги, скопленные за мытье туалетов в мотеле у дядюшки, готовый сорваться с места, было бы куда бежать.
Ману, я даю тебе пластинку кунжутного в черной патоке леденца – гур, [70]70
Гур – пальмовый (тростниковый) сахар-сырец.
[Закрыть]он немного замедлит твой бег, чтобы ты смог услышать испуганную любовь в голосе отца, не желающего уступать тебя Америке.
И Дакша, она входит в своем белом халате медсестры, накрахмаленном, сияющем, как и ее туфли, как и ее улыбка.
– Дакша, что берешь сегодня?
– Сегодня же экадаси, [71]71
Экадаси – праздник в честь возвращения бога Вишну на землю после четырехмесячного сна под землей. В Индии на 11-й день после каждого полнолуния и на 11-й день после каждого новолуния отмечается день экадаси. В этот день постятся во имя Бога, концентрируя энергию и внимание на духовном: медитации, молитве, духовном пении и обете молчания. Существуют разные способы соблюдения экадаси. Одни постятся, употребляя только чистую воду или только фрукты. Последователи Кришны соблюдают экадаси воздержанием от всевозможных круп и бобов.
[Закрыть]вы, впрочем, знаете, одиннадцатый день растущей луны, а свекрови, так как она вдова, нельзя рис. Так что я подумала, может быть, взять дробленой пшеницы и сделать пшеничный пудинг для нее, и – раз уж я здесь – может быть, немного вашего метхи, мой муж очень любит метхи паратхас.
Пока она перебирает ярко-зеленые листья, я смотрю на ее лицо. В тени, где на нее не падает свет, ее улыбка ослабевает. Каждый вечер, приходя домой из больницы, она готовит: раскатывает свежее тесто для чапати, чтобы подать их с пылу с жару, в топленом масле, потому что свекровь убеждена, что еда, полежавшая в холодильнике, годится только для слуг и собак. Варит, жарит, приправляет, разливает, подкладывает, вытирает, в то время как остальные сидят и только бросают:
– Вкусно.
– Дай еще.
Даже муж, потому что, в конце концов, кухня ведь – территория женщины.
В ответ на мой вопрос она произносит:
– Да, со свекровью тяжело, но что поделаешь. Ведь мы должны заботиться о старости. Что будет, если я вдруг заявлю, что не могу все делать. Хотя иногда я думаю…
Она запнулась. Никто давно не слушает Дакшу, так что она уже разучилась выражать свое мнение. А изнутри тихо подкатывают к горлу мощной волной все ужасы, на которые она насмотрелась за день работы. В палате больных СПИДом эти совсем молоденькие ребята, хрупкие, словно дети, на слабеющих ногах. Такая тонкая болезненная кожа, и это жуткое ожидание в глазах.
Дакша, вот тебе горошек черного перца – свари, выпей, и твое горло прочистится, так что ты сможешь наконец сказать «нет» – слово, такое трудное для индийской женщины. Нет, и теперь послушай, что я скажу.
И вот тебе еще, Дакша, пока ты не ушла, амла, чтобы быть стойкой. Амла, я и сама была бы непрочь использовать ее для себя – иногда, – чтобы перенести эту боль, которой не суждено пройти никогда, боль, медленно нарастающая, как грозовая туча, способная, стоит ей только позволить, закрыть целое солнце.
Вот осторожно входит Винод, он владелец Индийского рынка на другой стороне залива. Время от времени он заходит, чтобы проверить, как идут дела у конкурента: он слегка приподнимает пятифунтовый мешок чечевицы привычными руками торговца, чтобы прикинуть, насыпано ли там меньше положенного, как у него, или нет. «Как глупо», – думает он, когда оказывается, что нет. Он чуть не подпрыгивает, услышав мое обращение к нему:
– Как идет торговля, Винод-бхаи? – потому что он и не подозревал, что я знаю, кто он такой. Я протягиваю ему пакет с чем-то зелено-коричнево-черным, объявляя:
– Подарок коллеге, – и прикрываю рукой улыбку, когда он с подозрением принюхивается.
– А, кари патти, [72]72
Кари патти – листья дерева кари.
[Закрыть]– наконец определяет он. Про себя он думает: «Безумная. Это же 2.49 долларов прибыли», и поспешно кладет их к себе в карман, вяжущие листья, высушенные до черноты на стебле, – они преуменьшают недоверие и скупость.
В субботу, когда магазин сотрясается от ударов истерзанных сердец, наполненных желаниями, иногда передо мной возникает картина будущего. Она возникает сама собой. И не то чтобы я полностью ей верю. Я вижу людей, которые должны зайти в мой магазин, но когда – в какой день, год или век – непонятно. Лица видятся смутно, черты размыты, как будто смотришь через бутылку из-под кока-колы. Я не очень раздумываю над этим. Я слишком занята. И с радостью приму все, что бы ни случилось.
Но сегодня свет такой бледно-розовый, как только что распустившийся цветок караби, и на волне индийского радио крутят песню о какой-то девочке с тонкой талией в серебряных сандаликах, а я маюсь в четырех стенах. Такое ощущение, будто чайки кружат в воздухе. Мне хочется распахнуть окно. Я прохаживаюсь вдоль ближайшего к двери ряда полок, глядя на улицу, но там ничего интересного – только какая-то нищенка бродит у бакалейной палатки, да группка мальчишек лениво привалилась к разрисованным стенам салона причесок Мойша. Чей-то голос нетерпеливо зовет меня обратно к прилавку. Длинный низкий аквамариновый кадиллак с острыми плавничками по бокам проносится мимо.
Клиент жалуется, что я пробила покупку дважды. Я извиняюсь. Но на самом деле я пытаюсь вспомнить, был ли Одинокий Американец в тот раз на машине.
Да, приходится признать, он всему причина. И, да – я хочу снова его увидеть. И – да, я огорчена тем, что когда снова приходит мое видение, то, с дрожью вглядываясь в лица приходящих, я не вижу среди них его лица. Он же обещал – говорю я себе и еще больше злюсь, потому что понимаю, что это неправда. Внезапно на меня находит желание смахнуть с полки все митайс на пол, так чтобы ладду и расгуллы полетели в пыль, а сироп в осколках стекла разлился у ног. Увидеть шок в глазах посетителей, от чьих желаний я так устала.
Могу я хотя бы раз в жизни исполнить собственное желание!
Это так просто. Ровно тола [73]73
Тола – англо-индийская единица веса.
[Закрыть]корня лотоса поджечь вечером с пришнипарни, [74]74
Пришнипарни – кустарник семейства бобовых.
[Закрыть]прошептать несколько слов – и он уже не сможет не прийти. Да, и тогда передо мной будет он, а не этот толстяк в круглых очках, бубнящий:
– У меня кончилась чана бесан. [75]75
Чана бесан – гороховая мука.
[Закрыть]
Стоило бы мне только пожелать, и он увидел бы не это старое тело, а такое, какое я захочу – дольку манго положить на ладонь, длинный тонкий срез эвкалиптового стебля. Я призову и других: абхрак [76]76
Абхрак (безан) – порошок морской раковины.
[Закрыть]и амлаки, чтобы сгладились морщины, волосы почернели, а дряхлая плоть окрепла. И короля специй макарадвай, возвращающего молодость. Использовать макарадвай надо с великой осторожностью, ибо чуть больше надлежащей меры – это смерть, но я не боюсь ошибиться, ведь я, Тило, была самой блестящей среди учениц Мудрейшей.
Толстяк что-то продолжает лопотать, его жирный розовый язык шевелится во рту. Но я не слышу его.
Мудрейшая, Мудрейшая. Что бы она сказала, узнав о моем желании? Я закрываю глаза, зная, что не права, мечтая о подобном.
– О тебе я беспокоюсь больше всего, – сказала она мне в день отбытия.
Мы стояли на самом высоком гребне вулкана – только небо надо нами. Огонь Шапмати еще не был зажжен. Сложенный костер темным силуэтом выделялся в сиренево-серой вечерней мгле, мягкой, как крылья бабочки. Далеко внизу волны разбивались белой пеной, неслышно, как во сне.
Как кольца тумана – ее беспокойство вокруг меня.
Мне вдруг захотелось прижать ее к себе, запечатлеть ободряющий поцелуй на морщинистом бархате ее щек. Как будто это я была старшей, а не она. Но я не посмела.
Поэтому сделала выпад:
– Вы мало в меня верите, Мудрейшая.
– Потому что вижу твою природу. Тило, твой блеск – с червоточинкой, ты – как бриллиант с трещинкой, которая может дать разлом в кипящем котле страстей Америки.
– Что это за трещинка?
– Ты слишком любишь жизнь, в тебе потребность все испробовать самой, какое оно на вкус – сладкое или горькое, потрогать собственными руками.
– Мама, напрасно вы беспокоитесь. Еще не взойдет луна, а я уже войду в пламя Шампати, которое сжигает все желания.
Она вздохнула:
– Я буду молиться, чтобы все так и было. – И начертала благословляющий знак в сумрачном воздухе.
– Чана бесан, – говорит толстяк, от него пахнет чесночным рассолом и затянувшимся обедом. – Вы слышите? Я говорю, мне нужно немного чана бесан.
В моей голове жар. Внутри тонкое гудение, как рой пчел.
Толстяк, мне стоит только взять горсть горчичных семян, сказать одно лишь слово – и целый месяц твое брюхо будет гореть в адских коликах, извергая обратно все, что бы ты ни съел.
Тило, разве за этим ты здесь?
В моей голове звук дождя – может быть, слезы специй?
Я прикусываю губу до крови. От боли сознание проясняется, через нее начинают выходить ядовитые мысли из моего будто сведенного судорогой тела.
– Простите меня, пожалуйста, – говорю я посетителю. – Минуту, мешок с бесаном у меня в задней комнате.
Я отсыпаю его в пакет и рисую на нем пальцем руну самоконтроля. Для него и для меня.
О, специи, я по-прежнему ваша Тилоттама, чья сущность – кунжут, дающий жизнь, любовь и надежду. Помогите же мне не отступиться от самой себя.
Одинокий Американец, при мысли о тебе земля уходит из-под ног, но так или иначе, – если ты придешь, то по своему собственному желанию.
Ранним утром он заходит бодрым шагом в магазин, чтобы закупить продукты своей семье на неделю, хотя его сын много раз отговаривал его: в твоем возрасте можно и отдохнуть. Дедушка Гиты и за двадцать лет пенсии не потерял военной выправки майора. Его рубашка выглажена, воротничок с острыми краями стоит как влитой, стрелки на брюках стального серого цвета идеально отутюжены. А его натертые до блеска военные ботинки черны, как ночь, под стать ониксу – камню, что он носит на левой руке для спокойствия духа, как он говорит.
– Но душевного спокойствия у меня ни на йоту с тех самых пор, как я пересек Калапани [77]77
Калапани – черные воды океана.
[Закрыть]и приехал на беду в эту Америку, – поделился он со мной однажды. – Раму, стервец, еще подначивал меня все время: давай, мол, поехали все вместе, что ты будешь стареть вдали от своей плоти и крови, от своей внучки. Но я тебе скажу, лучше уж, чтоб вообще не было внучки, чем такая, как Гита.
– Могу тебя понять, дада, – отвечаю я, чтобы его успокоить. – Но, с другой стороны, твоя Гита такая славная девочка, милая и приветливая, так что, мне кажется, где-то ты ошибаешься. Она много раз была у меня в магазине и каждый раз обязательно брала мои горячие пикули манго и очень вежливо всегда их хвалила. И она такая умная, закончила колледж с одними пятерками – кажется, мне ее мама рассказывала об этом, – а сейчас работает в какой-то крупной инженерной компании.
Узорчатой тросточкой красного дерева он отмахивается от моих комплиментов в ее адрес.
– Может, это и нормально для здешних женщин, но, ты сама посуди, если молодая девушка работает в офисе допоздна с мужчинами и является домой, когда давно уж стемнело, и иногда даже в их машине. Позор – там, в Джаншедпуре, давно плевали бы нам в лицо. И кто бы тогда взял ее в жены? Но когда я сетую на это, Раму только твердит: отец, не волнуйся, они только друзья. Моя девочка знает, что к чему, и не позволит чужестранцам заморочить себе голову.
– Но дада, послушай, ведь это Америка, да и в Индии женщины сейчас уже работают, даже в Джаншедпуре.
– Ну вот, ты сейчас говоришь, как Раму и его жена, это она, Шила, воспитала свою дочь такой избалованной, даже никогда не шлепала, и вот, видишь, что вышло. Да ну и что, что Америка, мы-то ведь остаемся бенгальцами, разве нет? А мальчишки и девчонки, как ни крути, – все одно что масло и зажженная спичка: приблизь одно к другому – и вспыхнет рано или поздно.
Даю ему бутылочку масла брахми [78]78
Брахми – индийский щитолистник.
[Закрыть]для успокоения нервов.
– Дада, – говорю я, – ты и я – мы с тобой стары, для нас настало время молитв, молодые сами разберутся, как построить свою жизнь.
И каждую неделю дедушка Гиты приходит, полный негодования от новых событий.
– Что ты будешь с ней делать, в воскресенье она обрезала свои волосы так коротко, что даже видна шея. Я ей толкую: Гита, что ты творишь, волосы – выражение твоей женской сути. И что, ты думаешь, она мне ответила?
Я читаю ответ в морщинах на его лице. Но в знак поддержки спрашиваю, что же она сказала.
– Она хохочет, а сама откидывает с лица все эти беспорядочные лохмы и говорит: «О, дедушка, мне захотелось выглядеть по-новому».
Или:
– Эта Гита, сколько разной краски она накладывает себе на лицо. Уф, в мои времена только англичанки и проститутки такое себе позволяли. Приличная индийская девушка не стыдится лица, которым наделило ее Небо. Ты не можешь даже себе представить, сколько всего она с собой берет даже на работу.
У него такой возмущенный тон, что меня тянет улыбнуться. Но я только говорю:
– Может быть, вы преувеличиваете. Может быть…
Он прерывает меня, победно воздевая руку.
– Преувеличиваю, говоришь ты. Ха! Своими собственными глазами я видел все это в ее сумочке: тушь, румяна, тональный крем, тени для глаз и вся эта дребедень, не знаю, как она там называется, и помада – такая бесстыже яркая, так что все мужчины пялятся на ее губы.
Или:
– Диди, ты только послушай, что она учинила на прошлой неделе. Купила себе собственную машину! Это же тысячи – тысячи долларов, немереное количество денег, и такой пронзительно-голубой цвет, что режет глаз. Я говорю: Раму, что за ерунда, она ездила на твоей старой – и ничего, а эти деньги нужно было сохранить ей в приданое.
Но этот дурак, слепец, только улыбается, говорит: это ее собственные деньги, которые она сама заработала, и, кроме того, для моей Гиты мы найдем симпатичного индийского юношу, которому не нужно никакого приданого.
– Гита, – тихо зову я, когда он уходит, – Гита, чье имя значит сладкозвучная песня, сохраняй свое терпение, свое чувство юмора, свой вкус к жизни. Я воскурю для тебя цветок шампак [79]79
Шампак – дерево из семейства магнолий.
[Закрыть]– да пребудет гармония в твоем доме. Гита, в которой Индия и Америка слились воедино в новую мелодию, пусть да простит тебя старый человек, что держится за прошлое всей силой своих слабеющих рук.
Сегодня дедушка Гиты снова зашел, но без своей обычной полосатой пластиковой сумки для продуктов, его руки висят безвольно, а пальцы странно неловко разведены от привычки что-то всегда держать и нести. Он немного постоял у прилавка, глядя на митайс невидящим взглядом, и, когда я спросила, что сегодня он берет, он взорвался восклицанием:
– Диди, ты не поверишь! – голос его громок от сознания случившейся беды и нарушенного чувства справедливости, но в нем я улавливаю и низкие частоты страха. – Сколько раз говорил я Раму, никуда не годится так воспитывать детей, особенно девочек – все время во всем потакать, исполнять все капризы. Вспомни, как в Индии и ты, и все твои братья и сестры нет-нет да и получали в свое время парочку хороших шлепков, и потом с вашим воспитанием не было никаких проблем. Разве я меньше любил вас, просто я знал, каков мой отцовский долг. Сотни раз говорил я ему: отдай ты ее замуж сразу, как только она окончит колледж, чего ты ждешь, пока какая-нибудь беда не постучалась в дверь? И вот – дождались…
– Что произошло? – я в нетерпении, мое сердце сжалось от дурных предчувствий, я пытаюсь взглянуть внутрь, но тоннели его разума засыпаны сухими листьями и пылью.
– Вчера получаю письмо от Джаду Бхатчай, моего старого армейского приятеля. Ищет подходящую партию для старшего племянника – превосходный жених, блестящий молодой человек: всего двадцать два – и уже районный младший судья. «Почему бы вам не прислать описание внешности и характера Гиты, конечно, с фотокарточкой, – пишет он, – может, родители согласятся». Хорошие новости, думаю я и благодарю в душе богиню Дургу, и незамедлительно, как только Раму приходит домой, сообщаю ему. Как-то он не очень обрадовался, сказал: «Она же воспитывалась здесь, сможет ли она прижиться в большом семействе в Индии?» А Шила, конечно, запричитала: «О, я не хочу отправлять мою единственную дочь так далеко». Женщина, говорю я ей, ты просто не способна думать. Разве твоей матери не пришлось тоже проводить тебя в дальние края? Ты должна сделать так, как будет лучше для нее. С самого рождения настоящий дом девушки – это семья ее будущего мужа. И разве мы можем найти семью для Гиты лучше, чем ветвь Джада-бабу, старого уважаемого брахмана, которого все знают в Калькутте. «Ну ладно, – сказал Раму наконец, – мы спросим Гиту»
Он на секунду остановился перевести дыхание. Мне так хотелось взять и вытрясти из него суть истории, но я стиснула пальцами край прилавка и терпеливо ждала.
– Да, ну так вот, наша мадам явилась, как всегда, поздно, в девять, заявила: «Я уже поела, помнишь, я говорила, что кое-кто из наших ребят собирался заказать вечером пиццу».
Меня так и подмывало спросить, с каких это пор ты среди «кое-кого из ребят», но заставил себя сдержаться. Ее отец рассказал о письме.
«Папа, – ответила она, – скажи мне, что это шутка, – и смеху-то, смеху. – Можете себе представить меня, сидящей целый день в запотевшей кухне, со связкой ключей на поясе сари». Раму сказал: «Ну ладно, хватит, Гита, все совсем не так, как ты это изобразила». Но я вмешался: «А что, Мисс Гордячка, как же твоя бабушка, да пребудет ее душа у лотосовых стоп Божественного, – разве не такова была и ее жизнь?» Она говорит: «Деда, не принимай мои слова на счет бабушки, просто это не для меня. И – раз уж мы заговорили об этом – свадьбы по уговору родителей лично мне бы не хотелось. Я выйду замуж за того, кого сама выберу».
Выражение на лице Раму было не очень радостным, а брови Шилы начали сдвигаться. Я возопил к ним: «Нет, вы слышите, а я вам говорил – надо было устроить ее в государственную школу-пансион Рамакришны в Чучура». Но тут она меня прерывает, слова срываются у нее с губ, обгоняя одно другое: «Я думаю, сейчас момент не менее подходящий, чем любой другой, чтобы сказать вам, что я уже нашла того, кого люблю».
Позор, никакого стыда – заводить разговор о любви при родителях, передо мной, своим дедом.
После того как прошло первое потрясение, Раму сказал: «Что это значит?», а Шила: «Кто это?» Далее они спросили хором: «Чем он занимается» и «Мы его знаем?»
«Вы его не знаете, – говорит она. Сама вся красная, с трудом сдерживает дыхание, как под водой, и я понимаю, что дальше может быть только хуже. – Он работает в компании, он менеджер по проектам». Затем она замолчала, наверное, на целую минуту. Затем произнесла: «Его имя Хуан, Хуан Кордеро».
«Хай бхагаван, подумать только! – восклицаю я. – Собирается замуж за белого».
«Па, ма, – просит она, – пожалуйста, не расстраивайтесь. Он очень хороший человек, правда, вы увидите, когда я приведу его к нам в гости. Я так рада, что, наконец, сбросила этот камень с души – я уже давно хочу вам сказать». А потом развернулась ко мне и сообщила: «Дедушка, он не белый, он чикано».
«И что это значит? – полюбопытствовал я, но уже с недобрым предчувствием.
Когда она объяснила, я возмутился: «Ты изменяешь своей касте и пятнаешь имя своих предков – выходя замуж за человека, который даже не сахиб [80]80
Сахиб – белый человек.
[Закрыть]и чье племя – сплошь разбойники и бандиты, и никаких «Дедушка, ты не понимаешь», ты думаешь, я не смотрю новостей…»
Шила стала плакать, ломать руки и стонать: «Я не думала, что ты так с нами поступишь, что так ты отплатишь нам за слишком большую свободу, которую мы тебе давали во всем, хотя даже наши родственники предостерегали нас от этого». А Раму сидел в совершенном молчании. У меня же было большое искушение сказать ему: «Ну что, пустил корову на рисовое поле». Но когда я посмотрел на его лицо, сердце у меня так и упало. Я тогда сказал просто: «Раму, посади меня, пожалуйста, завтра на самолет в Индию».
«Папа, – она схватила его за руку, – папа! Скажи что-нибудь».
Он отпрянул, как будто его ударило электрически током. Только желваки заходили на скулах. Я помню, так бывало с ним еще в детстве, когда он приходил в ярость, перед тем как что-то разбить или, например, накинуться с кулаками на другого мальчишку. Его пальцы сжались. Я думал, он сейчас побьет ее, и у меня аж потемнело в глазах, а потом запрыгали желтые звездочки – такие мелкие, как цветы горчицы.
Я уже слишком стар для всего этого, подумал я. Лучше бы это злосчастное письмо заблудилось где-нибудь в нашей индийской почтовой системе.
Но он опустил кулаки. «А я тебе доверял», – сказал он таким голосом, что уж лучше бы ударил.
После этого мне оставалось только закрыть глаза. Вокруг меня поднялся словно бушующий ветер, и в нем вихрем носились слова – от матери к дочери и обратно.
– Ступай в комнату! Я не хочу тебя видеть.
– И не увидишь. Я лучше уйду насовсем.
– Делай, как хочешь. Лучше уж мы с твоим отцом будем считать, что у нас нет дочери.
– Папа, ты тоже так будешь считать? Папа?
Молчание.
– Ладно! Тогда я переезжаю к Хуану. Он давно предлагает. Я не соглашалась, потому что думала все время о вас. Но теперь – так и сделаю.
И Шила выкрикивает сквозь рыдания:
– Иди куда хочешь! Нам все равно! Ты бесстыжая, дрянная девчонка
Дверь хлопнула с таким треском, как будто что-то сломалось. Звуки рыдания усилились, потом затихли. Затем, кажется, двигатель машины заревел, потом взвизгнули тормоза. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что стою один посреди гостиной, и только мужчина по телевизору рассказывал о том, что скоро с океана надвигается большой ураган. Я ушел к себе, но всю ночь не смог сомкнуть глаз.
В подтверждение своих слов он указал на тонкие сосудики – красные проволочки на белках глаз.
– А утром, – спросила я, – как сегодня утром?
Он беспомощно пожал плечами.
– Я ушел, когда все еще спали. Я тут ходил взад и вперед перед дверью, пока ты не открыла магазин.
– Но я-то что могу сделать?
– Я знаю, ты можешь помочь. Я слышал – поговаривали на Бенгальском новом году, и когда старики играли в бридж… Пожалуйста, – гордая седая голова низко опущена, слова просьбы звучат неловко, как чужие, на его устах.
Я растолкла для него порошок из миндаля и шафрана, велела варить в молоке.
– Вся семья должна пить раствор перед сном. Чтобы смягчить слова и мысли, чтобы любовь в глубине души не перекрывалась злостью. А ты, дада, тоже немало постаравшийся в этой ссоре, особенно следи за тем, что говоришь. Ни слова больше о возвращении в Индию. Когда скопится горечь во рту, не выплевывай, а проглоти, заев ложкой сиропа дракша, вот он.
Он все взял, тихо поблагодарил.
– Но я не уверена, что этого будет достаточно. Чтобы лекарство подействовало в полной мере, Гита сама должна прийти ко мне.
– Вряд ли она сподобится, – сухие слова, без тени надежды. Дедушка Гиты ссутулился и весь сжался.
После бессонной ночи одежда на нем висит, словно мешок на огородном пугале.
Молчание разлилось вокруг нас густое, как масло. Пока, наконец, он не прокашлялся.
– Может быть, ты могла бы сходить к ней? – в его голосе появились новые извиняющиеся нотки, нотки сомнения, – я скажу тебе адрес.
– Исключено. Я не могу этого сделать.
Он больше ничего не сказал. Только кинул на меня взгляд затравленного животного.
И тут внезапно, безо всякой причины, я подумала об Американце.
Гита, как и ты, я узнала, как может любовь, словно веревка с шипами, обвиться вокруг сердца и тянуть прочь от всего, что является твоим долгом. И вот я уже говорю твоему деду:
– Ладно, один раз можно попробовать.
Этой ночью мне снился остров.
Мне часто снится остров, но это было другое.
Небо черное и мутное. Как будто нет ни неба, ни моря. Остров потонул в чернильной пустоте, лишенный признаков жизни.
Но я пригляделась – и вижу: под баньяном сидим все мы. Мудрейшая спрашивает у нас выученный урок:
– Каков первостепенный долг Принцессы?
Я поднимаю руку, но она кивает кому-то еще.
– Оказывать помощь всем тем, кто приходит в нужде и тоске.
– Как она должна относиться к тем, кто приходит к ней?
Я снова подняла руку, и снова Мудрейшая спрашивает другую ученицу. Она отвечает:
– Поровну любви ко всем, и ни к кому – больше, чем к другим.
– Какую дистанцию должна она соблюдать?
Я поднимаю руку. Кто-то еще отвечает:
– Не слишком далеко, не слишком близко, на уровне спокойной доброжелательности.
Я в бешенстве вскакиваю. Она что, меня в упор не видит – или она специально меня не замечает – в знак какого-то особого наказания?
– О, Тило, – говорит она, – Тило, всегда такая уверенная в себе, у тебя заранее готов ответ на любой вопрос, вот и скажи мне, что должно случиться, если Принцесса проявляет непокорность, когда она ищет удовлетворения своих собственных желаний?
– Пламя Шампати, – начинаю я, но она прерывает:
– Не с ней. А с другими людьми.
Мудрейшая, про это ты никогда ничего не говорила.
Я открываю рот, но не могу издать ни звука.
– Да, потому что думала, что вам это не понадобится. Сейчас время показало, что это не так. Слушай внимательно, преподам тебе этот урок.
Ее лицо поворачивается ко мне, угрожающе увеличивается и приближается, словно я смотрю в телескоп. Вокруг него все поблекло. И вдруг…
Оно стало пустым! Без носа и глаз, губ и щек. Только зияющий провал там, где должен быть рот.
– Когда Принцесса использует силу для себя, когда нарушает вековечные законы…
Ее голос становится жестче и глуше, в нем лязг цепей о камень тюремных стен.
– …она прорывает тонкую ткань, которая удерживает мир в равновесии, и…
– Что тогда, Мама?
Нет ответа. Черный рот искривился – в гримасе печали или усмешке? Остров вдруг задрожал, земля накалилась. И я услышала рев. Это вулкан, извергающий пепел и лаву…
Мудрейшая исчезла. Все ученицы – тоже. Осталась лишь я. Одна на острове, который перекосился, словно тарелка. Щебень с обожженных скал бьет по мне, как ружейная дробь. Я хочу за что-нибудь ухватиться, но земля голая и гладкая, как стекло. Я соскальзываю с нее в пасть Небытия.
Это страшнее, чем все, что я когда-либо испытала.
Затем я просыпаюсь.
И сама невольно завершаю то, что не договорила Мудрейшая:
– И всех, к кому она относится так, как не должно, ожидает хаос.