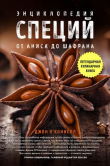Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Фенхель
Вот уже несколько месяцев, как жена Ахуджи не приходила в мой магазин.
Раньше я бы только пожала на это плечами.
– Что же, – говорила Мудрейшая, – ваш долг состоит в том, чтобы только давать нужные специи, остальное – не ваша забота.
Но что-то начало меняться во мне, и, как мне кажется, с того момента как впервые зашел сюда Американец, словно зерно, с которого сошла шелуха, и оно стало влажным и мягким – надежды и печали смертных легко, как лезвие, проникают под кожу. Не знаю, хорошо ли это, теперь ночью я почувствовала беспокойство. Возможно, она не использовала куркуму, может, она не готовит индийскую еду, может, она использует старые специи, купленные где-то еще? Я вообразила себе, как пакет выскальзывает у нее из рук, желтое облачко вздымается в воздухе кухни и опадает мельчайшей золотистой пылью, – все пропало, все зря. Я изо всех сил отгоняю от себя подобные картины, – разве может такое случиться, что специи – а значит, и я – не выполняют свою задачу.
Вместо этого я вспоминаю, как у двери, когда она уже уходила, солнечный луч вдруг упал на ее лицо, безупречно белое, если бы не предательски выглядывающий из-под очков синяк.
– Да пребудет с тобой бог, – сказала я. А она, не ответив, только наклонила голову в знак благодарности, в то время как под черными стеклами выражение глаз говорило: сколько уже месяцев напрасных молитв, как после этого верить.
Внезапно я поймала себя на том, что использую свое видение, как прожектор, и веду его по темной спальне, где она лежит, отвернувшись от сопящего во сне мужа, и холодные слезы капают на подушку, как жемчужинки. Или это обжигающие и соленые ручейки, как кислота, разъедающие ее изнутри. То, что я делаю, запрещено.
– Настройте себя на видение, – учила Мудрейшая, – и вы увидите то, что вам надо узнать. Но никогда не пытайтесь управлять им. Никогда не вторгайтесь в частную жизнь того, кого опекаете. Этим вы разрушаете доверие.
Не на меня ли она смотрела, когда это говорила – в глазах печальное знание.
– Самое главное – не приближайтесь. Вам непременно этого будет хотеться. Пусть вы давали клятвы относиться ко всем одинаково, но все равно появятся люди, которых вам захочется отогреть на своей груди, дать им то, чего им не хватает в жизни. Материнского тепла, дружбы, любви. Но нельзя. Выбрав специи, вы потеряли на это право.
На один шажок ближе, чем допустимо, – и нити, связывающие Принцессу и ее подопечного, обращаются в смолистую и стальную паутину, опутывающую, душащую, затягивающую обоих в пропасть.
Я в это верю. Я сама уже приблизилась к краю и чувствую, как земля осыпается под ногами.
Итак, в ночи я повторяю про себя слова Мудрейшей, отводя внутренний взор от этой квартиры на другом конце города, где голос мужчины внезапно прорезает тишину, как пощечина, этой квартиры – черной дыры, готовой взорваться, – в которую я при желании могу так легко проникать.
Специи, вы ведь защитите ее.
Не проскользнуло ли сомнение где-то в моих словах? Как слабый огонек, едва успевший заняться и тут же быстро развеянный сильным порывом ветра. А услышали ли специи?
Поэтому когда она появилась в магазине этим утром – немного похудевшая, круги под глазами чуть глубже, но выглядит довольно неплохо, и даже робкая, готовая исчезнуть улыбка притаилась в уголке губ при словах приветствия, – я испытала огромное облегчение. Облегчение и светлое, как мед, удовольствие, так что я даже вышла из-за прилавка. И сказала:
– Как вы, моя дорогая? Я волновалась, вас так долго не было.
Даже протянула руку – нет, Тило! – и прикоснулась к ее руке.
Да, специи, ничто не сравнимо с прикосновениями, должна признать я, Тило, новичок в этом таинстве соединения с другим человеком кожей, кровью и костью.
Когда моя рука легла на ее руку – пульсация. Холодный огонь, жаркий лед, и все ее страхи впрыснуты потоком в мои вены. Свет внутри тени, как будто гигантский кулак сжал солнце. Молочно-серая пленка, как плотная стена ливня, заволокла взор.
Эта головокружительная боль – вот что значит быть смертным человеком, лишенным всякой магической силы.
А жена Ахуджи, что она чувствует?
Я слышу, как специи взывают ко мне, как будто горячие ладони давят на уши. Убери руку, убери руку, Тило, пока вы не сплавились.
Я напрягаю мускулы, чтобы оторвать руку, от греха подальше.
Но тут она говорит сокрушенно:
– О, матаджи, я так несчастна, просто не знаю, что делать.
Ее губы бледны, как сдавленные лепестки роз, в глазах – битое стекло. Она немного покачнулась и выставила для равновесия другую руку. И что мне оставалось, как только не подхватить ее, несмотря на запах, угрожающе поднимающийся от досок пола, – запах гари и пепла, – взять ее, крепко сжать и сказать, как мать говорит время от времени своему ребенку:
– Ну, ничего, ничего, детка. Все будет хорошо.
– Матаджи, может, отчасти это моя вина, – говорит она.
Жена Ахуджи сидит в моей кухоньке в задней части магазина, где ей вовсе не следовало бы сидеть.
Моя вина, моя вина. Для скольких женщин всего мира это вечный припев.
– Зачем ты так говоришь, бети?
– На самом деле я вовсе не хотела выходить замуж. Я наслаждалась жизнью, своим шитьем, общением с подругами, с ними мы иной раз выбирались в кино, у меня был собственный счет в банке, достаточный, чтобы ни на что не просить у отца денег. И все же, когда родители спросили у меня, я ответила: «Ладно, если хотите». Потому что в нашем обществе считается позором, если молодая девушка сидит дома не замужем, а я не хотела их позорить. Но до последнего момента я на что-то надеялась. Может, что-то случится, и свадьбу отменят.
Увы, если бы.
– А когда ты увидела своего будущего мужа, – спросила я, подавая ей металлическую кружку с чаем, горячим и сладким, и с ломтиком имбиря для придания ей храбрости, – каково было твое впечатление?
Она сделала маленький глоток.
– Он приехал из Америки только за три дня до свадьбы. Тогда я его и увидела. Хотя, конечно, у меня была фотография…
Она на минуту смолкла, и я подумала, уж не подсунули ли ей фото кого-то другого. Я знала, что такое случается.
– Но когда он приехал, я поняла, что это очень старая фотография, – в это мгновение в ее голосе послышался отзвук пережитого в тот момент гнева. Затем ее плечи опустились, как под тяжким грузом, так было, вероятно, и при первой их встрече. – Было уже слишком поздно все отменять. Приглашения разосланы, все родственники из других городов прибыли, даже в газете уже помещено объявление о предстоящем событии. О, сколько денег вложил в это мой бедный отец, ведь я была его старшая. Если бы я отказалась, дурная слава коснулась бы и моих сестер. Все бы говорили: а, это девочки Чоудхари, лучше с ними не связываться.
Ну, в общем, я вышла за него. Но внутри у меня все кипело. Про себя я кляла его на все лады: лжец, мошенник, свинья. В первую брачную ночь, лежа с ним в постели, я молчала. Когда он стал говорить ласковые слова, я отвернулась. Когда он попытался обнять меня, я оттолкнула его руки.
Она тяжело вздохнула.
Я тоже вздохнула, почувствовав даже некоторую жалость к Ахудже, плешивому и обрюзгшему, который, зная, что он такой, неловко пытается подступиться к девочке, нежной, как молодой бамбук, но способной и дать отпор. Надо думать, он так надеялся (ведь кто из нас этого не желает) обрести наконец тепло и любовь.
– Еще одну, вторую ночь он терпел, – продолжила жена Ахуджи, – затем он тоже разозлился.
Я представила, как все могло быть. Что, если его друзья подшучивали над ним и дразнили его, как свойственно мужчинам: «Ну давай, расскажи, как твои подвиги». Или: «Ого, смотрите, какие темные круги под глазами у Ахуджи-бхаи. Полагаю, женушка ублажала его всю ночь напролет».
Поэтому в следующий раз, когда я его оттолкнула, он схватил меня и…
Она замолчала. Может быть, от смущения, что рассказывает чужой женщине – хотя после всего, наверное, так уже и не скажешь, – то, что нормальные жены ни в коем случае рассказывать не должны. Может быть, от удивления, что уже рассказала так много.
О почти уже Лолита, куркума помогла тебе растворить уста, подобно утреннему цветку, как мне доказать тебе, что нет позора в открытии души. Как показать, что я восхищаюсь тобой.
В ее голове образы, перегоревшие и увядшие, как одежда, которую слишком долго сушили. Твердый локоть мужчины, прижимающий ее к матрасу, колено, раздвигающее ее ноги. А когда она пытается царапаться, кусаться (беззвучно, чтобы домашние в других комнатах ничего не заподозрили о таком позоре), – пощечина. Не сильная, но потрясение ослабило ее, так что он смог сделать то, чего добивался. Но самое отвратительное – поцелуи после всего, поцелуи, оставляющие мокрые следы на ее губах, и его удовлетворенный, раскаивающийся голос в ее ухо:
– Моя сладенькая, милая киска.
И так снова, и снова, и снова. Каждую ночь, пока он не уехал в Америку.
– Я думала о том, чтобы сбежать, но куда мне было податься? Я знала, что случается с девочками, которые сбегают из дома. Они плохо кончают – на улицах, как продажные женщины, с которыми мужчины обращаются в сотни раз хуже. По крайней мере, с мужем я была честная женщина, – при этих словах ее губы немного искривились, – потому что замужняя.
Я не удержалась от вопроса, хотя поняла его глупость еще до того, как последнее слово было произнесено:
– Ты могла бы кому-то рассказать, может быть, маме. Могла попросить не посылать тебя туда к нему.
И тогда она склонила голову, жена Ахуджи, а ранее – дочь Чоудхари – и соленые слезы потекли в чай. Пришлось нарушить допустимое расстояние и вытереть их. Дочь Чоудхари, которую родители воспитали в любви и строгости, определили ее судьбу, втиснув ее в рамки замужества. Они чувствовали ее печаль, но боялись спросить у дочери, что не так, потому что бессильны были бы помочь. И она, улавливая этот страх, хранила молчание, сдерживала слезы, потому что и она любила их, и разве они уже не сделали для нее все, что могли.
Молчание и слезы, молчание и слезы, на всем пути до Америки. Комок поперек горла, пока, наконец, сегодня куркума не распустила узлы и не дала ему выйти.
Час спустя жена Ахуджи все еще говорила, слова ее лились потоком, как через прорванную плотину.
– Да, я все знала, но все же продолжала надеяться, как все женщины, до последнего. А что нам еще остается? Здесь, в Америке, мы хотя бы можем попробовать заново как-то наладить свою жизнь, вдали от посторонних глаз, вдали от гнета общего мнения, диктующего, как должен вести себя мужчина, в чем состоит долг женщины. Но эти голоса все равно мучают нас, засев у нас в мозгу.
Я вижу, какой она была некоторое время назад: жена Ахуджи, пытаясь ублажить своего мужа, шьет занавески, чтобы привнести уют в новую квартиру, печет паратхи, [81]81
Паратхи – индийский хлеб.
[Закрыть]чтобы подать их горячими к его приходу. И он – тоже: покупает ей новые сари, флакончик духов Intimate или Chantilly, нарядные кружевные ночные рубашки, чтобы она в них спала.
Но если молоко уже скисло, может ли весь сахар мира сделать его сладким?
– Особенно в постели, я никогда не могла забыть тех ночей в Индии. Даже когда он старался быть нежным, я была одеревеневшая и безвольная. Тогда он терял терпение и выкрикивал американские словечки, которые успел выучить. «Сука. С тобой – все равно что трахаться с трупом».
А позже даже так: «Наверное, тебя ублажает кто-то еще».
– И вот – в последнее время – он установил правила – не выходить, не разговаривать по телефону, давать отчет о каждом потраченном пенни. Он должен прочитывать мои письма, перед тем как сам отправит их.
И звонки. Весь день. Иногда каждые двадцать минут. Проверяет, чем я занимаюсь. Убеждается, что я дома. Я снимаю трубку и говорю «алло», а на другом конце провода – только его дыхание.
Теперь голос жены Ахуджи стал пугающе тихим, и в нем слышатся слезы:
– Матаджи, я всегда боялась думать о смерти. Я слышала о женщинах, которые кончали с собой, и думала, как так можно. Теперь я их понимаю.
О, уже почти Лолита, это не выход. Но что я могу сказать тебе в утешение, когда сама про себя рыдаю не меньше, чем ты.
– Ради чего мне жить? Было время, больше всего на свете я хотела ребенка. Но разве он будет счастлив в такой семье?
Ослепленная своими слезами, я не могу понять, какая специя может помочь. Об этом предупреждала Мудрейшая.
Тило, слишком близко, слишком близко. Я делаю глубокий вдох, вбирая в легкие воздух, как учила Мудрейшая нас на острове, пока шум дыхания не заглушает все другое в моем мозгу. Пока сквозь красный туман не проявилось имя специи.
Фенхель, специя среды, дня обыкновенных людей среднего возраста. Бросивших следить за фигурой, бросивших улыбаться, под гнетом обычнейшей жизни, которая, как им когда-то казалось, могла быть иной. Фенхель, бурый, как грязь, стебель и лист, танцующие на осеннем ветру, несущем дух перемен.
– Фенхель, – говорю я жене Ахуджи, – это чудесная специя. Возьми щепотку, сырую и цельную, пей каждый раз после еды – он освежает дыхание, способствует пищеварению и придает силы духа для того, чтобы осуществить то, что необходимо.
Она глядит на меня отчаянно. В ее бархатных глазах выражение подавленности, как будто вопрос: и это все, чем ты можешь помочь?
– Также давай это своему мужу.
Жена Ахуджи расправила рукав своей куртас, который задрала, чтобы показать мне очередной синяк, и поднялась с места:
– Мне пора домой. Наверное, он звонил уже тысячу раз. Когда он придет сегодня вечером…
От нее повеяло страхом, так же явственно, как исходит жар от нагретого летом асфальта. Страхом и ненавистью, и еще разочарованием от того, что я не смогла ничего сделать для нее.
– Фенхель остужает пыл, – добавила я. Я хотела бы объяснить больше, но тогда ослабла бы сила специй.
На ее лице обозначилась горькая улыбка неверия. Она жалела, что доверилась мне, сумасшедшей старухе, утверждающей, будто горсть каких-то там сухих семечек может восстановить поломанную жизнь.
– Он положит этому предел, – закончила она, взяла сумку. Сожаления, как кровь, заливают ей мозг.
Она бросит пакет, который я положила между нами на стол, в дальний ящик стола, а то и в мусорное ведро, когда вспомнит в приступе стыда, что она мне тут нарассказывала.
И в следующий раз отправится в другой магазин за продуктами, даже если для этого ей придется ехать на двух автобусах с пересадкой.
Я попыталась поймать ее взгляд, но она отвела глаза. Она повернулась, чтобы уйти, вот она уже у двери. Так что я вынуждена со всей старческой прытью выскочить, догнать ее и еще раз взять за руку, хотя понимаю, что не должна.
Огненные иглы пронзили кончики пальцев. Теперь она остановилась, ее глаза меняют оттенки: то светлеют, как подогретое горчичное масло, то на них набегает тень, как будто она вдруг увидела что-то невидимое для обычного человеческого глаза.
Я хочу дотянуться до пакетика с фенхелем, чтобы вложить в ее руку, но его нет на месте.
Специи, что такое…
Беспомощно я оглядываюсь кругом, ощущая кожей, как жена Ахуджи тревожится и спешит. В какой-то момент я даже испугалась, что специи не дадутся в руки мне, Тило, перешедшей границу дозволенного.
Но нет, вот он, пакет, лежит на стопке журналов «Индия сегодня», куда я точно их не клала.
Специи, вы просто играете со мной или что-то хотите сказать?
Но раздумывать некогда. Я беру пакет со специями вместе с одним из журналов. Протягиваю и то, и другое.
– Поверь мне. Делай то, что я тебе сказала. Каждый день, каждый раз после еды – немного себе, немного ему, а когда все закончится, приходи сюда и расскажи, не изменилось ли что-нибудь. И вот, возьми, почитай. Это тебя немного развлечет.
Она со вздохом кивнула. Это легче, чем спорить.
– И запомни еще вот что, доченька, в любом случае – ничего страшного, что ты поделилась со мной. И никто – муж это или любой другой человек – не имеет права ни бить тебя, ни к чему-либо принуждать против твоего желания.
Она ничего не ответила.
– А теперь иди. И не бойся. Сегодня утром он был слишком занят на работе, чтобы позвонить.
– Откуда ты знаешь?
– Мы, древние старухи, много чего знаем.
Обернувшись у двери, она прошептала:
– Молись за меня. Молись, чтобы я поскорее умерла.
– Нет, – возразила я. – Ты достойна счастья. Достойна уважения. Я помолюсь за это.
– Фенхель, – позвала я, когда она ушла, – фенхель, формой как полуприкрытое веко, подведенное черным, – помоги мне.
Я подошла к ящику, зачерпнула рукой горсть. Фенхель, который Мудрец Вашистха съел после того, как проглотил демона Иллвола, чтобы тот не смог возродиться к жизни.
Я подождала, когда начнется покалывание, чтобы начать песню.
Но ничего не происходит, только острыми своими концами специя кусает мне руку.
– Ответь мне, фенхель, цветом, как пестрый воробей, привносящий мир в тот дом, рядом с которым вьет гнездо, – специя, что помогает нам осознать свое горе, и через это осознание делает нас сильнее.
Наконец, я слышу ответ, но это не песня, а бурчание, волной ударившее мне в голову.
– А почему мы должны помогать, если ты позволяешь себе то, что запрещено. Если ты переступаешь границы, что сама же так старательно очертила вокруг себя.
– Фенхель, уравнитель, если его едят двое одновременно, то он распределяет их силу так, чтобы у них было поровну, я молю тебя, помоги жене Ахуджи.
– Раскаиваешься ли ты в своем проступке, в своем жадном стремлении получить то, от чего поклялась отказаться? Сожалеешь ли ты?
Я вспоминаю снова, как держу в руке ее пальчики, легкие, словно маленькая птичка, и такие же доверчивые. Вспомнила, как вытерла ее слезы, прикосновение мокрых ресниц, ее лицо в моих ладонях – эту живую дышащую кожу. Как защемило сердце, не избалованное живым теплом.
Жена Ахуджи, почти что уже Лолита, я тоже знаю, что такое бояться. Я солгу, если только это хоть сколько-нибудь поможет. Ради тебя я отдам свою жизнь, если придется.
Вокруг меня специи сдержанно, с холодным почтением ждут, как будто и не подозревают, каким будет ответ.
– Нет, я не жалею, – наконец отвечаю я, чувствуя, как становится нечем дышать. Язык деревенеет во рту. Я с трудом выжимаю из себя слова.
И пусть я понесу должное наказание!
Так тихо вокруг, как будто я осталась совсем одна и парю в галактическом мраке. Кружусь и пылаю, и никто никогда не услышит, как в конце концов, взорвавшись, я обращусь в ничто.
– Ну что ж, – наконец слышится голос.
– Что теперь будет?
– Узнаешь, – и голос теперь слабый, далекий, спокойный. – Придет время – узнаешь.
В полумраке вечера я сижу за прилавком и нарезаю кончиком своего волшебного ножа семена калонджи, они размером не крупнее личинки жука-долгоносика.
Это занятие требует предельной сосредоточенности. Я должна произносить определенные заклинания, в то время как острие ножа ровно входит в ломкую жесткую сердцевинку; должна делать вдох и задерживать дыхание, пока не пройду опасный момент. Так что прежде чем приняться за это, пришлось дождаться закрытия магазина.
Я работаю без остановки. К тому времени, как сегодня зайдет Харон – каждый вторник он забегает по пути на вечернюю молитву, – его пакет должен быть готов. Не знаю почему, но до сегодняшнего дня, как только я подумаю о нем, все холодеет и сжимается у меня внутри. Ножик взлетает и падает, вверх-вниз, вверх-вниз. Семена калонджи громко гудят, как пчелы.
Я должна правильно прижать, расщепить каждое семечко ровно наполовину до серединки. Я должна поддерживать нужный ритм.
Немного быстрее – и горошинки разлетятся, медленнее – и незримая цепь, связывающая все расщепленные семена в одно энергетическое целое, распадется, и черная энергия рассеется в окружающем пространстве.
Может быть, потому я и не услышала, как он вошел, и невольно вздрогнула, когда он внезапно заговорил. И почувствовала на своем пальце укол лезвия, как всполох огня.
– У тебя кровь течет, – сказал Одинокий Американец, – я страшно извиняюсь. Мне следовало постучаться или как-то дать знать…
– Все о'кей. Нет-нет, правда, всего лишь царапина.
В голове же стучит мысль: я уверена, я закрывала дверь, точно ведь закрывала…
И: кто он такой, если проходит сквозь двери…
Затем все мысли были сметены искрящейся золотом волной счастья.
Кровь капала с моего пальца на горку калонджи, теперь красно-черную и разрушенную. Но, наполненная золотым счастьем, я не находила в своей душе места для огорчений.
– Позволь-ка… – сказал он и, не успела я воспротивиться, поднес мой палец к губам. И пососал.
Жемчужная гладкость зубов, горячая и влажная атласная поверхность внутренних губ, язык медленно скользит по ране, по коже. Его тело – мое тело – становятся одним.
Тило, могла ли ты даже помыслить когда-нибудь о таком… Я хотела бы наслаждаться этим моментом вечно, но должна вымолвить:
– Зачем же, я сейчас что-нибудь приложу, – и отступить, хотя, кажется, не осталось уже никакой воли.
В кухне я нахожу мешочек с высушенными листьями нима. Намоченные в меде и приложенные к коже, они лучше всего исцеляют раны.
Но я посмотрела на палец – кровь уже не течет, только бледный красноватый порез свидетельствует о том, что что-то вообще случилось.
Может быть, тело, созданное магией и огнем, не кровоточит так, как обычное.
Но про себя думаю:
«Это все он, это все он».
Когда я вернулась к себе за прилавок, он сидел на корточках перед стендом с сувенирами ручной работы и разглядывал сквозь поцарапанное стекло миниатюрных слоников, вырезанных из сандалового дерева.
– Тебе они нравятся?
– Мне все здесь нравится, – его улыбка, словно цветок, раскрывающий лепесток за лепестком, скрывает в глубине что-то большее, чем слова.
Тило, глупо воображать себе, что он видит тебя сквозь магическую оболочку.
Я перебираю пальцами фигурки слоников, пока не нахожу одного – самой тонкой работы: аккуратно прорезаны глазки, ушки, линия хвоста, крошечные бивни слоновой кости остры, как кончики зубочисток. Я вытаскиваю его наружу.
– Я хочу, чтобы ты взял его.
Другой на его месте стал бы отказываться. Он не стал.
Я вложила слоника в его ладонь и пронаблюдала, как смыкаются его пальцы. Его ногти полупрозрачно светятся в тусклом свете магазина.
– Слон – символ обещаний, которые помнят и выполняют.
– А ты всегда выполняешь свои?
О боже! Почему ему пришло в голову это спросить? Я продолжаю как ни в чем не бывало:
– Дерево сандал – для смягчения боли, слоновая кость – для стойкости духа.
Он улыбнулся, мой Одинокий Американец, его ничуть не обманул мой уклончивый ход. Я смотрю, как один уголок его губ пополз вверх, обозначив на щеке упругую ямочку, такую славную, что мне страстно хочется к ней прикоснуться.
Чтобы себя отвлечь, я спрашиваю:
– Зачем ты пришел?
Тило, что если он скажет – к тебе?
– А что, всегда должна быть причина? – он все еще улыбается, нежно-острой притягательный облачной улыбкой, которая еще немного – и унесет меня в какие-то безвозвратные дали.
Я стараюсь придать голосу строгость:
– Всегда. Но только мудрые могут объяснить причину.
– Тогда, может быть, ты мне скажешь, что со мной, – его лицо посерьезнело, – сможешь понять по моему пульсу, как – я слышал – могут индийские доктора. – И он протянул мне худую руку, на которой видно переплетенье лазурных жилок под кожей.
– При чем здесь индийские доктора? – не могла удержаться я, чтобы не сказать. – Наши доктора учатся в медицинских колледжах точно так же, как и ваши.
Но – да простят меня специи – я беру его руку.
Я обхватываю пальцами его запястье, легкое, как невысказанное желание. Его кожа пахнет лимоном, солью и солнцем, обжигающим белый песок. Наверное, это только у меня в воображении мы сейчас будто бы вместе качаемся на волнах моря.
– Леди, леди, что здесь, черт возьми, происходит?
Харон, стремительный, как молния, врывается в дверь, закрывая ее пинком ноги. На его лице написано недовольство и подозрение.
Я отдергиваю руку, как какая-нибудь деревенская девчонка, застигнутая врасплох. И говорю, запинаясь:
– Харон, я и не думала, что уже столько времени.
– Иди пока помоги ему, я подожду, – говорит мой Американец невозмутимым голосом. Он неспешной походкой идет и скрывается в дальнем конце магазина между полок, уставленных пакетами с различными сортами гороха – мунг и урид – и техасским длиннозерным рисом.
Харон провожает его глазами, губы его плотно сжаты.
– Леди-джан, будьте осторожнее, уже темно, а вы пускаете всех подряд. Мало ли кто тут ходит…
– Харон!
Но его понесло – переключаясь на английский, Харон повышает голос так, что он эхом отдается в самых дальних уголках магазина. Его язык делается неповоротливым и тяжелым из-за слов, к которым он не привык. Неожиданно я чувствую стыд за его грубый акцент. Потом еще более глубокий стыд, от которого, как от пощечины, горит лицо, – за то, что стыжусь.
– Как могло оказаться, что у вас дверь не закрыта? Вы не читали в «Индия Пост» – только на прошлой неделе: какая-то банда ворвалась в 7-Eleven! Укокошили хозяина магазина – кажется, Редди его звали – тремя выстрелами в грудь. Не так далеко отсюда, между прочим. Лучше выставите этого парня, пока я еще тут.
Мне страшно неловко, потому что мой Американец, конечно же, все слышит.
– Если он такой весь из себя модный, еще не значит, что ему можно доверять. Я бы даже сказал, наоборот. Я о таких слышал – прикидываются богатыми мальчиками, чтобы задурить тебе голову. Если он и в самом деле богатый и так далее, зачем ему, такому сахибу, с нами якшаться? Держись от них подальше. Послушайте, леди, предоставьте это мне, сейчас я его отсюда выкину.
Я попыталась вспомнить, во что одет Американец, и, к своей огромной досаде, не смогла, – я, Тило, которая всегда гордилась своим проницательным взглядом. Еще больше меня злило, что Харон прав, и Мудрейшая, без сомнения, советовала бы то же самое.
Он сахиб. Не один из нас. Держись подальше.
– Харон, я уже не маленькая и могу сама о себе позаботиться. Я попросила бы тебя не оскорблять моих посетителей, – мой голос резкий и колкий, как ржавые гвозди. Так, значит, звучат слова протеста.
Харон даже опешил. На его щеках выступили красные пятна. Голос стал обиженно-официальным.
– Я только высказал свое мнение. Но вижу, что слишком много себе позволяю.
Я раздраженно покачала головой:
– Харон, я не то имела в виду.
– Нет, действительно, какое право имею я, простой человек, водитель такси, советовать тебе – леди.
– Стой, не уходи! Подожди несколько минут – принесу тебе твой пакет.
Он распахнул дверь, и она издала протяжный скрип.
– На мой счет не беспокойся. Я же не то что он…
– Харон, ты ведешь себя, как ребенок, – огрызнулась я. Знаю, что лучше было сдержаться.
Он подчеркнуто поклонился, еще секунду его силуэт маячил на фоне ночи, разверзшейся за ним, как огромная пасть.
– Кхуда хафиз, [82]82
До свидания.
[Закрыть]всего наилучшего. Мулла уже начал службу, пора уже, наконец, перестать опаздывать.
Дверь защелкнулась за ним, так тихо и непререкаемо, что я не успела прокричать ему вслед:
– Кхуда хафиз, да защитит тебя Аллах.
Обернувшись к прилавку, я увидела тебя, красно-черный калонджи, сначала приготовленный для Харона, теперь испорченный моей кровью, рассыпавшийся по прилавку темным пятном. Молчание тяготит больше, чем упрек.
Я минуту глядела на тебя, затем смела в подол сари. Отнесла к мусорному ведру.
Потеря. Легкомысленная, непростительная потеря. Вот что сказала бы на это Мудрейшая.
Во мне поднимается печаль горячими серными парами. Печаль и какое-то еще чувство, которое я не решаюсь определить – вина, или, может, отчаяние.
Позже, – пообещала я себе, – разберусь с этим позже.
Но, подходя к дальним полкам моего магазина, где ждал мой Американец, я уже понимала, что мое «позже» – как пар, нарастающий в кипящей кастрюле, наглухо закрытой крышкой.
– Иногда у меня болит, – говорит Американец, – здесь. Он берет мою руку и кладет себе на грудь.
Тило, он понимает, что делает?
В центре ладони я чувствую биение его сердца. Оно странно четкое, как будто капли воды ударяются о камень. Не похоже на то, что у меня в груди: галоп лошади, безумно несущейся в темноте. Усилием воли я сконцентрировала взгляд на его одежде. Да, Харон правильно заметил: мягкий тонкий шелк рубашки под моими пальцами, темные брюки очень элегантны, облегающая куртка сидит превосходно. Приглушенная глянцевитость кожи на запястье. А на безымянном пальце бриллиант сияет белым пламенем. Но тут же я выбрасываю все это из головы, потому что мне ясно, что его одежда мало что говорит о нем самом. Теперь я только наблюдаю, как бьется жилка на его горле, как смягчается выражение глаз, когда я смотрю в них.
Мы у прилавка, он между нами, как стена: я за ним, он, длинноногий, оперся на него с другой стороны, – да, специи глядят на все это.
– Кажется, с сердцем все в порядке, – выдавила я.
Должно быть, под рубашкой его кожа золотится, как свет лампы, волоски на его груди – жесткие, как трава. Нет. Мне является другой образ: он такой четкий и режущий, что нет сомнений, именно он настоящий. Его грудь лишена волос, она гладкая, как прогретое солнцем еловое дерево, из которого мы на острове делали амулеты.
– Да, так и доктора все говорят.
Одинокий Американец, я хочу узнать о тебе больше. Зачем ты ходишь к докторам, с какого времени у тебе эта боль. Но когда я пытаюсь заглянуть в тебя, то вижу только свое лицо, как отражение в застывшем, как ртуть, озере.
– Может, они и хотели бы мне сказать, что, например, это у меня с головой что-то не так. Но только для них это было бы невыгодно.
Его глаза заискрились смехом, когда я сказала:
– О'кей, я дам тебе одно средство, но только чуть-чуть.
Его волосы отливают, как черные крылья на солнце.
Ты играешь со мной, мой Американец, и я пленена.
Для меня это ново. И от этого я неожиданно делаюсь невесомой внутри старого тела.
– Может быть, тебе нужно немного любви, чтобы исцелить свое сердце, – сказала я, тоже с улыбкой. Удивительно, как быстро я научилась кокетству. – Может быть, в этом причина боли.
О бесстыдная Тило, и что теперь?
– Ты правда так думаешь? – сказал он, став серьезным. – Ты полагаешь, любовью можно вылечить сердечную боль?
Что могу я ответить, никогда не прибегавшая к такого рода лечению.
Но прежде чем я попыталась что-то ответить, он прогнал серьезность смехом:
– Звучит отлично, – и добавил: – Так у тебя есть что-то для меня?
Я на мгновение ощутила разочарование. Но потом подумала: правильно, так будет лучше.
– Конечно, – сказала я уже отрешенно, – как и для всех и всегда. Один момент.
Вслед мне послышалось:
– Стой, я не хочу, чтобы для меня было как для всех. Я хочу… – но я не остановилась.
Во внутренней комнате я подошла к корню лотоса, ощутила в ладони его гибкость, подержала несколько секунд в волнении.
Почему бы и нет, Тило, ведь ты и так уже нарушила все правила.