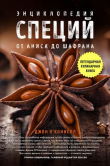Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
…В непроницаемом вечернем воздухе магазина тени обретают форму. Старые желания. Женщина, всем своим существом жаждущая приподняться над собственной жизнью, мальчик, глядящий на маму, и целый мир в его глазах.
Это все говорит мой Американец или я уже сама все вижу его глазами, в своем сердце?
«– Пойми, – произнесла тень мальчика, – не принимай это за подростковые фантазии. Я считал свою маму самым прекрасным созданием. Потому что она действительно была прекрасна».
На мгновение перед моим внутренним взором возникли другие женщины, которых ему случалось мельком видеть, когда они вывешивали одежду на общем заднем дворе. Прищепки в зубах, вздутые животы, обвисшая кожа на руках и шее, обвисшие груди. Мокрые от пота блузки, прилипшие к спинам. Или в школе – учительницы с тонкими губами, усталыми покрасневшими глазами, пальцами, вцепившимися в указку, мел, тряпку – высохшие мумии.
Но она: кружевные манжеты ее ночной рубашки, то, как она делала зарядку по утрам, аккуратно округляя спину, запах одеколона, которым она щедро брызгала шею. У нее было не много одежды, но вся из хороших магазинов. Когда она надевала туфли на шпильках, платье обвивалось вокруг ног при ходьбе, словно у героини из кинофильма. Даже имя – не какая-нибудь Сью, или Молли, или Эдит, как у соседок, а Селестина, которое она произносила нараспев и никому не позволяла сокращать.
Всегда свежевымытые волосы, черный волнистый ореол, как будто сияние вокруг головы, которое мальчику напоминало святых на тех картинках из Библии, что раздавали им монахини в воскресной школе. Иногда она отводила свои локоны чуть назад и скрепляла заколками. Золотыми, серебряными с жемчужинами. Она хранила их в маленькой деревянной резной шкатулке и позволяла ему играть с ними и выбирать, какие ей надеть.
– Она так бережно с ними обращалась, что я и представить себе не мог, что, как выяснилось спустя какое-то время, все они были фальшивыми, – слово прозвучало как жесткий выпад, – и то, что ее волосы вились не от природы. В тот день, когда я обнаружил бутылочку со средством для химической завивки в гараже за пачкой старых газет, я так обезумел, что даже перестал разговаривать с ней, – его голос снова дрогнул, от воспоминания, но потом перешел в раздраженный смешок: – Впрочем, это уже было не так страшно, потому что к тому времени мы и так мало разговаривали друг с другом.
– Подожди-ка, – прервала его я, озадаченная его нетерпимостью, – неужели это могло расстроить тебя до такой степени? Для Америки совершенно нормально, что женщина завивает волосы. Даже я это знаю.
– Потому что к тому времени мне стало известно, для чего она делала все то, что меня так восхищало. Вся эта ложь.
– В детстве, – Американец продолжал свой рассказ, – я воспринимал своего отца как некое подобие скалы. А мою мать – как реку, стремящую свои воды с большой высоты. А может быть, я стал их так понимать позже, обращаясь взглядом в прошлое. Тихая сила одного, беспокойная красота другой. А я – я был как звук воды, падающей на камни, звук, который ни с чем не спутаешь, определение, не нуждающееся в дополнительных пояснениях. Так что меня никогда не интересовало, кто были мои предки или откуда я родом.
Мой отец был сирота, выросший во враждебной атмосфере дома его родственников, которые не хотели, чтобы он у них жил. Может быть, поэтому он с такой готовностью поверил моей матери, официантке в придорожной закусочной, где он обычно завтракал, когда она сказала, что у нее никого из родни не осталось. Отсутствие семьи показалось ему вещью вполне реалистичной и ужаснуло его. Может, это и придало ему смелости сделать ей предложение, этой изумительной девушке с волосами, как грива дикой лошади, и взглядом дикой лошади. И когда она пожила немного с ним, она и сама начала верить.
Но может, она верила в это и раньше. А может, поверила, когда ушла, сбежала от них, не оставив даже записки, вроде: «Не ищите меня»; когда она подстригла волосы и уложила их в прическу, когда изменила форму бровей, выщипав их, и накрасила губы; когда взяла себе имя красивое и достойное, какое всегда хотела иметь, – это и было как отрыв от корней, как смерть всего того, что ее связывало с семьей.
…В магазине совсем темно. Полная мгла. Сегодня безлунная ночь, а на улице кто-то разбил фонари, так что даже узенькой полоски света не пробивается сквозь закрытые жалюзи. Я слушаю моего Американца и думаю о том, как темнота изменяет тембр голосов, углубляет их, отрезает их от самого говорящего, так что слова начинают жить своей жизнью.
Американец, как оформить твои парящие в воздухе слова, цветом какой специи окрасить?
– Однажды – мне тогда было около десяти, может, меньше, – продолжал он, – к нам пришел человек. Был будний день, отец на работе. На этом мужчине было старое пальто с оторванным рукавом у подмышки и джинсы, пахнущие животными. Его волосы, черные и прямые, спадали на плечи и выглядели смутно знакомыми.
Когда мама открыла дверь, ее лицо мгновенно стало серым, как старый мешок. Затем она отвела взгляд, твердый, как бетонный порог, на котором он стоял в своих ботинках, покрытых коркой грязи и навоза. Она хотела закрыть дверь, но он позвал:
– Эвви, Эвви, – и когда я увидел ее глаза, я понял, что он называет ее настоящим именем.
В голосе Американца появились высокие удивленные нотки, как у человека, снова окунувшегося в старые детские впечатления.
– Она велела мне пойти в другую комнату, но я все равно слышал режущий звук ее голоса – будто вилкой скребут по тарелке.
– Какого черта приперся! – и это моя мама, которая всегда говорила на безупречном английском и каждый раз мыла мой рот мылом, когда я имел неосторожность сказать «неа». Его же голос гудел все громче и громче:
– Постыдилась бы, Эвви, отворачиваешься от своего народа. Посмотри на себя, ведешь себя как будто ты из них, думаешь, что ты такая красивая и благородная, а твой мальчик даже не знает, кто он на самом деле.
Она дико зашипела на него, чтобы только прервать:
– И что, ублюдок?
После этого я слышал только обрывки: он умирает – ну и что, что он умирает, я ему ничего не должна – потом слова на языке, которого я не знал. И наконец:
– Черт, Эвви, я обещал ему, что найду тебя и сообщу. Я свое обещание выполнил. А ты поступай, как знаешь.
Входная дверь хлопнула, и все стихло. Через довольно долгий промежуток времени я услышал, как она тихо начала что-то делать, спотыкаясь на своих высоких каблуках, как старуха. Я зашел в кухню, и она дала мне чистить картошку. Время от времени я тайком бросал на нее взгляды, пытаясь прочесть выражение на ее лице, желая, чтобы она что-нибудь объяснила про того мужчину. Но она не обмолвилась даже словом об этом. А перед самым папиным приходом она умылась и накрасилась и нацепила на себя улыбку.
Тогда-то я впервые понял, что в душе у моей мамы есть секрет, и она хранит его ото всех, даже от меня, которого любит больше, чем кого бы то ни было.
Рано утром на следующей день, когда отец уехал, она зашла в спальню, а когда вышла, я увидел, что на ней ее лучшее платье: темно-синее с маленькими перламутровыми пуговичками спереди до самого низа, жакет в тон и жемчужное ожерелье, которое хранилось у нее в бархатном футляре и которое она весьма неохотно давала мне трогать.
– Собирайся, мы кое-куда едем, – сказала она.
– А как же школа? – удивился я.
И моя мама, никогда не позволяющая мне пропускать уроки, на этот раз только бросила:
– Ничего, поехали.
Всю дорогу в машине она молчала, не ругалась, когда я настраивал радио или слишком громко включал музыку. Пару раз я порывался спросить, куда же мы едем, но у нее был такой отрешенный и нахмуренный вид, как будто она прислушивалась к голосам где-то глубоко в себе, что я так и не решился. Часа два мы ехали молча. А когда завернули на узенькую улочку с нищими крашеными домиками, раздолбанными машинами во дворах, зарослями одуванчиков и мусором, вываливающимся из мусорных баков, она издала короткий звук, как будто что-то внезапно уперлось ей в грудь, может быть, то же, что мучило ее сомнениями всю дорогу сюда.
Она резко затормозила и вышла из машины, очень прямая и высокая, так крепко сжимая мою руку, что она болела потом еще несколько дней. Мы направились в маленький дощатый домик, внутри которого пахло гнилью, как от сырой одежды, которую слишком долго замачивали. В доме мы сразу же прошли на кухню, причем так, как будто она знала, куда идти. Кухня была забита мужчинами и женщинами, некоторые из них что-то пили из коричневых бутылей, и когда я взглянул на их отяжелевшие мрачные лица, волосы, свисающие безвольными черными прядями и закрывающие лоб, – это было как смотреться в кривое зеркало. Моя мать прошла мимо них, как будто их не существовало. Цокот ее каблуков по расцарапанному линолеуму звучал четко, уверенно. Ее пальцы, сжимающие мои, были мокрые от пота, и я знал, что она чувствует взгляды на перламутровых пуговицах платья, слышит шепоток, веющий по комнате, как морозный ветер, от которого гибнут молодые фруктовые побеги.
…Американец остановился, словно опять пришел к какой-то поворотной точке, наткнулся на стену и не знает, с какой стороны ее обойти.
Я посмотрела на него другими глазами, на его волосы, цвет кожи и форму скул, пытаясь увидеть в нем тех людей, что он описывал. Но он по-прежнему – мой Американец, просто он не похож ни на кого.
– Наконец мы оказались в тесной комнатушке, в нее набилось слишком много людей и там было мало света. На кровати в углу виднелось что-то узкое, вытянутое, прикрытое шерстяным одеялом. Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я увидел, что там лежал человек. Мне он показался непомерно, ужасающе старым. Кто-то пел, тряся чем-то, напоминающим большую погремушку. Я не понимал слов, но ощущал, как звуки пения обволакивают, обвивают, как змейка, всех, кто находится в этой комнате, единым кольцом.
Когда они увидели мою мать, все замерли. Тишина настала так внезапно, как будто тебе шарахнули кулаком по уху. Старику помогли сесть на постели и поддерживали за плечи, чтобы он не завалился на спину.
Он поднял голову с таким усилием, что я почти услышал, как его вялые мышцы заскрипели и растянулись. Он открыл глаза – и в этой комнате они сверкнули ясно, как пятнышки слюды на стене пещеры.
– Эвви, – проговорил он. Слова вышли острые и четкие, как стрела – чего я не ожидал от старого человека. Затем: – Сын Эвви, – зов в его голосе был как объятие. Я хотел тут же подойти к нему, хотя всегда был робок с незнакомцами. Но руки мамы лежали у меня на плечах, пальцы сжаты беспомощно, как лапки маленькой испуганной птички.
Американец сделал глубокий судорожный вздох, как будто пробился через длинный душный туннель. Затем потряс головой:
– Не могу поверить, что я рассказываю тебе всю эту чушь, – попытался он защитить свое мужское самолюбие этим маленьким жестким словом, – и впрямь, этот перечный закусон действует мощно.
Мой Американец, что бы ты ни говорил, это не только специи, но и твое собственное желание, чтобы я тебя выслушала. Верю и надеюсь на то.
Вслух же я сказала:
– Это не – как ты выразился – чушь. Ты сам прекрасно знаешь.
Но вижу, что придется ждать долго, может быть, всю жизнь, прежде чем я узнаю, что же случилось в комнате умирающего.
Но я только наполовину жалею, что он остановился. Его слова уже наполнили собой все пространство магазина, они переливаются уже через край, как неудержимый поток. Его толща давит на меня своей непроницаемостью. Мне самой потребуется время, чтобы выплыть из него и понять, какие границы он стер между нами.
Меж тем как бы я желала ему сказать: я сохраню этот момент из твоей жизни, как нетленную искру в своем сердце. Но внезапно я оробела, я, Тило, что некогда была столь дерзка и самоуверенна. Как бы сейчас смеялась Мудрейшая.
Все, что я могу выдавить из себя, это:
– Если захочешь еще поговорить – моя дверь всегда для тебя открыта.
Он засмеялся тем прежним смехом, легким и насмешливым. Он обводит рукой полки:
– Все это и бесплатная консультация в придачу.
Но при этом смотрит мне в глаза, и глубокий свет в них показывает, что ему хорошо.
Однажды тебе придется признаться, что же ты видишь, когда смотришь на эту оболочку, покрытую морщинистой старческой кожей. Это – что-то истинное, чего я сама в себе не подозреваю, или же какая-то твоя фантазия обо мне.
У двери он спросил:
– Ты все еще хочешь знать мое имя?
Мне почти смешно от такого вопроса. Одинокий Американец, разве ты не слышишь, как мое сердце выпевает в страстном ритме: да-да-да.
Но я заставляю себя повторить слова, которыми напутствовала меня Мудрейшая, перед тем как я покинула остров:
– Только если сам хочешь. Ведь истинное имя хранит силу, и когда ты открываешь его кому-то – то вручаешь ему часть этой силы.
Зачем я говорю тебе то, чего ты не поймешь.
– Ты хочешь узнать мое настоящее имя? Ну что же. Может быть, я смогу правильно определить его среди всех.
– Каким образом? – спрашиваю я, а сама думаю: «Вряд ли».
– Те были даны мне другими, а это я выбрал сам.
Американец, ты снова меня удивил. Я-то полагала, что ты, будучи человеком Запада и так привыкший руководствоваться собственным мнением, не станешь выставлять это в качестве аргумента.
Он помедлил и наконец произнес:
– Мое имя Равен.
И он принялся чертить пальцем ноги узоры на полу, не глядя на меня. В нежном изумлении я вижу, что мой Американец немного смущен своим неамериканским именем.
– Но оно восхитительно, – воскликнула я, пробуя на язык его долгое, как взмах крыльев, звучание. Его запах – жаркое небо, рассветное и закатное, темный вечерний лес, яркий взгляд, дымчато-угольное оперение, – и подходит тебе!
– Ты считаешь? – вспышка удовольствия в глазах, так же мгновенно спрятанного: Равен, ты думаешь, что уже достаточно раскрыл себя для одного дня.
– Ну, а о том, как я это понял, – добавил он, – я расскажу тебе в следующий раз. Может быть.
Я согласно кивнула, я, Тило, на этот раз не разрываемая нетерпением узнать все. Я доверяю им, нерассказанным историям, которые связывают нас, как золотые нити. Его история и моя. Они не пропадут, даже если не будут рассказаны.
– Равен, а теперь я должна открыть тебе свое имя. Поверишь ли ты, если я скажу, что во всей Америке, во всем мире, ты единственный человек, кто узнает его?
Где-то в это время земля взбрыкнула под ногами и раскололась. Где-то вздрогнул вулкан и, пробуждаясь, выплюнул огонь. Ветер обращается в пепел.
«Да» – говорят его глаза, глаза моего Американца, который позволил спасть покрову своего одиночества. Он протягивает свою мерцающую загорело-золотистую руку (где-то рыдает женщина), и в нее я вкладываю свое имя.
Калонджи
Равен ушел. И показалось, что магазин стал слишком просторным. Тишина – будто звон в ушах. Как старый телефон, подумала я и удивилась такой мысли. Вот и сейчас, как и вообще в последнее время, я понимаю, что мой мозг вбирает в себя чьи-то впечатления, не имеющие ничего общего с моим собственным опытом. Оставляют ли их те, кто побывал в одном пространстве со мной? Его ли это воспоминания стали моими?
Я брожу среди полок, стирая пыль, хотя все и так уже чисто, но мне надо чем-то занять свои руки. Чего мне хочется – так это касаться всего, чего касался он. Я с жадностью впитываю то немногое, что есть. Слабый запах мыла от его кожи. Тепло от последнего длительного прикосновения.
Так, в конце концов, я подхожу к обрывку газеты, который он оставил разложенным на прилавке. Я кладу на него руки и закрываю глаза, жду, когда появится картина, показывающая, где он сейчас: едет ли по ночной автостраде, может быть, с открытыми окнами, барабанит пальцами в такт музыке по радио, вдыхает запах невидимого океана, специй в волосах. Но я ничего не вижу. Так что спустя какое-то время ничего не остается, как снова открыть глаза и взять этот листочек, чтобы аккуратно убрать на дно ящика, где хранятся старые газеты.
В этот момент я и увидела заголовок: НЕГОДЯИ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ. А под ним фотография двух белых тинейджеров, скалящих зубы в торжествующей улыбке. Даже расплывчатость фотографии не может скрыть их нахального вида.
И в ту же секунду меня охватило настойчивое желание, инстинктивное, вышедшее откуда-то из глубин сознания, где залегли разные страхи. Тило, узнай, чему они так радуются. Тило, давай! Но вместо этого я сворачиваю бумагу слегка дрожащими пальцами.
Я никогда не читала газет, даже индийских, которые приходят в магазин еженедельно.
А хотелось?
Да, конечно. Я, Тило, чье любопытство и так уже много раз подталкивало меня к тому, чтобы выходить за рамки, предписанные мудростью. Иногда я подношу свежую газету к лицу. Запах чего-то вроде горящего металла поднимается от крошечных черных буковок.
Я отстраняюсь. Не много ли нарушенных правил?
Вот как учила Мудрейшая:
– События внешнего мира не должны волновать Принцессу. Стоит вам забить голову чем-то посторонним, как истинное знание теряется, как крупицы золота в песке. Настройте себя на то главное, для чего вы пришли – поиск лекарства для людей.
– Но, Мудрейшая, не полезно ли будет узнать, что творится во внешнем мире, чтобы понять, почему эта некая жизнь, отданная мне на попечение, стала темой газетной статьи?
Ее вздох немного раздражен, но не гневен:
– Дитя, содержание газеты – шире, чем то, что выхватывает твой взгляд или мой. Углубись в себя, чтобы узнать то, что тебе надо знать. Слушай голоса специй – они назовут нужное имя.
– Да, Мама.
Но сегодня я бы спросила так:
– Мама, не было ли с тобой такого, что все мысли плещутся вокруг, как соленые волны океана, и только один призывный голос – его – громок, словно крик чайки, а остальное кажется тусклым и далеким, как сигналы подводной лодки.
Мама, что же мне делать? Все определенности моей жизни размываются, словно береговая насыпь во время шторма, оставляя лишь песчаные комья.
Моя голова так отяжелела, что я невольно опускаю ее на прилавок, но там этот кусок газеты все еще…
Видение захлестнуло меня резко, как ударом плети по глазам. Молодой мужчина в постели, трубки тянутся от его носа, от рук. Белые бинты на белой больничной подушке. Только выделяются пятнами незакрытые участки кожи – и она темная, как моя. Индийская кожа. Только бледно-голубые сигналы ритмично вздрагивают на экране. Все остальное в палате бездвижно.
Но в голове человека…
Тило…
Однако я уже втянута. Пройдя сквозь оглушительные пласты боли, я оказываюсь у истоков той истории, которая завершилась прочитанным мною заголовком в газете.
В его воспоминании опускается вечер. Бледное солнце скрывается за деревьями, в центральном парке темнеет, людей практически нет, только несколько запоздалых служащих сгрудились у автобусной остановки, с двумя мыслями в голове: «Домой» и «Ужинать». Он опускает красный навес с округлыми наезжающими друг на друга желтыми буквами: У МОХАНА: ИНДИЙСКАЯ ЕДА. Сегодня он припозднился, но это был удачный день: почти все, что приготовила Вэнна, продано, и столько людей похвалили еду, некоторые приводили друзей. Может быть, пора взять помощника и поставить еще один фургончик в другом конце города рядом с новыми офисными зданиями. Наверняка и Вэнна сможет найти приятельницу, которая бы помогала ей с готовкой…
Тут он услышал шаги, шорох опавших листьев, сминаемых ботинками, звук, как будто давят стекло. Почему он такой громкий?
Когда он оборачивается, два парня подошли уже совсем близко. От них исходит нечистый запах, как от затхлого чеснока. Он думает, как все же даже по запаху отличаются американцы от индийцев – даже от офисных, обливающихся одеколонами и дезодорантами. Но вдруг он понимает, что это запах его собственного пота – признак внезапного страха.
Молодые люди острижены почти наголо. Под коротким ежиком волос просвечивает кость черепа, белого, как мерцание в их глазах. Они выглядят не старше, чем на 19 – почти еще подростки. Их обтягивающие камуфляжные майки вызывают неуютное чувство.
– Извините, уже закрыто, – объявляет он и решительно протирает верх фургончика бумажным полотенцем, отбрасывает камешки, которыми закрепил колеса. Будет ли это невежливо, если он уже пойдет, когда они еще здесь стоят? Он попробовал немного двинуть тележку.
Парни быстрым движением преградили ему путь.
– С чего ты вообразил, что нам нужна эта чертова дрянь? – начал один.
Другой слегка наклонился. Как бы ненароком, даже почти изящно, опрокинул аккуратную стопочку бумажных тарелок. Индиец автоматически нагнулся, чтобы поднять их, в голове – сразу две мысли: У них такие мутные глаза – как грязная лужа. И: Надо сматываться.
Тупой носок ботинка заехал в подмышку его выставленной вперед руки – толчок отдался горячим, как расплавленное железо, всплеском боли в боку, и сквозь него он услышал, как плевок:
– Ублюдочные индийцы, оставались бы лучше в своей проклятой стране.
Но боль не так сильна, как он опасался, не настолько сильна, чтобы он не смог подобрать камень и швырнуть в того, который в это время толкал фургончик – тот начал с шумом заваливаться набок, и кабабы и самса, которые Вэнна так любовно скручивала и начиняла, посыпались в грязь. Он с удовольствием услышал «чпок» попадания, увидел, как парень подался от удара назад, увидел до смешного удивленное выражение на его лице. Индийцу стало хорошо, несмотря на то, что было больно дышать, и маленькая пронзительная мысль: сломаны ребра? – всплыла на миг в его сознании. (Он не узнает, что позже адвокат, демонстрируя суду синяк от камня у одного из молодых людей, заявит, что все это затеял индиец, а его клиенты только оборонялись.) На минуту он поверил, что сможет ускользнуть, может быть, добежать до автобусной остановки, спасительного бледного света фонаря, до горстки людей (разве они не видят, что происходит, разве не слышат?), стоящих на остановке. Но тут второй прыгнул на него.
Даже теперь, когда индиец не может толком вспомнить, что произошло (голова дернулась от сокрушительного удара кулаком, одетым в металл), ощущение боли по-прежнему явственно. Боль как непрекращающийся фон всего того, что было потом. Так много видов боли: опаляющая, как огонь, жалящая, как иглы, бьющая, как молот. Впрочем, нет. В конечном итоге все сливается просто в боль, как она есть. (Поганый урод, ублюдок, кусок дерьма, сейчас мы тебя проучим.) Он думает, что зовет на помощь, только получается на его родном языке: бачао, бачао! Ему показалось, что красная татуировка, которую он увидел на плече одного, изображала тот же самый знак свастики, что обычно рисуют на стенах домов в индийских деревнях на удачу. Но, конечно, этого не могло быть (удар по голове, такой сильный, что все его мысли разбились в желтые звездочки), просто это кровавая пелена в глазах, игра покалеченных нервов.
В больничной палате так тихо, боль мерно накатывает и откатывает волнами. К ней он почти уже привык. Только подумал: хорошо бы Вэнна была рядом, так приятно было бы держать ее руку, в то время как на улице небо уже становится чернильно-фиолетовым, как в тот вечер; но ее отправили домой, чтобы она немного отдохнула.
«Только не волнуйся, – сказали врачи. – Не будешь волноваться – скорее выздоровеешь. Мы обо всем позаботимся, а ты постарайся отдохнуть».
Но что поделать, если множество вопросов вертятся в голове, не дают покоя: смогу ли я опять ходить, чем теперь зарабатывать, правый глаз – будет ли он видеть. Вэнна, такая молодая и хорошенькая, с хромым мужем, покрытым шрамами. И снова, и снова: эти два харамис, нашла ли их полиция, бросила ли гнить за решеткой.
Пройдут месяцы, и, когда, сидя у себя дома, он услышит, что их оправдали и выпустили, он будет кричать высоким, стонущим, непрекращающимся животным воплем, будет громить костылями, неистово и с силой, все подряд. Тарелки, мебель, свадебные фотографии в рамочках на стене. Все к черту, к черту, к черту, не слыша, как упрашивает его Вэнна перестать, отбросит ее от себя. Разбитое оконное стекло издает мелодичный звон, магнитофон, на который он копил столько месяцев, мнется так легко под его ударом. Тогда рыдающая Вэнна побежит к соседям, позовет Рамчарана и его брата. Остынь, бхайя, успокойся. Но он бросится к ним, будет хватать их за рубашки, издавать нечеловеческие вопли, и кажется, что они исходят не только из горла, но из его глаз – левый вспухший, с красными жилками, а на месте правого теперь – темный сморщенный провал. Пока, наконец, соседи не сгребут его в охапку, не положат силой на кровать и не привяжут несколькими сари его жены. Тогда он перестанет кричать. Не произнесет ни слова. Ни потом, ни во все последующие недели, ни в самолете обратно домой в Индию, куда посадили его с женой соседи, собрав на билет, потому что в этой стране им больше нечего было делать.
О, Мохан, чье тело и дух сломлены Америкой, я вынырнула из твоей истории совершенно разбитая, обнаружила, что сама сползла уже на холодный пол магазина. Все мои конечности ноют, как после долгой болезни, мое сари взмокло от холодного пота, а в моем сердце непонятно, где кончается твоя боль и начинается моя. Ведь твоя история – история всех тех, кого я полюбила в этой стране и за кого беспокоюсь.
Когда я наконец с трудом поднимаюсь, то пробираюсь, пошатываясь, к ящику с газетами.
Я должна все узнать.
Да, все они здесь. Ворох шелестящих страниц, уводящих в глубь месяцев, лет, я медленно разворачиваю их. Человек, который пришел и видит, что окна его бакалейной лавочки разбиты вдребезги булыжниками, подбирает один, чтобы прочесть привязанную к нему злобную записку. Детишки оплакивают свою отравленную собаку, выбежавшую из надежного укрытия их загородного дома. Женщина идет по тротуару, а с плеч ее внезапно срывают шаль, и мальчишки с гиканьем и смехом уносятся прочь в своей машине. Мужчина глядит на свой обуглившийся мотель, сгоревший со всеми сбережениями, а от него поднимается дым, закручивающийся в иероглиф, который можно читать как «поджог».
А я знаю, что есть и другие истории – и их бесчисленное множество, не сосчитать, – они никем не описаны нигде не напечатаны, они просто колеблются, горькие и темные, как смог, в воздухе Америки.
Сегодня вечером я снова буду резать семена калонджи для всех тех, кто пострадал в Америке. Для всех – и особенно Харона, беспокойство о котором беспрестанно гложет меня, а когда я произношу его имя, чувствую, что сердце готово разорваться. Я запру дверь и не сомкну глаз всю ночь, чтобы следить в полумраке, как поднимается и опускается ножик, ровно и четко, как вдох и выдох. Чтобы, когда он завтра придет (завтра ведь вторник), протянуть ему пакет и сказать: «Да хранит тебя Аллах, в этой жизни и всегда». В наказание себе в этот раз во время работы я не позволю себе думать о Равене, я, Тило, и так постоянно во всем себе потакаю. Вместо этого всю ночь напролет я буду читать очистительные молитвы за увечных, за каждую потерянную руку или ногу, за потерянный дар речи. За каждое замолкшее сердце.
Сегодня день тянется медленно, каждое движение, как будто пробиваешься сквозь толщу воды, дается с трудом. Свет кажется мутно-зеленым, как будто еле просачивается откуда-то издалека. В этой мути лениво проплывают между полок посетители, затем подходят и вяло опираются локтями на прилавок. Их вопросы – пузырьки, которые лопаются, едва доходя до моих ушей. Мои конечности еле движутся, как будто обволакиваемые скользкими водорослями, что мерно покачиваются в ритме со своим подводным адажио, слышным только им.
Только внутри все живет и бьется еще более неистово, еще более беспомощно, чем обычно.
Практически вся жизнь Принцессы – это ожидание, бездействие. Пусть так думает кто угодно. Только не я – мне нужны ответы сразу на все вопросы, мне нужно получить инициативу немедленно, выстрелом инъекции в вену.
Когда-то давно Мудрейшая изрекла:
– Сила – это слабость. Подумайте над этим, Принцессы.
Она часто изрекала подобные мудрости:
– Чем больше счастье – тем страшнее потеря.
– Если смотреть на солнце – темнеет в глазах.
Что-то еще, что я уже позабыла. Она отводила утро на то, чтобы мы обдумали смысл ее слов.
Мои сестры-принцессы взбирались на крутые гранитные склоны в поисках укромного уголка. Некоторые сидели под баньяном или залезали в пещеру. Там, в тишине, они сосредотачивали все свое внимание на том, чтобы проникнуть в смысл сказанного.
Но мне лень было разгадывать загадки, и я проводила все это время, играя в море, пытаясь поймать переливчатую рыбу.
Если я и успокаивалась ненадолго и замирала, вглядываясь в мерцающую линию горизонта, так только потому, что надеялась разглядеть там моих морских змеев.
В полдень Мудрейшая спрашивала нас:
– Итак, Принцессы, вы что-нибудь поняли?
Я всегда первой трясла головой, говоря «нет».
– Тило, ты даже и не пыталась.
– Но, Мама, – возражала я без тени смущения, – другие пытались и все равно ничего не поняли.
– Ах, дитя.
Но нетерпеливо ожидающая, когда нам откроют свойства и силу следующей специи, я мало обращала внимания на разочарованность в ее голосе.
Сегодня, Мама, я наконец прозрела. Смутно, в этом воздухе, в котором пахнет копотью и смолой, я начала понимать. Сила – это слабость.
Но тут зашел Квеси и спас меня от моих мыслей.
Какое удовольствие наблюдать за Квеси, когда он делает покупки, решила я.
Он все делает очень точно, ни одного лишнего телодвижения.
Легкий сгиб локтя, чтобы достать пакет, коробку. Мышцы спины расправляются, потом снова сжимаются, когда он наклоняется поднять мешок; пальцы, просеивающие чечевичные зерна, с четкой целью: проверить, попадаются ли поврежденные или мягкие среди других – жестких и чистых.
Не торопясь, но и не задерживаясь во времени, его тело движется спокойно и осознанно.
Мне ясно, какой бы из него вышел прекрасный учитель, хорошо знающий цену боли.
В голове у меня, как листочек, разворачивается идея.
Квеси кладет покупки на прилавок. Сегодня он берет цельную фасоль мунг, зеленую, как мох. Пластинку сушеного тамаринда. Кокос, который, как я себе воображаю, он разобьет на две половинки ребром ладони – его рука вихрем прочертит полукруг в воздухе его кухни.
– Хочешь сделать фасолевый суп с кокосом? Смело!
Он кивает. На лице его появляется полуулыбка – этот человек не будет улыбаться, если ему и в самом деле не хочется улыбнуться – и ничего не отвечает.
Все хорошее последнее время заставляет меня вспомнить о Равене. Хотя под кипящей во мне радостью скрывается страх: когда я увижу его снова и увижу ли вообще? Ни в чем нельзя быть уверенной. Мне, прочно осевшей в своем магазине, остается только ждать и надеяться.
– Это для моей леди, – говорит Квеси, – иногда мне хочется приготовить что-нибудь новое и необычное для нее. Считаешь, это слишком сложно?