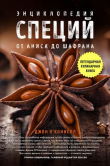Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Что-то в комнате изменилось, она сразу это почувствовала. Что-то или прибавилось, или убавилось, лишив все некоего баланса. Тревога пощипывает горло.
Кто здесь побывал, что ему было нужно?
Затем она видит его у своих ног – как она могла не заметить сразу – от него исходит холодное фосфоресцирующее свечение. Кристалл.
Она поднимает с пола маленький ледяной кубик и удивляется тому, как он невинно покоится на ее ладони, алум-очиститель. Однако известно, что, неправильно использованный, он может принести смерть. Или даже и того хуже: смерть при жизни, когда вся воля и желания заключены внутри тела, обращенного в камень.
Алум, пхаткири, какое послание у тебя для меня?
Она медленно и задумчиво пробегает пальцами по гладкой поверхности. И он является – колеблющийся образ выходит из камня, поднимается над рукой. Обретает неумолимую четкость. И тогда. Весь воздух. Уходит. Комната, словно сеть, скручивает ее, бело-голубые прожилки со всех сторон – или ей только чудится.
Она пробегает по кубику пальцами еще раз. Еще раз, потом еще. Нет ошибки. Это они, явные, как гром, ясные, как молния, – очертания огненной птицы, какой она видела ее тысячу раз на острове, только перевернутая, так что она не восстает из пламени. А – головой вниз – падает в него.
– Пламя Шапмати отзывает меня, – шепчет женщина, – вспоминая уроки на острове. Ее голос стар и без тени надежды. Она прекрасно знает: возражать бесполезно. Убежать невозможно. У нее осталось только три дня и три ночи.
Я запираю за собой дверь магазина, мои руки действуют уверенно, будто только что в моих мыслях не прокатилась песчаная буря, взвихрив их и стихнув. Вешаю на дверь табличку «Закрыто».
Думай, Тило, думай.
Только 72 часа, секунды бегут сквозь сложенные чашечкой ладони, как серебряная влага, все стремительнее.
Нет, нет. Думай, что тебе нужно доделать, кому помочь – прежде чем…
Прежде чем я сделаю то, что, как я считала, мне больше никогда не придется делать, – зажечь пламя Шампати и войти в него. Но на этот раз не под взором охраняющей тебя Мудрейшей. Да, Тило, ты нарушила столько правил, что сама уже удивлялась, как специи до сих пор не…
Стой, Тило. Обдумай свои дела одно за другим и о себе вспомни в последнюю очередь. Подумай о Хароне.
Я закрываю глаза, принуждаю дыхание замедлиться, проговариваю слова воссоздания памяти. И вот он.
Харон в каком-то незнакомом районе, в каком-то заброшенном районе, где здания в сумраке словно припали к земле, и ночная мгла густа, как и голос на заднем сиденье, указывающий ему, куда ехать – налево и снова налево. Харон ведет свое такси, желтое, как подсолнечник, такое беззащитно желтое на этих улицах, где только ночлежки, и тусклые огни мутно высвечивают пятна и выбоины на дороге. Харон думает: но здесь же никто не живет, думает: я бы отказался, но он дал двадцать долларов сверх суммы, и все сразу вперед…
– Остановись здесь, – велит человек на заднем сиденье, и Харон различает, как что-то в его голосе меняется, и видит в занесенной руке изогнутую черную штуковину. Начинает кричать: «Нет, не надо, не надо, можете забрать деньги». Но затем – только ливнем сыплются звездочки, серебристо-горячие, жалящие глаза, рот и нос. Сквозь них он слышит, как руки ощупывают карманы, резко дергают дверцу бардачка, раздраженный вскрик: «Ну, хватит, пора кончать». Где-то совсем близко тормозит машина, нет, это мотоцикл, в чьем гуле он растворяется, растворяется…
И я тоже растворяюсь – в этой злобе, в которую никогда не позволяла себе проникаться до сего момента. Злобе, прожигающей все внутренности, злобе, красной, как тлеющие угли, как взорванное сердце вулкана, как разъедающий глаза запах паленого перца. Зато теперь я знаю, что делать.
Во внутренней комнате мне не требуется включать свет. Открывать глаза. Мои руки ведут меня туда, куда нужно.
Горшочек с красным перцем удивительно ярок. Я беру его в руки и секунду стою в колебаниях.
Тило, ты ведь знаешь, с этого момента не будет пути назад.
Сомнения и еще сомнения теснятся в груди, скребутся, требуют разрешения. Но мне вспоминается лицо Харона, а за ним – и лицо Мохана с его слепым зиянием вместо глаза, перед ним – и другие в ряду несправедливостей, начало которого скрывается в бесконечности…
Печать сорвать оказалось легче, чем я предполагала. Я просовываю руку внутрь, трогаю похожую на бумагу поверхность, слышу нетерпеливый гвалт семян.
О, ланка, что так долго ждала такого момента, я возьму и брошу на квадрат из белого шелка все стручки, кроме одного. Его я оставлю на дне, для себя, так как мне самой он скоро тоже понадобится. Я завязываю концы ткани в слепой узел, который нельзя развязать, а можно только разрезать. Держа узелок в руках, я усаживаюсь лицом на восток, откуда приходят бури. И начинаю преобразующее заклинание.
Заклинание сначала медленно растекается по полу, затем набирает скорость и силу. Оно возносит меня так высоко, что солнце пронизывает мою кожу своим трезубцем. Облака ли это, шепот ли дождя. Оно свергает меня на дно океана, где слепая рыба цвета ила скользит в тишине.
Заклинание – как туннель, по которому я двигаюсь, и внезапно в конце его меня ждет нежданное лицо.
Мудрейшая.
Заклинание закручивается в кольцо, как дым, зависает мгновение в неподвижности, давая мне время, чтобы спросить.
– Мама…
– Тило, тебе не следовало открывать красный горшочек…
– Мама, пришло время.
– …не должна была бросать эту энергию в город, в котором и так слишком много злобы.
– Мама, гнев красного перца чистый, безличный. Разрушения, чинимые им, – это очищение, подобное танцу Шивы. Разве ты сама не говорила нам это?
В ответ она только произносит:
– Есть лучшие способы помочь тем, кто приходит к тебе.
– Другого способа не было, – говорю я с раздражением, – поверь мне. Эта страна, эти люди, то, какими они стали, то, что они делают… Ох, качаясь в безопасной колыбели своего острова, разве ты можешь понять?
Но я вижу, что она не может меня расслышать. Также я вижу новые линии, которые прорезали на ее лице старость и беспокойство. Болезненные мешки под глазами.
– Тило, времени нет, я хочу сказать тебе то, что должна была сказать раньше. Кем я была до того, как стала Мудрейшей. Принцессой, как и ты. Как и ты, бунтаркой…
Заклинательная песнь беспокойна, она снова оживает, и я, поскольку связала себя им, должна продолжать.
– …как и ты отозвана. Я тоже была вынуждена ступить в пламя Шампати во второй раз, – она подняла свои побелевшие от огня руки и показала мне. – Но я не погибла.
Меня влечет дальше все быстрее, ветер свистит в ушах.
– Стой! – кричу я. Я так много должна спросить. Но сейчас я должна следовать заклинанию. Издалека слышу ее затухающий голос:
– Может быть, тебе тоже будет позволено пройти и не погибнуть. Я вложу в это все силы, что у меня еще есть, и вступлюсь за тебя. Вытащу тебя обратно на остров. Тило будет Мамой для новых Принцесс.
Я открываю глаза и сначала не в силах понять, где я и кто я. Вокруг меня – совершенная тишина, все растворилось – ни формы, ни цвета, и заклинание исчезло, рассеялось в воздухе. Единственное, что я помню, – голос Мудрейшей. В нем – обещание, хотя и с тенью сомнения.
Вопросы жалят меня, как слепни. Мне, Тило – стать новой Мудрейшей: возможно ли это, хочу ли я, могла ли себе представить? Такая власть, такая огромная сила, и все это – мое.
Затем тяжесть в моих руках возвращает меня к действительности.
Узелок теперь какой-то другой, он сделался тяжелее. Плотнее и основательнее. А через ткань едва различимо пробивается свет. Каким-то образом перец подстроил свои формы под мою руку, так что узелок в ней словно влитой. Я ощущаю сквозь ткань гладкие округлые формы, изгиб черенков в форме запятой, за который так легко ухватиться. Мое дыхание учащается.
На миг я чувствую искушение. Но нет. Только Харон раскроет его.
К тому же мое стучащееся сердце уже сказало мне (о восторг, о сострадание и страх), что специи дали Харону как самое верное средство.
Я сижу, потрясенная, прислушиваясь к своему сердцу, к тому, как настойчиво и неровно оно стучит, с какими-то остановками. Затем понимаю: это не только мое сердце – кто-то стучится в дверь. Я с трудом заставляю двигаться свои одеревеневшие ноги, чтобы встать и пойти открыть. С удивлением замечаю, что на улице уже вечер.
Тило, вот и еще один день прошел.
Снаружи ждет Гита, от волнения в уголках ее глаз скопились черные тени, словно следы от размазанной туши.
– Я стучала и стучала, но никто не открывал. Потом увидела табличку и подумала, что, может быть, перепутала день. Я уже собиралась уходить.
Я беру ее за руку. Где жжение, словно от раскаленного железа, где покалывание ядовитых игл? Ничего этого нет. Вот какой прогресс по сравнению с первым разом, жена Ахуджи, и как много времени прошло с нашей встречи, но сейчас все же пока не время о тебе думать.
А хорошо это или плохо, что все так изменилось, – теперь уже сложно судить.
– Молодец, что не ушла, – говорю я и тяну ее за собой во внутреннюю комнату. Но прежде чем успеваю объяснить ей свой план, слышу, как кто-то еще подходит к двери и нетерпеливо стучит.
– Веди себя, как сочтешь правильным, – шепчу я, прикрывая дверь, – это все, что остается тебе, так же как мне.
Но внутренне я уповаю на специи. На непредсказуемое человеческое сердце.
– Ему действительно очень плохо, – говорит отец Гиты. Он опирается всем своим весом на прилавок, руки сжаты, как будто они у него тоже болят. Мужчина, лицо которого в иное время могло бы быть приятным, лучась добрыми и задорными морщинками. Человек, что просто хотел жить мирно и счастливо в своем доме с отцом, дочерью, – разве же это много…
– Отец – ну вы его знаете. И тошнит его, и скрючило от судорог в три погибели. А все такой же упрямый, – он трясет головой. – Кричит: «Не отправляйте меня в больницу. Раму, душой твоей умершей матери молю тебя, не отправляй меня к чужеземным докторам, не знаю, какую дрянь они там мне подсунут, так что я вообще сойду с ума и умру. А вместо этого пойди к старой женщине в Магазин Специй, она знает в этом толк, она скажет, что делать». И зачем я его послушался, не понимаю. Сейчас он уже был бы в госпитале, – он смотрит на меня так, будто это все моя вина.
Он и не подозревает, что в каком-то смысле это так.
– Я помогу тебе, – говорю я, более уверенная на словах, чем внутри.
Он держит себя натянуто, еще не готов поверить.
– Никогда не думал, что когда-нибудь придется сказать подобное, но это просто не жизнь, а какая-то череда несчастий. Если бы вы только знали все, что свалилось на нас в этом месяце.
Ох, Раму, я знаю.
Он вздыхает:
– Не представляете, как я устал от всего этого.
– Понимаю вас, я и сама тоже иногда так себя чувствую, – говорю я, ведь я пришла, чтобы, помогая людям, самой проникнуться их страданиями.
Он делает беспокойное движение. Хватит обмена любезностями.
– Ладно, что же вы мне дадите?
– Оно лежит в складской комнате, – начинаю я, – помогите мне вытащить его.
– Ну, хорошо, давайте, – мысленно он трясет головой, думая: что за глупость. Лучше бы пошел в аптеку.
– Извиняюсь, здесь нет электричества. Идите первым, вот вам фонарик, – продолжаю я, – посмотрите там в углу.
– Как это выглядит?
– Вы сразу узнаете, когда увидите. Точно вам говорю.
Овальный круг света двигается вверх и вниз, вытягивается и сокращается, проходит по полу и стенам. Замирает.
Я слышу резкий вдох, пронзительно-острый, как осколки битого льда – его и ее.
Я закрываю дверь.
У прилавка я крепко зажмуриваю глаза. Тило, сосредоточься. Мне остается надеяться, что в это время у себя дома, лежа в кровати, старик вместе со мной также направляет всю свою мысленную энергию на этих двоих.
Шип кантак, помогающий извлечь предыдущие занозы, как это произойдет? В норе ненависти так уютно? Маску правоты так сложно отнять от лица?
Трясущимися руками я зажигаю палочку редчайшего благовония кастури, на аромат которого сквозь лес безумно несется дикая лань, не зная, что это подстроенная человеком ловушка…
Как сложно признать вину. Сказать: я был не прав. Иногда так же трудно, как сказать: я люблю.
Отец и дочь находятся там так долго – что сейчас между вами: сможете ли вы перейти через боль, что глубокой расщелиной легла между вами, разъединив две ваши жизни, чтобы приблизиться на расстояние вздоха?
Звук распахнувшейся двери как шлепок. Он выходит. Один. Я замираю на вдохе, пытаясь вглядеться, что за ним.
Что он с ней сделал?
Немного припухшие веки, глаза как узкие щелочки. Что с его губами? Голос высокий и резкий, как острие ножа:
– Старуха, ты думала, такая дешевая шутка сработает? Что так вот просто можно снова восстановить семью, которую разрушило неблагодарное дитя?
Запах благовония, слишком сладкий, внезапно становится удушающим. Я бросаюсь мимо него во внутреннюю комнату, но он ловит меня.
В голове проносится мысль, легкая, как брошенная горстка семян. Меня он тоже убьет? Я почти желаю этого.
Но он крепко обнимает меня, смеясь, а позади него из двери показывается лицо Гиты, тоже смеющееся, мокрое от слез.
– Простите меня, бабушка, – извиняется он, – я не мог удержаться, чтобы не отомстить вам за этот фокус, подстроенный вами вместе с отцом. Но все равно большое спасибо.
А она: нет слов, но влажная щека, прижавшаяся к моей, говорит мне значительно больше.
Я не могу унять дрожь в руках и говорю, тоже сквозь смех.
– Зачем так издеваться над старой женщиной? Еще немного – и это меня пришлось бы отправить в госпиталь.
– Ну, отец – кто бы мог подумать, что он такой актер.
– Его боль – настоящая, – возражаю я, наполняя бутылочку настойкой фенхеля. Добавляю туда пажитника и семян дикого укропа, хорошо взбалтываю. – Давайте ему это каждый час, пока судороги не прекратятся.
У двери я говорю:
– Знайте, он сделал это ради вас.
– Я знаю, – отвечает отец Гиты, его руки обнимают дочь, потерянную и обретенную. Он прячет глаза.
– Вспомните об этом, когда в следующий раз он разозлит вас своими словами, я думаю, это случится уже скоро.
Отец и дочь улыбаются.
– Мы будем помнить, – обещает Гита. В последний момент она немного отстает, чтобы прошептать: – О Хуане мы не говорили, я не хотела испортить момент, но на следующей неделе я заведу об этом разговор. Потом приду к тебе и расскажу, как все прошло.
Сквозь дымку от воскурений я помахала ей на прощание из двери. Я не сказала ей, что меня здесь уже в то время не будет.
В это утро, мое предпоследнее, мне надо переделать кучу дел. Передвинуть ящики, освободить полки, перетащить все мешки и жестяные коробки из внутренней комнаты. Написать таблички. И все-таки снова я не выдерживаю и подхожу к окну. Стою и просто смотрю. Грязное одинокое дерево, узкая полоса бесцветного неба. Испещренные надписями и рисунками стены домов; изрыгающие копоть автобусы; улочки, пахнущие табаком. Молодые люди с плеером, ждущие на углу, или медленно проезжающие мимо автомобили, из окон которых грохочет музыка. Почему все это наполнилось такой мучительной остротой? Почему меня гложет тоска при мысли, что все это так и останется, когда меня тут уже не будет? Зато, вместо всего этого, в моих руках будет столько силы, сколько я и представить себе не могла, у меня будет целый остров, на котором я стану повелевать целыми поколениями Принцесс. И специи, много специй, и все в моей власти, больше, чем когда-либо прежде.
Что это за странная мысль выплывает из глубин подсознания? Теперь, когда она вышла на свет, я понимаю, что думала ее без слов уже долгое время.
Тило, а что если ты откажешься?
Отказаться. Отказаться. Это слово пульсирует эхом в моем мозгу, один открытый звук за другим. Круг в круге вероятностей.
Я вспоминаю слова Мудрейшей:
– Выбора нет. Отозванная Принцесса, не желающая идти по собственной воле, будет забрана насильно. Пламя Шампати открывает свою пасть и поглощает ее.
Я гляжу из запыленного окна на женщину в красном камизе, [90]90
Камиз – традиционный наряд мусульманской женщины, состоящий из туники и шальваров.
[Закрыть]которая вылезает из своего старого «шеви». Она берет на руки маленького ребенка с сиденья машины, прикрикивает на дочерей постарше, чтобы они быстрее шевелились, так как у нее еще дел невпроворот. С ее плеча меня без смущения разглядывает ребенок, курчавая головка озарена утренним солнцем. Промасленные косы одной из девочек поблескивают, когда она проскакивает в дверь, одаряя меня редкозубой улыбкой.
Мое сердце сжалось от любви к ним, даже к их матери, которая ворчит, не смущаясь моего присутствия, что у меня чечевица слишком дорогая и что в бакалейной лавке у Мангала она гораздо дешевле.
Так странно, сколько разновидностей любви мы способны испытывать. Странно, как эти чувства зарождаются в нас вдруг, без всякой причины. Даже я, новичок в этом вопросе, уже столько знаю.
Я пропускаю через себя, как ручейки света, имена всех тех людей, кого я люблю, хотя и по-разному. Равен и Мудрейшая, Харон и Гита, а также и ее дедушка. Квеси. Джагшит. Жена Ахуджи.
О та, что скоро станет Лолитой, как я могу уйти, не увидев тебя еще раз? И Джагшит, пойманный золотой сетью Америки, как ты…
Но ради их же блага я должна исчезнуть.
– Слушайте, – обращаюсь я к женщине в красном камизе, – забирайте-ка вы весь этот даль бесплатно.
Она бросает на меня подозрительный взгляд, уверенная, что это какой-то розыгрыш:
– С чего это?
– Просто так.
– Просто так не бывает.
– Ну тогда – забирайте по той причине, что солнце так ярко светит, что у ваших детишек такие славные лица и потому что я ухожу из бизнеса и магазин завтра закрывается.
Некоторое время спустя, после того как она ушла со своими сумками, я снова выглядываю из окна. Кажется, что воздух вобрал в себя все впечатления и отразил отпечатком, какой бывает, когда долго смотришь на солнце и потом закрываешь глаза. Светящиеся и пульсирующие очертания людей, которые здесь когда-либо проходили.
Воздух, сохранишь ли ты и мой образ, когда меня не станет?
– Что все это значит? – удивляется Равен, заходя. Снаружи в витрине я вывесила таблички:
РАСПРОДАЖА ГОДА – ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ.
– А, это просто индийская традиция – конец года.
– Я и не подозревал, что индийский год кончается в это время.
– Для некоторых из нас – кончается в это время, – парирую я, сглатывая слезы, подступающие к горлу. Под прилавок я быстро кладу, чтобы он не увидел, последнюю табличку, которую я только что закончила писать. Ее я вывешу завтра: МАГАЗИН ЗАКРЫВАЕТСЯ. СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ.
Будет ли другая Повелительница Специй стоять вот так же здесь, где стою сейчас я, и писать другую табличку: НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. Кто она будет? И Равен – придет ли он и к ней тоже, и…
Прекрати, глупая Тило. В том месте, куда ты уйдешь (но где это?), все это уже не будет иметь никакого значения.
Равен терпеливо ждет, когда я обращу на него свое внимание. Я замечаю, что он пришел в джинсах. Простая хлопчатобумажная рубашка, белая, как солнце в самый полдень. Такой простотой он меня ослепляет.
– Я пришел досказать свою историю. Если у тебя сейчас есть время.
– Время подходящее, как никакое другое, – отвечаю я, и он начинает.
– Смерть моего отца освободила меня от всего – всех связей и необходимостей. Я был как лодка, пустившаяся в плавание в открытом океане, который таит в себе клады, штормы и морских чудовищ, и что тебе выпадет – неизвестно.
Знакомо ли тебе это чувство, Тило? Если так, то ты знаешь это одиночество, это ощущение опасности. Человек тогда может стать и убийцей, и святым.
У меня не было никого близкого, потому что и отец, и мать – хотя и в разных смыслах – были потеряны для меня, так же, как и мой прадедушка, хотя иногда я едва удерживался от того, чтобы не думать о нем. И, в общем, все законы мира как бы перестали действовать для меня. Мнение других перестало что-либо значить. Я чувствовал себя в невесомости, я стал губкой, готовой впитать что угодно, стать кем угодно, – если решу, что это того стоит, – или раствориться в небытие.
Я много времени проводил, валяясь на диване, уставившись в потолок и воображая себе возможности своей жизни. Мое нынешнее существование – доучиваться в школе, участвовать в драках, тусоваться с мальчишками, сидеть за обедом с мамой, глотая вместе с едой тишину, – все это наполняло меня неудовлетворенностью. Во всем этом не было будущего, не было глубины. Не было силы.
Потому что, лежа в своей комнате, вне бурного течения событий снаружи, я постепенно понял, что в жизни есть только одно, что стоит иметь. Это сила. То, что хотел дать мне прадедушка перед смертью. То, чего лишила меня моя мать. И хотя нет возможности вернуться в тот момент времени, когда я мог получить ту силу, в мире есть и другие ее виды. Я должен найти ту разновидность, которая мне подходит.
Я перебирал в мыслях совершенно несообразные между собой возможности: становился членом шайки мафиози, вступал в Организацию по борьбе за мир, шел в армию. Даже возвращался в тот дощатый домик, чтобы найти кого-нибудь, кто знал моего прадедушку и то, как он жил. Но в конце концов ничего из всего этого я не сделал. В конце концов я поступил в бизнес-школу.
Тебе смешно? Так и знал, что ты будешь смеяться. Но на тот момент в моих раздумьях мне открылось еще кое-что: деньги – вот что правит миром, по крайней мере, тем миром, где я живу. Деньги были реальной силой. С их помощью я могу полностью пересоздать себя, и не так, как моя бедная мать силилась сделать, но основательно и со вкусом, раз и навсегда.
По большей части я оказался прав.
Дело было не в финансах как таковых: отец застраховал свою жизнь – но моя идея заключалась в том, чтобы любой ценой изменить все свои привычки, подтянуть оценки, прекратить шататься без дела с парнями, в общем, все в таком духе. Но это оказалось даже проще, чем я предполагал. Во мне открылась неожиданная жесткость, что-то, что помогало откидывать все ненужное и пробиваться через все, что стояло на пути. Может, изначально это качество я унаследовал от матери, но по ходу дела оно укреплялось, становилось еще более несокрушимым.
Мои дни приобрели тихий, подводный характер, когда я начал потихоньку готовиться к своему будущему. Люди меня сторонились, а я и не настаивал ни на каком общении. Приятели, которые дразнили меня и подзуживали на драку, учителя, удивленным шепотом обсуждающие меня в учительской, даже мать, которая радовалась за меня, но не понимала. Все они были лишь помехой, отвлекающим фактором, рябью на внешней поверхности, имеющей мало отношения к моей действительной жизни. Точно так же я воспринимал однокурсников в колледже.
А в колледже оказалось, что мне не стоит усилий понимать движение денег, их своеобразную логику. То, как они приходят, накапливаются, их спады и взлеты. Я наслаждался их секретным языком. У меня была известная сноровка в том, что касается денежных операций, и даже в те первые дни, когда я – еще студентом – начал играть на бирже, я точно знал, что купить и когда продать.
– И как, дало ли тебе это силу, о которой ты мечтал?
Мой Американец посмотрел на линии у себя на ладонях, затем мне в глаза.
– Да, это дало мне силу. И чувство реальности. Я начал понимать, почему в сказках великаны всегда считают свои богатства. Это служит им доказательством, что они существуют. Деньги вызывают пьянящее ощущение, что все в этом мире для тебя – чтобы ты мог придирчиво выбирать, отбрасывать или забирать себе, как фрукты на полке в магазине. И тебя сначала удивляет, как много всего ты можешь купить, а люди не перестают тебе поражаться. Я бы солгал, если бы сказал, что мне это не доставляло приятных эмоций. – Он замолчал, потом продолжил:
– С самого начала я решил, что деньги должны приносить удовольствие. Я собрал вокруг себя все вещи, которые, по моему мнению, должны были меня радовать. Тебе это может показаться инфантилизмом, ведь ты пришла из менее материалистической культуры.
Я пропустила это замечание мимо ушей. Когда-нибудь в другой раз, Равен, думаю, мы с тобой это обсудим. (Но Тило, Принцесса еще только на считанные часы, когда это будет?)
– Теперь-то мне ясно, что все это было воплощением представлений мальчика из бедной семьи о том, какой должна быть жизнь богатого человека, почерпнутых из глянцевых журналов и телешоу. Яхты, особняки, «порше», нижнее белье от Гуччи, отдых на Ривьере или в Лас-Вегасе. И тому подобные стереотипы. Люди, у которых богатство переходит от поколения к поколению, кто привык к этому, скорее всего, тратят свои деньги как-нибудь по-другому. Но мне не было до этого дела, да и все те новые друзья (если их можно назвать таковыми), что окружали меня, кажется, не возражали.
– А что же мама?
Пронизывающая тишина осколком стекла между нами. Затем, наконец:
– Когда я сделал свой первый миллион, я послал своей матери чек на сотню тысяч долларов. Это был первый раз, когда я с ней связался с тех пор, как уехал из дома. Сама-то она писала мне, не часто, но регулярно, и в письмах рассказывала о том, что поделывает. Ничего особенного: была на церковном базаре, рассаживала петунии по весне, затеяла в доме ремонт и тому подобное. Спустя какое-то время письма продолжали приходить, а я оставлял их нераспечатанными. Некоторые просто терялись. И я никогда на них не отвечал.
«Зачем? – говорил я себе, – нас больше ничего не связывает». Хотя вообще-то, я думаю, был не совсем честен с самим собой. Где-то глубоко в подсознании у меня сидело желание продемонстрировать ей, что я воплотил то, чего хотелось и ей в свое время, но гораздо удачнее. Она не могла даже и мечтать о том, чтобы стать частью сильных мира сего. Поэтому я и послал ей чек, а также свое фото, где находился в окружении кучи друзей, включая и мою тогдашнюю девушку, – на фоне домика у моря, который я недавно приобрел в Малибу. Это должно было стать самым большим и окончательным наказанием.
На его лице появилась суровая улыбка:
– Но письмо вернулось с красной печатью, обозначающей, что адресат выбыл. Я попытался припомнить, когда получал последнее письмо от нее, и не смог.
Спустя пару лет, после каких-то еще событий в моей жизни, я случайно оказался в родных краях, хотя никогда и не думал, что меня сюда снова занесет. В нашем доме жила семья чикано. Сказали, что они здесь уже довольно давно. И не знают, куда переехала та женщина, что продала им дом.
Так я никогда больше не напал на ее след, хотя и пытался. Я поспрашивал соседей, порасспросил женщин из ее церкви, даже одно время нанял частного детектива. Я подумывал и о том, чтобы найти ее родственников – не то чтобы я знал, где было то место, но я мог бы разыскать. Но я не мог себя заставить. Знаешь, наверное, это как детские фобии, что управляют твоей взрослой жизнью. И я просто-напросто убедил себя, что они вряд ли могут знать больше, чем я.
…О, Равен. Может ли быть так, что ты продолжаешь искать во всех женщинах свою потерянную мать? Вечно прекрасную, вечно молодую.
– Мне так много надо было ей сказать, – сокрушается Равен. – Что мне совестно за свою холодность, что наконец-то я начал понимать, хотя бы в какой-то мере, почему она оставила дом своих предков и забыла, кем она была, – он вздохнул. – Хотел сказать: давай попробуем все это забыть, начать все заново. А больше всего хотелось рассказать о моей мечте. Возможно, ей было известно, что она означает. В конце концов, дедушка чему-то ее учил, а такие вещи не забываются.
– Какой мечте? – спросила я. Во рту у меня пересохло. Тило, говорит мое сильно колотящееся сердце, вот оно.
Но Равен продолжает, как будто не слышит:
– Что-то изменилось, когда вернулось не доставленное ей письмо. Без матери, которой можно было этим похвастаться, моя золотая жизнь как будто потеряла свой блеск. Иногда по утрам, лежа в постели рядом со своей спящей подругой, я чувствовал приступ скуки, как мы чувствуем первые признаки старения в наших мускулах. Это меня напугало.
Чтобы избавиться от этих приступов, я начал участвовать в разных рискованных затеях. Сначала на бирже – но там я никогда не проигрывал. Все, к чему бы я ни прикасался, начинало набирать обороты, и в этом не было уже для меня ничего волнующего. Тогда я переключился на физический риск: переправлялся на плотах по бурным рекам, делал затяжные прыжки с парашютом. Я даже отправился в путешествие по Амазонке. Но ничего не приносило желаемого удовлетворения. В какое-то мгновение адреналин подскакивал, но сразу за этим следовали только раздражение и усталость, и вместе с этим вопрос: какого черта я здесь делаю?
Но однажды один друг принес мне грибы.
До этого я никогда не употреблял наркотиков. Впрочем, не хочу строить из себя невинность: я не возражал против легких на вечеринках. Но я смотрел свысока на людей, которые не могли без них жить. Я считал их слабаками. Отвратно было наблюдать за их состоянием после очередного кайфа, за тем, как они себя вели, когда у них начиналась ломка. Видеть, как они влачат свое существование от дозы до дозы. И, что бы они там ни утверждали, я не знавал ни одного такого, кто не был бы рабом своего снадобья. Поскольку я не страдал никакой зависимостью (или, по крайней мере, был в этом твердо убежден) от всего того, что попробовал всего лишь считанные разы, я совершенно не собирался навечно подсесть на какую-нибудь гадость ради нескольких минут сомнительного удовольствия.
«Но эти грибы, – убеждал меня друг, – дело другое». Действуют они очень мощно – не сравнить ни с какими общеизвестными средствами. Их не купишь через посредника, ни за любовь, ни за деньги. А ему перепало, потому что посчастливилось иметь друга, индейца из Гватемалы, где они это используют во время специальных церемоний, чтобы войти в транс.
«Ты не поверишь, что это только видения, – продолжал друг, – тебе покажется, что ты умер и улетел на небеса, только еще лучше. Никакие экстази или ЛСД не дадут и тысячной доли того, что этот. И он безопасный. Не опаснее, чем молоко матери».
Я был заинтригован. Не то чтобы я особо доверял этому другу, но его слова о видениях и индейцах били прямо по моему слабому месту, – которого, как я хотел верить, больше не существовало.
Я пронес тайный интерес ко всему, связанному с индейцами, через все годы учебы в колледже. Если где-то на территории колледжа проходило мероприятие с их участием, я шел, занимал место в последнем ряду и смотрел. Серьезные юноши и девушки, одетые опрятно и строго, обращались к нам с речью о защите прав американских индейцев или описывали деятельность Молодежной организации потомков коренных племен. Я сочувствовал их борьбе и восхищался их энергией, но, как ни пытался, не мог представить себя одним из них, тогда как у прадедушки чувствовал это всеми потрохами. И при всем знании традиций и истории, которым они обладали, их жизнь казалась такой же тусклой и лишенной тайны, как и моя.