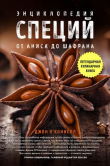Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Твой дедушка очень тебя любит, – говорю я, чтобы остановить этот ядовитый поток.
– Любит, как же! – она фыркает, имитируя тошноту. – Он не понимает значения этого слова. Для него это означает полный контроль. Он пытается контролировать и родителей, и меня. А когда у него это не получается, то скулит: «О Раму, отправь меня обратно в Индию, лучше я умру там один».
Она так точно и зло копирует манеру упрямого старика, что меня пробирает. Тем не менее лучше высказанная ненависть, чем застоявшаяся внутри.
– Если бы не эти его средневековые идеи о браках, я не была бы вынуждена таким образом сообщать им о Хуане. Я бы представила его не так резко, они бы сначала узнали его как человека, а не…
Она запнулась.
Я знаю, что мне следовало бы сказать. Мудрейшая твердила нам это тысячу раз:
– Вы приходите в мир со своей судьбой, она дана вам с рождения. Вам не кого за это винить.
Но не такие советы нужны Гите, сейчас все старые истины расходятся с ее песней.
Специи, я знаю, у меня нет права вас просить, но, прошу, направьте меня.
Мои слова уносит горячий песчаный ветер, минуты падают в молчании свинцовыми каплями.
Что я должна делать?
Затем она говорит:
– И зачем он вас послал, скажите на милость?
Она посмотрела на меня, наморщив бровь, как будто бы продолжая тему. Однако ее глаза больше не омрачены ненавистью.
– Да ни за чем, – поспешила я ответить, – просто сказать тебе, что злые слова, подобно жужжанию пчел, часто мешают распознать мед. Просто увидеть тебя, так, чтобы я могла, вернувшись, засвидетельствовать: «Не беспокойтесь, она в порядке».
– Не знаю, не знаю, – она судорожно вздыхает всем телом. – Я пью таблетки каждый вечер и все равно не могу уснуть. Диана уже всерьез забеспокоилась. Она говорит, надо к кому-то обратиться, может быть, сходить к психиатру.
– Диана?
– А, я же не могу поехать жить к Хуану. Не могу из-за мамы и папы. К тому же и для наших с ним отношений это не очень хорошо, я сейчас вся на нервах и все такое. Поэтому я позвонила Диане, она моя лучшая подруга с колледжа, и она сказала, что, конечно, я могу пожить у нее, сколько хочу.
Благодарное чувство ослабило какой-то зажим в моих легких, так что я снова смогла вздохнуть.
– Гита, ты очень разумная девочка.
Она пытается сдержать улыбку, но ясно, что ей приятны эти слова.
– Хотите посмотреть его фотографию? – спросила она и аккуратно протерла оловянную рамку, стоящую на ее столе, краешком своего синего рукава. Передала мне.
Серьезные глаза, черные гладко причесанные волосы, рот, который выдает мягкость, несмотря на взрослое выражение. Рука обнимает ее немного неловко, как будто он не может еще поверить своему счастью.
– Он тоже выглядит очень интеллигентно.
Теперь она улыбается открыто.
– Он гораздо умнее меня. Представляете, он из баррио, [85]85
Баррио – район большого города, населенный преимущественно латиноамериканцами.
[Закрыть]поступил в колледж со стипендией, закончил отличником. Но такой скромный, от него самого ничего этого не узнаешь. Я просто уверена: если бы папа с ним поговорил, он бы сразу понял, какой он замечательный.
– Может, приведешь его как-нибудь в магазин, я тоже бы с ним поболтала.
– Обязательно приведу. Уверена, ему у вас понравится. Он интересуется индийской культурой, и особенно кухней. Я каждый раз готовлю ему что-нибудь индийское, когда прихожу к нему в гости. Вы же знаете, в мексиканской кухне используется много тех же самых специй, что и у нас…
Внезапно она замолчала. Гиту так просто не сбить с толку. Она смотрит прямо на меня огромными, как озера, глазами – в них мое лицо.
– Постойте, теперь я вспомнила. Дедушка говорил, что вы умеете колдовать.
– Старческие фантазии, – парирую я.
– Ну, не знаю, – протянула она, – вообще дедушка такие вещи чует, – она еще с минуту меня изучает. – Ладно, что если даже так. Вы мне не кажетесь злой. Как-нибудь скоро я приведу к вам Хуана, может быть, даже на следующей неделе.
– На следующей неделе? Хорошо, – я поднимаюсь. На данный момент я сделала все, что могла, хотя впереди еще ждет много трудностей. – Вот смотри, тут я тебе принесла кое-что.
Я разворачиваю свой сверток, вынимаю бутылочку с пикулями манго в горчичном масле, куда я добавила метхи, который помогает залечивать раны, и ада, который прибавит мужества, когда необходимо сказать «нет», а также амчура для принятия правильных решений.
Она подносит бутылочку к свету лампы, та отсвечивает красно-золотистым.
– Спасибо, это мои любимые. А вы, конечно, об этом знали, – в ее глазах мелькнул озорной огонек, – и, конечно, добавили туда какую-то магию?
– Магия – в твоем сердце, – возразила я.
– Но вообще, если серьезно, спасибо, что пришли. Мне стало гораздо спокойнее. Послушайте, давайте я провожу вас вниз.
В вестибюле она крепко меня обнимает. Руки Гиты, спустившейся со своих мерцающих высот, обхватывает меня, словно крылья. Она кладет что-то в мою ладонь.
– Может быть, у вас будет возможность – ну, если вдруг они случайно зайдут в магазин, – показать им; и скажите также, что мы с Хуаном не живем вместе, – на моей щеке на миг расцвела роза от ее горячего поцелуя. – А вот мой номер, ну мало ли что, просто на всякий случай.
Во мне рождается план, как шорох расправленных крыльев.
Я все это передам ее деду, когда он придет в следующий раз – и номер, и фото – и скажу, что дальше делать.
На пути назад в автобусе мои плечи горели и искрились, там, где их коснулись ее обнимающие руки. Кожа на моем лице обожжена там, где она выдохнула без слов свое желание: сделай так, чтобы те, кого я люблю больше всего, полюбили и друг друга. Мои глаза слепит при взгляде на фотографию: два столь юных влюбленных создания улыбаются мне с мучительной верой, так, будто я могу все поправить, я, Тило, которая сейчас в гораздо большей беде, чем грозящие вам когда-либо.
Я просыпаюсь – и она сидит у моего изголовья, в магазине темно, и только неизвестно откуда исходит голубовато-зеленое свечение и запах масла гибискуса, что она иногда разрешала втирать в свои волосы. Это Мудрейшая сидит, положив ногу на ногу, очень сильно ссутулившись, как будто что-то давит на нее слишком тяжелым, невыносимым грузом, моя ли жизнь, ее собственная – не знаю. Шрамы на ее руках горят огненными полосами на иссохшей коже. Я было отпрянула в испуге, но потом застыла, потому что на ее лице не было никаких признаков гнева, а только печаль. Невозможно глубокая, как дно морское. И внутри меня что-то как будто выкручивается, как будто выжимают мокрое белье до последней капли.
– Мама, – я протягиваю руку, но она проходит сквозь нее. Здесь только ее астральное тело, как мне следовало бы догадаться. Меня охватывает еще большее сожаление, потому что я сразу же вспомнила, как после таких астральных путешествий она всегда лежала на своем ложе, восстанавливая силы, дыша слабо, с большими багровыми синяками под глазами, похожими на кровоподтеки.
– Мама, это плохо, то, что я сделала?
– Тило, – ее голос еле слышен и отдается эхом, как пещере, – Тило, доченька, не следовало так поступать.
– Но, Мама, как еще я могла помочь Гите и ее дедушке, ведь он попросил помощи первый раз в своей жизни.
– Доченька, помощь, которую ты пытаешься оказать вне этих стен, оборачивается против тебя самой, разве ты не понимаешь? Даже здесь, внутри, все уже работает не так, как ты хочешь.
– Джагшит, – прошептала я упавшим голосом.
– Да, но будут и другие. Ты не помнишь последний урок?
Я пытаюсь припомнить, но в голове только разрозненные фрагменты мозаики.
– В своей основе Принцессы лишены всякой силы, они – как дудка, на которой играет ветер. Только специи принимают решение и человек, которому их дают. Ты должна уважать их совместный выбор и смириться в случае неудачи.
– Мама, я…
– Можно смотреть в прошлое, но нельзя вмешиваться в настоящее; когда ты переступаешь вековые законы, ты стократ увеличиваешь шансы на неудачу. Вековые законы поддерживают хрупкое равновесие мира – так было до меня, до других Мудрейших и даже до Самой Старейшей.
Ее голос становится то громче, то тише, как будто заглушаемый штормом.
Мне так много надо спросить у нее. В своей наивности я всегда полагала, что она и была единственной Мудрейшей. Кто эти другие Мудрейшие, кто такая Самая Старейшая? И из самых темных уголков сознания выплывает вопрос, полный жгучего любопытства, но я не могу ее произнести вслух.
Кто ты? Когда и почему ты стала той, что ты есть?
Но вопрос вылетел из головы, потому что она продолжает:
– Не позволяй Америке затянуть тебя в беды, которые ты даже не можешь вообразить. Не возбуждай ненависть специй своими мечтами о любви.
Как будто меня оглушили, я шепчу:
– Ты знаешь?
Она не отвечает. Ее образ уже тает, фосфоресцирующий свет бледнеет на стенах.
– Подожди, Мама…
– Дитя, я отдала все силы своего сердца, чтобы донести до тебя это предупреждение, – говорит она слабо, голубовато-прозрачными, как воздух, губами, – больше я не смогу прийти.
– Мама, ты хорошо меня знаешь, ответь мне на один вопрос, прежде чем ты уйдешь. Если Принцесса хочет вернуть себе обычную жизнь. Как специи…
Но она исчезла. Вокруг только холодные стены и прозрачный сумрак, ни малейшего колыхания, ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что она только что была здесь. Ни малейшего звука, ни парящего запаха гибискуса от ее волос. Только специи смотрят со всех сторон, они сильнее, чем я когда-либо предполагала, их темная энергия сконцентрирована до предела. Специи вобрали в себя весь воздух, не оставив мне ни глотка, тем самым подтверждая, что это был вовсе не сон.
И показывая, что они тоже все слышали.
Время тянется медленно, но вот встает солнце, сначала оно цвета куркумы, затем рассыпается лучами цвета киновари. На голом дереве снаружи птицы с клювами цвета фенхеля что-то грустно щебечут. Небо давящее, и тучи, черные, стягиваются к центру города, где я недавно побывала. Я подумала о Хароне, о жене Ахуджи, о Гите и ее Хуане. Я протерла полки, аккуратно разложила все по местам, подумала, почему они не приходят. Машины, фырча, проезжают мимо. Какой-то хлопок, какие-то крики, затем сирена «скорой» и, наконец, шум воды из шланга, моющего асфальт. Джагшит, Джагшит, кричу я про себя. Но вспоминаю лицо Мудрейшей, вспоминаю предупреждение и не делаю даже шага к окну.
Но может быть, мне все это только пригрезилось в моих блужданиях сквозь ночь меж тем, чего я желаю, и тем, чего боюсь. Может, просто это обычное утро, вот и грузовик, громыхая, останавливается у двери, и двое рабочих в темно-синей форме с нашитыми у них над карманами белыми полосками, где красным написаны их имена – Рэй и Хосе, стучатся с криком: «Доставка». Или Карма, это черное, как смерть, великое колесо, уже приведено в движение, и его уже не остановить.
Парни в форме спрашивают:
– Куда поставить?
Затем:
– Подпишитесь здесь, говорите по-английски, а?
Вытирают рукавами пот со лба:
– Тяжелая штука, леди. У вас нет какой-нибудь кока-колы или чего-нибудь получше – холодненького пивка?
Я даю им сок манго со льдом и листьями мяты, которая увеличивает ощущение прохлады и помогает сохранять силу на протяжении целого дня. Я кусаю губы от нетерпения, ожидая, когда они помашут мне на прощанье со словами «Gracias» и «Пока» и грузовик тронется, сотрясаясь и дребезжа. Наконец, зеленый огонек мигнул, и я осталась наедине с картонной коробкой из SEARS.
Я начала разрезать веревку, голос внутри торопит: скорее, скорее, но нож не слушается. Мой нож, пятна на котором – словно слезы упрека, выкручивается, норовит выскользнуть из рук. Пару раз я чуть не порезалась.
Тогда, наконец, я отложила его и принялась сама руками вскрывать коробку. Продираюсь сквозь слои мятой бумаги, как сквозь рыхлый снег, вынимаю и откладываю в сторону куски поролона, ломкого, как морская соль. Не знаю, сколько это заняло времени, мое сердце прыгало в груди, как зверь в клетке, пока, наконец, я не вынимаю его, тяжелое, скользкое, и не поворачиваю его так, чтобы оно светилось.
Мое зеркало.
Все специи наблюдают за этим, их глаза как один, их дыхание слилось в один выдох неодобрения, тихий вопрос: зачем?
Ах, если бы я знала. У меня внутри такое ощущение, как будто кто-то ходит по тонкому льду, зная, что в любой момент он может треснуть, но уже не может остановиться.
Вот вопрос, которым я никогда не задавалась на острове: Мудрейшая, почему зеркало – запрещенный предмет, что плохого в том, чтобы посмотреть на себя?
Полуденное солнце вспыхивает в моем зеркале, на мгновение озарив весь магазин таким ослепительным светом, что даже специям пришлось зажмуриться.
Прежде чем они снова открыли свои глаза, я сняла изображение Кришны и повесила зеркало на торчащий гвоздь, бережно набросив на него шаль.
О, зеркало, запретное стекло, поможешь ли ты мне что-то понять о себе?
Но не сегодня. Еще не время.
Почему, Тило, дурочка, зачем же ты тогда купила его?
В тишине этот голос звучит пугающе. Во мне искрой вспыхивает: они говорят? И я чувствую, как будто черный глаз приближается, давя на меня взглядом, полным недоверия.
Но испуг уже забывается в приливе радости, которая наполняет все мое существо. Пусть с насмешкой, пусть с раздражением, но они заговорили со мной опять, мои специи.
Милые специи, вы молчали так долго.
Кто знает, для чего и когда может пригодиться мне зеркало, я отвечаю, голосом светлым, как касание ветра до цветка чертополоха на воде.
Я чувствую их пытливое внимание явственно, как тепло солнца на моей коже. Они не торопятся испепелить меня на месте. Не спешат выносить приговор.
Может, Мудрейшая ошиблась? Может быть, еще не все потеряно для нас?
В диком, запертом в клетку сердце своем я повторяю снова и снова:
– Специи, верьте мне, дайте мне шанс. Несмотря на Америку, несмотря на любовь, ваша Тило вас не оставит.
Черный перец
– Мне, пожалуйста, этот, – просит Американец, – я хочу этот.
– Ты уверен? – спрашиваю я с сомнением.
– Абсолютно.
Во мне это вызывает ироническую улыбку. Тило, он так же самоуверен, как ты была когда-то на острове, и знает столь же мало. Так что теперь ты, как Мудрейшая, должна взять на себя эту роль – предостерегать и оберегать.
Мы стоим у полок с бутербродами. Американец показывает на упаковку с чаначуром, на которой написано: «Бутерброд микс очень острый!».
– Это действительно так, – подтверждаю я, – почему бы не попробовать что-нибудь помягче? Что ты стараешься доказать?
Он засмеялся:
– Свою мужественность, конечно.
Сегодня понедельник. Официально магазин сегодня закрыт. Потому что понедельник – день тишины, белой фасоли мунг, посвященной луне. По понедельникам я иду во внутреннюю комнату и сижу в позе лотоса, медитирую. Я закрываю глаза, и мне является остров: покачиваются кокосовые пальмы, мягкое солнце колеблется на волнах вечернего моря, в воздухе, налитом сладостью, запах дикой жимолости, такой реальный, что мне хочется плакать. Слышны тонкие призывные крики орликов, пикирующих в воду за рыбой. Эти звуки похожи на скрипку.
Является мне и Мудрейшая, и рядом с ней новые ученицы, я их не знаю. Но лица их светятся выражением, до боли знакомым: Мы спасем мир.
По понедельникам я говорю с Мудрейшей. Потому что понедельник – день матери, день, когда дочери должны с ними обо всем говорить. Хотя последнее время я ничего не рассказываю.
Так же, как и сегодня.
Вот что случилось: Одинокий Американец пришел в магазин. В свете дня. Первый раз.
А что в этом такого, спросите вы?
Ночь в своем зачарованном звездном плаще всегда готова к обманам, особенно когда мы и сами не прочь в них поверить. Только в беспристрастном дневном свете видна истинная сущность мужчины.
Я почувствовала его приближение задолго до того, как он остановился у закрытой двери магазина, глядя на мятую табличку «ЗАКРЫТО». Его тело – воплощение жара, он идет по оживленной улице походкой уверенной, но мягкой, как будто он шагает не по бетону, а по земле.
О, мой Американец, ты застыл в нерешительности, желая и не смея. Я сказала себе: вот сейчас я, по крайней мере, увижу, что он самый обыкновенный человек.
Стоя там, на улице, чувствовал ли он меня? С наружной стороны дверь словно заиндевела, а у меня внутри надрывается протестующий голос: не отвечай. Кричит: ты забыла – сегодня день, посвященный Матери, когда говорить надо только с ней и ни с кем другим.
Я думаю, он его тоже услышал. Потому что не стал стучать. Он повернулся, мой Американец, еще давая мне шанс. Но едва он сделал один шаг прочь, я открыла дверь.
Просто посмотреть. Так я себя убедила.
Он ничего не сказал. Не спросил. Только радость в его глазах показала мне, что он видит что-то более важное, чем мои морщины.
Что же ты видишь?
Американец, мне потребуется все мое мужество, чтобы спросить тебя об этом когда-нибудь. Однажды, может быть, скоро.
И впервые в его сознании я уловила некое движение, как будто водоросль качнулась где-то на дне, глубоко в толще воды, почти незримо в просоленном полумраке.
Это желание. Я еще не разгадала его. Но поняла только, что оно каким-то образом включает меня.
Тило, ты всегда только выполняла чужие желания, но сама никогда не была предметом желаний.
Счастливая улыбка растянула уголки моих губ, хотя Принцессы не очень-то привыкли улыбаться.
Одинокий Американец, ты прошел испытание дневным светом. Ты не показался заурядным. Но я не успокоюсь, пока не отгадаю твое желание.
Я толкнула дверь, ожидая сопротивления. Но она легко поддалась, широко распахнувшись, как будто в приглашающем жесте.
– Заходи, – и слова не липнут к языку и не застревают у меня в горле, как я опасалась.
– Не хотел беспокоить, – проговорил он.
Дверь за нами мягко закрылась. Мой голос отозвался в напряженной гнетущей тишине, как звук колокольчика.
– Как может побеспокоить тот, кого так рады видеть.
Но внутри горстью сухого песка оседает вопрос: специи, вы и правда со мной или затеяли какую-то игру?
– Но я должна тебя предупредить, – говорю я, протягивая моему Американцу чаначур.
В голове стучит: да ладно тебе, Тило, почему бы и нет? В конце-то концов, сам виноват.
Искушение, соблазнительное, как пуховая перина. Так хочется позволить себе утонуть в ней.
Все же нет, Одинокий Американец, я не хочу, чтобы ты потом говорил, что я воспользовалась твоим неведением.
Поэтому я продолжаю:
– Основная специя здесь – кало марич, черный перец.
– Ага, – все его внимание в это время уже на бутерброде, который он нюхает. Специи заставляют его чихнуть. Он смеется, трясет головой, губы сложились, будто он неслышно присвистнул.
– Черный перец обладает способностью вытягивать все секреты.
– А ты думаешь, у меня есть секреты? – с озадаченным видом он отламывает кусок от бутерброда, который крошится у него между пальцев, и запихивает в рот.
– Я уверена, что есть, – говорю я, – потому что и у меня есть. И у каждого.
Я наблюдаю за ним, не уверенная в том, что специя будут работать теперь, когда я раскрыла ее магию. Так я еще не поступала, этот путь для меня нехожен, поэтому что будет в результате – скрыто от меня темным туманом.
– Его не так надо есть? – спросил он, когда еще кусок чаны рассыпался в его пальцах, усеяв грудь рубашки желто-коричневыми крошками.
Я невольно смеюсь:
– Подожди, давай я сверну тебе кулек, как мы делаем в Индии.
Из-под прилавка, где я обычно храню старые индийские газеты, я достаю кусок бумаги. Сворачиваю в конус и кладу кушанье.
– Высыпи немного себе на ладонь. Если ты немного потренируешься, то сможешь даже подбрасывать и ловить ртом, но пока просто подноси руку к губам.
– Да, мамочка, – изобразил он послушного мальчика. Так что сидит сейчас Мой Американец на прилавке, болтая ногами и поедая горячий бутерброд с острыми специями из бумажного кулька, так, будто это для него обычное дело. Он сидит босой, потому что ботинки снял еще у двери. Это ботинки ручной работы из мягчайшей кожи, их блеск не поверхностен, он исходит откуда-то из глубины. Ботинки, которые бы вызвали у Харона зависть и ненависть.
– Ну, ваше почтение, – выговорил он, – как говорят индийцы.
– Но не когда они в магазине.
– Но разве ты бываешь где-то еще?
Месяц проходит за месяцем, так много людей приходят и уходят, но только он обратил на это внимание. Ну разве не глупо, что приятное ощущение поднимается, словно электрическое покалывание от самых кончиков пальцев.
– Я другая, – говорю я.
– А почему ты думаешь, что я нет? – он улыбается долгожданной улыбкой,
Как прекрасны, думаю я, ступни моего Американца. (А лицо? Нет, я уже потеряла чувство дистанции, чтобы объективно со стороны оценить это.) Но его ноги: пальцы на ногах тонкие, безволосые, лишь слегка изогнутые, подошвы цвета светлой слоновой кости, но не такие гладкие. Я могу представить, как я держу их своими руками, кончиком пальца скольжу по всем неровностям…
Стоп, Тило.
Он ест с аппетитом. Крепкие белые зубы вгрызаются без смущения в жареный гарбанзо, желтые палочки сев, пряные арахисовые орешки в красноватой шкурке.
– М-м-м, вкуснота, – но при этом втягивает в себя воздух маленькими остужающими глотками, чтобы охладить жжение на языке.
– Это слишком остро для рта белого человека. Я же говорила – попробуй что-нибудь другое. Может быть, принести стакан воды?
– И испортить этим весь вкус, – ответил он, – Ты смеешься, – и втянул в себя еще воздуха, но рассеянно. Что-то его задело.
Минуту погодя он спросил:
– Значит, ты думаешь, что я белый.
– Не хотела никого оскорбить, мне так показалось.
Он слегка улыбнулся, но я видела, что-то еще его озадачило. Я не пытаюсь прочесть его мысли. Если бы даже и могла. Я хочу, чтобы он сам со мной ими поделился.
– Если бы ты сказал мне свое имя, – начинаю я, – может быть, я бы поняла, кто ты.
– Как же просто, оказывается, все узнать о человеке.
– Я никогда не утверждала, что это просто.
Он доел в молчании, покачал головой, когда я предложила еще. Затем развернул кулек и, положив на прилавок, разгладил его, как будто этот лист газеты мог еще ему пригодиться для чего-то. Между бровей у него залегла острая складка – неудовольствия или боли. Взгляд из-под полуприкрытых век блуждает, как у дикого зверя, направленный мимо меня на что-то, видимое только ему.
Я задала вопрос слишком личный, слишком поторопилась?
Он встал на ноги, торопливо отряхнул брюки, как будто куда-то опаздывал.
– Огромное спасибо за еду. Мне надо идти. Сколько я тебе должен?
– Это было угощение, – надеюсь, голос не выдал, как я уязвлена.
– Нет, достаточно угощений, – слова жестки, как стена между нами. Он положил бумажку в 20 долларов на прилавок и направился к двери.
Тило, тебе следовало подождать с вопросами. А теперь ты его потеряла.
Его ладонь на ручке двери. У меня такое ощущение, как будто она сжала мое сердце. Перец, где же ты в час необходимости?
Он повернул ручку, дверь плавно открылась, предательски мягко, даже без единого звука.
Я подумала: пожалуйста, не уходи. Можешь не рассказывать ничего, если не хочешь. Просто побудь со мной еще немного.
Но я не могу произнести этого вслух, эти умоляющие слова, которые обнажат мое тоскующее сердце. Ведь я и до сих пор все еще остаюсь дарительницей, повелительницей желаний.
Он на мгновение застыл на пороге, как будто что-то решая. Воздух еле проходит в мои легкие, будто царапая сухими когтями.
Одним резким движением он закрывает дверь обратно. Его слова – удар грома, заставляющий меня вздрогнуть.
Мой Американец, что же тебя так разозлило?
– И какое имя тебе сказать? У меня ведь их много.
Его голос грубый и ломкий, как нагромождение скал.
На меня он не смотрит.
И все же облегчение прокатывает во мне, как река. Когда я вздыхаю, воздух сладким медовым потоком вливается в горло. Он не ушел, он не ушел.
– У меня тоже много имен, – откликаюсь я, – но только одно из них мое истинное имя.
– Истинное имя, – он закусил губу на минуту. Откинул волосы – черной атласной волной. – Но я не уверен, какое из них оно. Может быть, ты поможешь разобраться.
И так он начал свою историю.
– Неудивительно, что ты решила, что я белый, – заметил Американец, – очень долго, пока был маленьким, я и сам так думал. Хотя, скорее, я вообще ничего не думал как большинство детей. Просто принимал это как есть.
Мой отец был спокойный человек, большой и медлительный. Из тех людей, находясь с которыми рядом, чувствуешь, что тоже замедляешься – это спокойствие накрывает тебя, словно уютное шерстяное одеяло, даже сердце начинает биться медленнее. Позже я задумался: не поэтому ли моя мама вышла за него, что уповала на это его свойство.
Из всего, что с ним связано, пожалуй, лучше всего я помню его руки. Большие и мозолистые от работы на нефтеперегонном заводе в Ричмонде, суставы были ободраны до костей. Полумесяцы масляной грязи у него под ногтями не исчезали, сколько бы он ни чистил их специальной щеточкой, что купила ему мама. Полагаю, он их стеснялся. Как они выглядели рядом с мамиными изящными, ухоженными пальцами, отполированными ногтями, с которых никогда не сходил идеальный блеск, что бы она ни делала по хозяйству в доме или в саду. Изредка, когда кто-нибудь к нам заходил, в основном, это были мамины знакомые по церкви, он втискивал руки в карманы и держал их там до тех пор, пока гости не уходили.
Но со мной его руки не были скованными. Он клал одну мне на голову, когда я рассказывал ему о школе или какой-нибудь новой выдуманной мной игре, и это было само умиротворение. Я чувствовал, как она прислушивается. Когда у меня что-нибудь болело или я был расстроен, а иногда и просто без всякой причины, поздно вечером он приходил, садился у моей постели и поглаживал меня, его мозолистый большой палец легкими кругами гладил мои плечи, пока я не засыпал. Мне нравился запах, который оставляли его руки на моем теле, на моих волосах. Застарелый, дикий, терпкий, как какие-то лесные болота.
Голос моего Американца потускнел, загустел, как лечебный мед, слова завязли в его горькой сладости – памяти того, что ушло безвозвратно. И во мне они начали открывать какие-то комнаты, которые, как я думала, заперты навсегда.
– Наверное, я идеализировал его, – проговорил он, – как обычно дети идеализируют своих родителей, ну ты знаешь.
Нет, Американец, не знаю. По мере того как ты рассказываешь, и в моей памяти всплывают картины из моего детства: родители отчитывают меня – или пытаются отчитать за что-то. Может быть, за тарелку с едой, что я кинула на пол, так как еда мне показалась невкусной, может быть, за драку, затеянную с сестрой, во время которой я расцарапала ей лицо и выдрала волосы. Вот отец обвиняюще грозит пальцем, мать качает головой: ее, мол, ничто не исправит. А я – как я зла, что они осмеливаются критиковать меня, хотя именно благодаря мне семья процветает, а люди, встречающиеся на рынке, взирают на них с благоговейным страхом. Я мерила их презрительным взглядом и так и смотрела в упор, пока они не опускали глаза и не пятились.
Но сегодня, когда я слушаю Американца, все видится совсем по-другому. Я отчетливо вижу зажатость и страх в линии их понурых плечей. В их опущенных глазах – желание быть хорошими родителями, даже желание любить. Но только они не знают, как. Теперь я осознаю, что взгляд их – как у потерянных детей, и от всего этого мне хочется плакать.
Возможно, однажды, Американец, я смогу рассказать тебе о том времени. А пока я, Тило, по-прежнему остаюсь терпеливым слушателем, всеобщим избавителем от проблем.
Но он продолжает рассказывать, и я должна отбросить свои собственные печали, чтобы отдать все внимание его словам, которые взрезают защитный покров вечера своей пронзительной остротой. Здесь я почувствовала, что мы подошли к какому-то особо болезненному месту истории.
– Но моя мама была совсем не такая.
Я застыла – мое тело как дерево, как земля, как камень, – даже мое дыхание остановилось, пока он вновь не заговорил. Теперь я заметила, что его голос стал более ровным, фразы – длиннее и строже, как будто это очень давняя история о ком-то другом. Возможно, только так он может заставить себя продолжать.
– Больше всего мне запомнилось то, что она все время что-то чистит, можно сказать, драит, чрезмерно энергично, почти сердито. Грязь на чем-то – включая меня и папу, – она воспринимала как личный вызов. Она часами возилась со стиркой, сражаясь с папиным запачканным рабочим комбинезоном, и каждый вечер, когда он мылся, она терла ему спину до красноты. Мы жили в небольшом домике, на самом краю довольно бедного района – почти сплошь заселенного заводскими рабочими и грузчиками с пристани. По вечерам они обычно выходили на крыльцо в одних майках и сидели, уставившись на пожелтевшую лужайку перед своим жалким домом и потягивая пиво из горлышка. Но, зайдя к нам, вы бы никогда не догадались, чей это дом. Внутри у нас все сверкало: лимонный линолеум на кухне, телевизор на стойке под ореховое дерево, занавески чистые и сладко пахнут каким-то средством, его мама добавляла в воду при каждой стирке. Начищенное столовое серебро и строгий надзор за тем, чтобы я правильно пользовался вилкой и ножом.
Она не любила соседских детей, с их громким смехом и бранью, в рубашках со слишком короткими рукавами, которыми они утирали нос. Но все же она была хорошей матерью и понимала, что мальчику нужно с кем-то общаться. Она позволяла мне играть с ними и подчас даже приглашала зайти. Она угощала их соком с печеньем, они его смущенно съедали, сидя на краешке стульев, сияющих полированным деревом. Но стоило им уйти, она принималась меня отмывать – лицо, руки, ноги, все – мыла и мыла, как будто желая начисто смыть с меня все их следы. Она сидела со мной за обеденным столом, пока я делал уроки, и когда я взглядывал на нее, то иногда заставал на ее лице странное выражение, которое не мог объяснить – сильной любви и страдания одновременно.
Перед сном у нас было что-то вроде ритуала. Каждый вечер, когда я уже переодевался в пижаму, она приглаживала мои волосы водой и тщательно зачесывала назад. Так, чтобы я мог встретить свои сны, выглядя прилично, объясняла она, завершая процедуру поцелуем в лоб. Других мальчиков могли бы, наверное, раздражать такие вещи, но не меня. Я обожал то, с какой решительностью и вместе с тем мягкостью она вела расческу по волосам, то, как она напевала что-то почти про себя. Иногда, когда она меня расчесывала, говорила, что лучше бы мои волосы были больше похожи на папины, а не такие жесткие, угольно-черные и спадающие на лоб, сколько бы она их ни причесывала. Хотя в душе я был рад. Я любил папу, но его волосы были жиденькие, ломкие, рыжеватые, с уже проглядывающей проплешиной. Я был счастлив, что унаследовал мамины волосы, хотя мои и были прямые, как нити, а ее завивались, очень мило обрамляя лицо кудряшками.