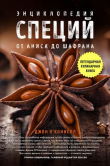Текст книги "Принцесса специй"
Автор книги: Читра Дивакаруни
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Я хотела возразить: не мое это дело судить тебя, да у меня и нет такого желания. Как Повелительница Специй, я не вправе. Как женщина и столь же несовершенное человеческое существо – не смею. И, кроме того, ты сам уже осудил себя достаточно, год за годом переживая об этом.
Но у меня получается только положить свою руку на его со словами:
– Равен, ты слишком несправедлив к себе.
Он передернул плечами, и я увидела, что его вряд ли удастся переубедить.
– Моя мама умела держать себя в руках – никогда не позволяла себе вспылить, но однажды я все же заставил ее потерять терпение. Я почувствовал горькое удовлетворение, когда она начала выговаривать мне, сначала тихо, а потом все повышая тон при виде того, как я принимаю нарочито равнодушный вид, пока наконец не заорала: «Я не знаю, чего ты этим добиваешься, ну что с тобой будешь делать». Она всегда умела себя одернуть вовремя, прежде чем сказать что-нибудь действительно резкое: даже в этот раз я невольно испытал восхищение. Но немного погодя я пошел в ванную и пристально посмотрел на свое отражение в зеркале. Я провел пальцами по своим волосам, которые, казалось, с каждым днем делаются все грубее. Дотронулся до выпирающих скул. Я яростно прошипел себе слова, которые, конечно же, крутились в голове моей мамы все время: «Чего же еще от тебя ждать, индейское отродье».
Так много времени прошло с тех пор, а я все еще слышу в его голосе осадок горечи от ненависти к тому, к кому испытывать ее – самая тяжкая доля.
– Но почему ты уверен, что она так думала? – спрашиваю я. – По тому, что ты мне рассказал, она не кажется человеком…
– Да, я и сам иной раз думаю, что неправ, – перебил он меня. – И старые воспоминания детства приходят ко мне: например, дождливые дни, когда мы вместе грелись под лоскутным одеялом, и она читала мне вслух; или когда я болел, а она сидела всю ночь, прикладывая лед мне к голове. Тогда я говорю себе: я ошибся, все сильно преувеличил. Но затем ясно вижу тот день: мы у дощатого дома, из которого пахнет грязными одеялами и пеленками. Вспоминаю омерзение в ее голосе, когда она остановилась и велела мне все это запомнить. Отвращение к этим мужчинам, поедающим поджаренный хлеб с соусом, который стекал с их подбородков, к женщинам, привычно откидывающим голову, чтобы хлебнуть из бутылки. И одновременно отвращение к себе, в ком была и всегда останется часть всего этого, несмотря ни на какие усилия.
А если она сама себя так ненавидела, думал я, то – что оставалось мне.
Если бы мы смогли поговорить о том дне хотя бы разок, если бы мы открыто поссорились из-за него, может быть, все в конце концов и наладилось. Но она не могла. Ее прошлое слишком глубоко в ней засело, как отломанный наконечник стрелы в теле: ты живешь, тихо нося его в себе, но не пытаешься вытащить, потому что тогда он может там шевельнуться – и на этот раз дойти до самого сердца.
Теперь-то я все это вижу, но тогда я был маленьким, а она взрослым человеком, тем, от кого я зависел. Поэтому я ожидал, что она сделает первый шаг. Ждал и ждал, болезненно, смущенно и зло, а потом стало уже слишком поздно.
…Я гляжу на него в свете последних закатных лучей: как он стоит и смотрит на океан, глаза сощурены от золотого ослепительного блеска. Как много пройдено с того момента перед зеркалом в ванной до этой минуты, когда перед ним – океан, соединившийся с небом. Он держится с такой уверенностью, что, глядя на него, трудно поверить, что с ним могут быть связаны слова: «болезненно, смущенно и зло». Хотя где-то внутри него они все еще запечатлены, и я должна их там отыскать и осторожно вытащить.
Но я не могу, пока не узнаю всего. И поэтому должна попытаться спросить:
– Что еще, Равен, что еще так разозлило тебя?
Он довольно долго молчал, и я уже подумала, что не ответит. Но затем произнес так тихо, что я вынуждена была напрячь слух, чтобы расслышать:
– Птица.
– Да, та прекрасная черная птица, которую вспугнул мамин крик, – она так и исчезла в небе, со своими печальными рубиновыми глазами, своим почти человеческим криком. Она снилась мне время от времени, и, когда я просыпался, мою ладонь пощипывало в том месте, где на ней лежало и растворилось перо. И я снова вспоминал, как мой прадедушка держал меня за руки.
И тогда во мне с новой силой вскипала злость на мою мать, хотя, как свойственно детям, я переносил эту ненависть и на себя. Сначала я думал, что по ее вине упустил птицу и потерял все, что она могла мне дать. В следующий момент я ругал уже самого себя за то, что слишком долго соображал, когда возможно было еще что-то сделать. Почему я не ухватил, не удержал ее, почему не прокричал «да» чтобы перекрыть ее «нет»? И еще я размышлял о той непостижимой силе, которую ощутил в какой-то миг как откровение, в той комнате у постели – это было похоже на ошеломительную вспышку жара, как будто ты внезапно, ничего не подозревая, резко открыл заслонку печи. Каким-то образом я почувствовал, – хотя у меня нет точных слов, чтобы это толком объяснить, даже себе, – что сам факт этой силы противоречит тому, на что с такой неприязнью указывала моя мама. В ней была какая-то большая правда, перекрывающую всю эту грязь и муть, нищету и пьянство. Она это знала, твердил я себе, и все же помешала мне, так что я потерял это навсегда.
Вот почему я бесился.
Я начал прогуливать уроки и связался с дурной компанией. Я ввязывался в драки и обнаружил, что мне это нравится – вкладывать всю свою силу в удар кулаком и слышать звук, когда он встречает незащищенное тело; не похожий ни на что запах крови, боль в руках, которая на какое-то время заставляет меня забывать о другой боли – внутри.
Однажды мою маму вызвали к директору школы. Она выслушала все молча, а на улице, сев в машину, закрыла лицо ладонями и прошептала – она уже не кричала, так как понимала, что этого я и добиваюсь: «Я больше так не могу. Я признаюсь во всем твоему отцу». Но так и не призналась никогда.
– А твой отец, – задала я вопрос, вспоминая тихого человека, – как он на все это смотрел?
Мы уже дошли до конца пляжа. Позолоченная вода мерно плескалась о выступы черных камней, скорбные трубные звуки, издаваемые тюленями, наполнили воздух. Равен вздохнул и снова заговорил:
– Мы старались, чтобы его не затронула эта безмолвная война между нами. Когда он был дома, мы прилежно старались вести себя приветливо по отношению друг к другу – это был наш молчаливый пакт, единственное, в чем мы действовали сообща, так как оба любили его. Мы нормально разговаривали, улыбались, делали какие-то мелкие дела и даже немного ссорились из-за них, как обычно. Но он все понимал, мы не смогли ввести его в заблуждение. Словно он слышал все невысказанные слова ненависти к ней, которые копились во мне, каждое слово. И они пробивали его сердце и пробивали, как пули, пока не изрешетили его. Каждый день он ходил на работу, но уже с сердцем как решето, из которого в конце концов ушла вся воля к жизни.
Самое грустное было – как он старался сделать нас счастливыми. Он возил нас в особые места на уик-энд, кататься на лодке, смотреть родео во Дворце Быка. Водил в кино. Мы все вместе сидели в его повозке, тесно прижавшись друг к другу: мама в красивом платье – между своими двумя мужчинами, как она нас обычно называла. Люди, попадавшиеся нам на пути, должны были думать, что мы идеальная семейка. Папа шутил, обычно не очень удачно – в шутках он был не силен, – а мы смеялись как безумные, сильнее, чем того стоила шутка, сильнее, чем когда бы то ни было прежде. И так мы ехали в нашей повозке, и она сотрясалась от нашего фальшивого смеха. Папа смотрел на нас, и в глазах его плескалась такая безмерно глубокая печаль, что можно было утонуть. Но как я мог признаться ему в том, что меня мучило, не предав при этом маму? И какой бы гнев я ни таил на нее – я не мог так поступить.
Затем время обернулось против нас.
Я помню этот день как сейчас. Я вернулся из школы, а мама испекла шоколадные пирожные с орехами. Я обожал их. Когда был маленьким, я все время уговаривал ее сделать их. Но в тот день меня это только взъярило: неужели она думает, что может все исправить с помощью горки каких-то пирожных? Я не прикоснулся к ним, хотя умирал от голода, сделал бутерброд, налил молока и поднялся к себе в комнату. Там я жадно набросился на бутерброд, выпил молоко и лег на кровать, полный жалости к самому себе. В доме носился аромат шоколада, и у меня от него сосало под ложечкой. Я не обратил внимания на трезвон телефона. Я думал: лучше мне убежать из дому, пусть они побеспокоятся. Потом я услышал, что она стучится ко мне. Я открыл дверь, готовясь сказать какую-нибудь колкость.
Она стояла там, уже с ключами от машины в руке.
– Нам нужно ехать в госпиталь, – сказала она: на лице смертельная бледность. – Что-то взорвалось на заводе.
И мы пошли, поддерживая друг друга, оба немножко дрожа. Даже сквозь мечущийся по венам страх, от которого все плыло в голове, помню, я смутно ждал, что дальше должно быть все, как обычно бывает в кино. Трагедия, которая снова воссоединит нас. Однако никакого воссоединения не произошло. Ни тогда, ни позже, когда мы сидели у его постели: он смирно и тихо лежал, весь в бинтах, напичканный до одурения обезболивающими – это было единственное, чем доктора могли ему помочь. Видно было, что ему тяжело, по тому, как он рывками втягивал в себя воздух. Но когда через несколько часов он умер, это произошло спокойно: дыхание просто остановилось – так умирают благословенные души, как позже я прочитал в одном буддистском тексте. Его смерть была как и его жизнь: даже самые близкие так и не узнали, как он страдал.
Когда до мамы дошло, что он умер, она принялась плакать: безобразные всхлипы сотрясали все ее тело. Она плакала так, будто ее собственная жизнь закончилась, и, наверное, в каком-то смысле так оно и было. Потому что он был единственным близким человеком, который верил в тот ее образ, что она создала.
Я тоже был потрясен, но отталкивал эмоции – каким-то образом я еще не мог поверить в его смерть, – говоря себе, что разберусь со всем этим позже, в одиночестве. В данный момент надо было позаботиться о маме. Я обнял ее одной рукой и попытался прочувствовать, каково ей сейчас, чтобы понять, как лучше ее утешить. И знаешь, что?
Я испуганно смотрю на него: в его глазах грозовые тучи.
– Я ровным счетом ничего не почувствовал. Ни-че-го. Вот я сидел, обнимая мою рыдающую овдовевшую мать, и знал, что, по идее, я должен был бы испытывать: жалость, сожаление, желание защитить ее и любовь – да, особенно любовь, – но ничего этого не было. Я обнимал ее, потому что это принято в таких случаях, а внутри чувствовал совершенную отделенность и отрешенность, как будто кто-то взял гигантский нож и перерубил между нами все связи, – и даже не только между мною и ей – но и между мной и всем человечеством.
– Это просто от потрясения, – попыталась я его успокоить, но прозвучало сказанное весьма неубедительно даже для меня.
– Если бы так. Но это не ушло ни в последующие недели или месяцы, ни когда я закончил школу. Иногда я чувствую это у себя внутри даже сейчас, – и он снова потер себе грудь, мой Американец, с глазами как пустые провалы в ночное небо.
– Знаешь, Тило, что самое печальное в мире? Когда ты обнимаешь кого-то, кого так любил, что даже одна мысль о ней озаряла все твое существо яркой вспышкой, а в душе у тебя теперь – нет, не ненависть, это было бы лучше – внутри у тебя ледяная беспредельная пустота. Она растет в тебе, и для тебя уже нет разницы, обнимешь ты ее или уберешь руку и уйдешь прочь.
– О, Равен, – выпаливаю я, порываясь запечатлеть сочувствующий поцелуй на щеке того мальчика, которым он был. Потому что мне кажется, что он прав: из всего это самое худшее. Хотя, если честно, откуда мне знать, ведь я так часто меняла старое на новое, не заботясь о том, что осталось позади. Ведь я давно уверовала, что гулкая пустота, живущая в сердце, обычна для человека, как и острая жажда ее заполнить. До последнего времени.
Тут мое сердце сжалось, как будто сдавленное тисками. Потому что наконец пришло время признать, что это любовь. Не восхищение, испытываемое к Мудрейшей, не благоговение, как перед специями. А человеческая любовь, в которой все перемешано: щедрость и требовательность, обидчивость и великодушие. Меня пугает это, как неведомая опасность.
И еще я вижу, что главная опасность коренится не в том, чего я всегда боялась, – в гневе специй и отзыве. А в том, что я обречена на то, чтобы, так или иначе, потерять эту любовь. И тогда – как я смогу это перенести, уже поняв, что отнюдь не неуязвима для чувств?
Подумав об этом, я хочу отпрянуть от Равена, но каким-то образом перед моими губами не его щека, а его губы, и это не мальчик, а мужчина, он обнимает меня, и это не поцелуй сочувствия, а поцелуй обоюдной страсти. Мы целуемся у океана, в последних лучах заходящего солнца, когда ночь уже готова пасть на нас. Мой первый поцелуй: его ласкающий язык, сладкий, настойчивый, у меня во рту – как удивительно (вот что делают люди) – все во мне вскипело и затем замерло, как будто, несясь на очень высокой скорости, я внезапно съехала под откос. И так, пока я не забыла о том, что мне следует стыдиться своего тела, да, желая, как всякая женщина, чтобы это не прекращалось.
Но вдруг послышался смех. Он прозвенел так четко и отрезвляюще, таким насмешливым звоном, что я сразу пришла в себя.
И, даже не глядя, поняла, кто это был.
Да, и их двое: одна легко опирается на руку своего кавалера, другая вылезает из длинной сияющей черной машины с отливающими золотом вставками в колесах, на длинных ногах, в темных шелковых чулках. Все в блеске украшений, бугенвильские девушки отбрасывают назад свои локоны, дышат запахами, которые разливаются в сгущающемся воздухе между нами. Платья с открытыми спинами держатся на них будто по волшебству, с длинным разрезом до середины бедра. Темный бархат и сливки. Их золотисто-коричневые тела горячи и вибрируют, как двигатель автомобиля, готовый к событиям, преодолению расстояний.
Что они здесь делают? Последний раз я их видела в моем магазинчике, они покупали шафран и фисташки.
– Еда здесь не так чтобы очень, – сказала одна из них, – но виды восхитительные.
Теперь я его заметила – ресторан в скале, и такого же цвета; врезанная в стену табличка – двойное стекло и перед ним – океан, который похож на блюдо из золота.
– Да уж, виды, – ответила вторая, и на секунду ее взгляд, трепещущий под пепельно-черными ресницами, остановился прямо на мне. Ее губы – клюква и глянец – изгибаются в усмешке.
Я осознаю, что все еще в объятиях Равена, и вырываюсь.
Ее кавалер, белый мужчина, что-то ей шепчет.
Женщина, в отличие от него, не считает нужным скрываться.
– Ну, что касается некоторых, – начинает она, – мне кажется, здесь дело не во вкусах, – и она оценивающе оглядывает Равена.
На меня накатывает волна жара, взрываясь красными звездочками в глазах. Другая снова смеется, плотнее прижимаясь к мужчине, который держит ее за тонкую талию. В бешенстве я смотрю на хорошенькую линию ее шеи, ее груди.
– Знаешь ведь как это бывает, людей возбуждают разные извращения.
– У, а платье, – присвистнул ее друг, – посмотрите на ее платье.
– Жалкое зрелище, – согласилась другая. – Чего только некоторые женщины не делают, чтобы выглядеть моложе.
Глаза мужчины скользнули по нам скучающе, как будто он и не такое еще видел. И это не стоит его внимания и времени.
– Пойдемте, надо поторопиться, – сказал он, – если хотите успеть поесть до театра.
Дверь ресторана закрылась за ними.
Внутри у меня бурление, оно поднимается от самых ступней и подступает к горлу. Оно цвета грязной пены.
Я злобно жду. Еще секунда – и эта пена выплеснется у меня изо рта древними словами проклятия (не помню, где я их выучила) – и эти девицы…
Но.
– Не обращай на них внимания, – сказал Равен, – это все ерунда, – он стиснул меня за руку повыше локтя, как будто понял мои намерения. – Дорогая моя, – сказал он настойчиво, – они не знают тебя, не знают, кто ты на самом деле. Им нас не понять. Не позволяй им испортить наш вечер, – он продолжал меня так держать, пока я немного не успокоилась.
Но вечер уже был испорчен. Мы в молчании дошли до машины. И когда Равен попытался приобнять меня за плечи, я отстранилась. Он больше не пытался. И не продолжил свою историю. Так, молча, мы проехали через мост, и, оглянувшись, я увидела, что туман приглушил огни и они мерцают трепетно, как умирающие светлячки.
Равен остановил машину у подъезда дома Харона. Посидел немного с включенным двигателем. Когда я только бросила «спасибо», он сказал:
– Я приду завтра.
– Я буду занята, – сказала, вылезая из машины, неуклюжая, неповоротливая и злобно сознающая это, в свете памяти легких молодых ног в нейлоне.
– Тогда послезавтра.
– Я тоже буду занята.
Грубая Тило, – пробивается голос сквозь кружение мыслей. Он-то чем виноват?
– Я все равно приду, – сказал он. – Дай мне руку.
Когда я не послушалась, он сам взял ее и прижал ладонь к своим губам. Затем легким движением провел по моим пальцам.
– Дорогая Тило, – в его голосе звенит нежность, но также и доля иронии, – а я думал, ты мудрая женщина.
Поднимаясь вверх по ступенькам, я накрываю теплый отпечаток от его поцелуя. На лице невольная полуулыбка.
Красный перец
Затем я вспоминаю еще кое о чем, что мне испортили эти девицы, и снова вспыхиваю яростью.
Змеи. Мой единственный шанс увидеть их – потерян.
Дверь в комнату Харона кажется на ощупь хрупкой, как скорлупа. Пустая покинутая ракушка. Еще до того, как я постучала, я уже знала, что никого внутри нет.
Где он может быть? Неужели я опять его упустила? Но на этот раз я пришла в нужное время. Может быть, он сейчас молится и в таком случае не ответит, пока не закончит.
Я немного подождала, потом снова начала стучать. Сначала вежливо и сдержанно, помня о соседях. Затем замолотила ладонью, чувствуя, как ударяются о дерево косточки на руках, и выкрикивая его имя.
За моей спиной она стоит в проеме открытой двери, в ореоле света, льющегося из комнаты, и мягко говорит:
– Сегодня он еще не приходил. Может, зайдете к нам, выпьете чего-нибудь горячего, пока ждете.
Ее большие глаза светятся, как озера лунного света, ее скулы словно вырезаны из гладчайшего камня. Я и не заметила в прошлый раз.
Но все мое существо раздирает вопрос, срочно требующий ответа. Почему он опаздывает, почему опаздывает именно сегодня.
– Заходите, кхала, в доме только я.
– Очень признательна, – говорю я, кусая губы, – но я должна ждать здесь.
– Тогда минуточку, – ответила она.
Она возвращается с дымящимся прозрачным стаканом, который несет, обернув кухонным полотенцем с вышивкой: сиреневый виноград, изумрудно-зеленые листочки. Даже несмотря на свое беспокойство, я заметила маленькие аккуратные стежки.
Я отпила чая. Он крепкий и приправлен гвоздикой. Он наполняет меня терпением, облегчает ожидание.
Женщина – ее имя Хамида – спрашивает, можно ли посидеть со мной. У нее есть немного времени. Шамсур повез Латифу выбирать подарок на день рождения. Они хотели, чтобы и она тоже поехала с ними, но у нее еще были дела. Кроме того, так лучше, что они поехали без нее. Ей всегда кажется, что Шамсур покупает девочке слишком дорогие вещи, и из-за этого они могли поссориться прямо там, в магазине.
Мне приятна ее компания, ее простодушные речи, то, как она мило при этом жестикулирует. Журчащая музыка ее браслетов. Послезавтра Латифе исполняется шесть лет, у них будет небольшое празднование: двое-трое детей из ее класса, несколько человек соседей из индийцев. Харон тоже приглашен, хотя он очень скромный, стеснительный и, наверное, просто подарит девочке подарок накануне. Придется Латифе самой потом отнести ему угощение.
– Он такой застенчивый с женщинами, со мной боится и слово сказать. Когда мы встречаемся на лестнице, он – только скажет «салам алейкум» – и бежит вниз по лестнице, даже не взглянет, не подождет ответа.
Такого Харона я не знала.
– Он и не понимает, какой он симпатичный. Может, конечно, ему все равно. Он всегда ходит непричесанным. Если бы он смотрелся хоть иногда в зеркало, то…
Я уловила в голосе Хамиды опасные нотки, которые могут перерасти в силу, разрушительную для ее семьи.
– А твоему мужу, – строго спросила я, – тоже нравится Харон?
– Кхала, – на ее лице выступил жаркий румянец, как только она поняла, что я имею в виду. Но в ее голосе также сквозил смех, когда она ответила:
– Шамсур мне не муж, а брат.
– Где же твой муж?
Она опустила глаза. Боль чадрой пала на ее лицо.
Я уже сожалею о своих словах. Тило, что за бестактность, ведешь себя как какая-нибудь деревенская сплетница.
– Прости, – поспешно извиняюсь я, – отличный чай. Что интересно за специи ты в него добавила?
– Да нет, – ответила Хамида, – все нормально. Вам я не стесняюсь рассказать, уж не знаю, почему. Человек, который был моим мужем, полтора года назад еще там, в Индии, дал мне талак. [88]88
Талак – развод.
[Закрыть]
Потому что у меня не родился мальчик. И, кроме того, потому что он встретил другую девушку, моложе и симпатичнее. Ее отец ведет обувной бизнес в их городке. Чего желать лучше? – на мгновение ее голос окрасился горечью. – Но, вообще говоря, я просто счастливица по сравнению с другими женщинами, кто оказался в таком же положении, потому что у меня есть такой замечательный брат. Когда Шамсур услышал, что произошло, он взял на работе отпуск на месяц, объяснив это чрезвычайными семейными обстоятельствами.
В то время он работал во «Дворце Мумтаз». Знаешь «Мумтаз»? Замечательный ресторанчик, он как-то водил нас с Латифой туда три или четыре раза. В общем, он приехал в Индию и скандалил там, пока не выбил мне приличные алименты, завел счет на мое имя и достал мне временную визу, чтобы я смогла приехать сюда. Когда я приехала, он предложил мне: «Сестренка, оставайся здесь, со мной – пойдешь учиться, найдешь хорошую работу, встанешь на ноги. К тому же здесь никто не будет обзывать Латифу за то, что собственный отец от нее отказался, никто не будет говорить: «Несчастная девочка». Мне было сначала страшновато: все-таки незнакомая страна, но в конце концов я согласилась. А теперь хожу на курсы «англези» для взрослых, учусь читать и писать по-американски. Может быть, потом освою компьютер в общественном колледже, почему бы и нет.
– Почему бы и нет, – повторила я, и при взгляде на ее ясное, как звездочка, лицо от сердца у меня немного отлегло.
– А знаешь, кхала, правду говорят: Аллах помогает людям, которые делают добро другим. Босс Шамсура открыл новый ресторан, побольше, а Шамсура назначил главным менеджером этого. Теперь у нас даже есть деньги, чтобы найти квартиру получше, но я говорю ему: «Бхаи-джан, зачем нам новые вещи, останемся лучше здесь, с нашими добрыми соседями».
Я вижу, как на ее лице появляется краска смущения при этих словах. Ее глаза невольно останавливаются на двери Харона. И от всего сердца я желаю им обоим того, чтобы ее надежда сбылась.
Уже поздно и холодно, так поздно, что я потеряла счет часам. Мои ноги окоченели от сидения на деревянной лестнице. Шамсур с Латифой давно уже вернулись, и Хамида ушла накормить их ужином. Она вернулась с едой для меня, но мне кусок в горло не лез от сжимающего горло страха. Где ты, Харон?
– Пожалуйста, кхала, пройдите к нам, сядете на диван. А то так недолго и простудиться. Я оставлю дверь приоткрытой – и вы сразу услышите, когда он придет.
– Нет, Хамида, я должна остаться здесь.
Я не сказала ей, что таким образом моя боль может послужить искуплением и защитой для Харона. Но, может быть, она и сама поняла, потому что больше не настаивала. А только сказала:
– Если что, постучите. Я сплю очень чутко.
Невидимые звуки в ночи, не так уж вы мне незнакомы. Но в эту ночь вы приобрели неестественную, особо зловещую явственность. Звук шагов звенит, как молот по наковальне, раскалывая асфальт. Сирены машин дрелью сверлят мне мозг. Крик (животного ли, человека?) долетает до меня из отдаления, как брошенный нож. Даже звезды мигают неровно, как биение сердца бегущего человека.
Поэтому звук неуклюжих шагов кого-то, взбирающегося по лестнице, вламывается в уши, как если бы безумный слон прыгнул в груду камней. Нет. Это напоминает мне звуки, что я слышала однажды в деревне – в той неправдоподобно далекой другой жизни: человек с грохотом врезается в стену, из руки выпадает бутылка. Осколки коричневого стекла, шипение пены, желтая влага впитывается в землю, запах брожения плывет по улице.
Харон пьян!
У меня кружится голова от облегчения и гнева, во мне уже зреют слова упрека: «Ты знаешь, как я за тебя беспокоилась? Посмотри на время – позор! – и чтобы увидеть тебя в таком виде, я сидела здесь, замерзая, целую вечность. Я никогда бы не подумала, что ты на такое способен, тоже мне, правоверный мусульманин». В моих мыслях я уже делаю ему горький, очень густой кофе, в который добавляю миндаль, помогающий очистить дух и сознание.
Затем он преодолевает ближний ко мне лестничный пролет, и я вижу…
Засохшая на лбу, на лице. Густо-красная, как карбункул.
Его кровь.
На мой стук Хамида открыла так незамедлительно, как будто она уже стояла в этот момент за дверью. Она всмотрелась в мое лицо, затем взглянула за мою спину, где лежал рухнувший на ступеньки Харон, сдавленно крикнула: «О Аллах, нет», бросилась за тряпкой и горячей водой. Разбудила брата. Оказавшись более проворной, чем я, извлекла ключи из сжатого кулака Харона. Открыла дверь, и мы наконец смогли внести его в скромную холостяцкую спаленку: на выбеленных известкой стенах не было ничего, кроме двух картинок, повешенных так, чтобы они сразу, как входишь, бросались в глаза. Это – отрывок из Корана, переписанный жирными круглыми буквами урду, и фотография серебряной Ламборджини.
О мой Харон.
– Кхала, не время плакать, – сказала Хамида, эта тоненькая девочка, оказавшаяся гораздо сильнее, чем можно было бы себе представить. – Поддерживайте его голову, вот так. А ты, бхаи-джан, иди позвони врачу.
– В госпиталь? – спросил Шамсур, сутуловатый человек с мягкими глазами, еще не опомнившимися от сна и шока.
– Нет-нет, не стоит, вдруг они сообщат в полицию. А этим мы можем ему навредить. Лучше позвони Рахман-саабу.
Время, казалось, сделало скачок, или это провал в моей памяти, потому что вот уже пришел Рахман-сааб, щеголеватый мужчина с усами, в малиновом бархатном ночном халате и таких же тапочках. Он открывает свою потертую черную врачебную сумку, рассказывает мне, как он работал военным хирургом в Лахоре, армейском госпитале, до того как переехал сюда.
– Я тогда думал, что здесь, за границей, буду в чести, – говорит он, осматривая рану на голове Харона, которую промыла Хамида, – но власти сказали: пройдите такой тест, сякой тест и еще эдакий, да плюс еще устный экзамен. А на экзамене я не понял это их дурацкое американское произношение… Так что сейчас я владелец бензоколонки. Кто знает, что лучше?
Он сделал Харону укол, подождал, пока обезболивающее подействует и он перестанет стонать.
– Но врачевание по-прежнему люблю и поэтому, если что, помогаю друзьям, так сказать, подрабатываю. Чего только я не повидал, чего только не лечил. К счастью, здесь не проблема достать все необходимые медикаменты без лицензии, – он усмехнулся, зашивая в это время рану, затем сделал еще пару уколов, проинструктировал Хамиду о приеме таблеток, которые оставил, сдержанно положил в карман банкноты, которые вручил ему Шамсур.
– И вам хорошо, и мне хорошо, так ведь? Не беспокойтесь особо за своего красавчика. Судьба его миловала. В следующий раз может не так повезти. Такое впечатление, что удар был нанесен железной рукояткой пистолета. Череп мог расколоться, что твоя улиточная раковинка. Позвоните мне, если температура начнет повышаться.
Я слышу его удаляющийся голос, по мере того как они с Шамсуром спускаются вниз по лестнице, обсуждая ситуацию на бирже.
Теперь нас в комнате двое. Хамида не хотела уходить, но я убедила ее пойти немного вздремнуть:
– Твои силы нужны будут завтра, когда я уйду.
Она кивает и ускользает, эта смышленая девочка с глазами лани, которая не задает лишних вопросов, хотя, конечно, ей должно быть интересно, кто я такая и почему здесь. Хамида, я очень надеюсь, что ты залечишь раны Харона и своими нежными ладошками выправишь его жизнь.
Но как она защитит его от новых опасностей?
Я кладу ладонь ему на лоб, призывая боль подняться, перетечь из него в меня. Его глаза закрыты, он спит или без сознания, не знаю. Его грудь так слабо поднимается, что время от времени я подношу руку к его ноздрям, чтобы убедиться, что он дышит. Его лицо в бинтах выглядит бледным и строгим. Ты проиграла, – как будто говорят его сжатые безмолвные губы.
Да, Харон, я тебя проиграла. Я, Тило, сдерживаемая робкими запретами, смущенная собственными желаниями.
Я сжимаю его руки, сосредотачиваю все внимание на них.
Приди, огонь.
Вместо этого его ресницы дрогнули и глаза открылись. Сначала, какую-то долю секунды, они обводят комнату в панической тревоге, не узнавая. У меня же – словно пепел во рту, тело горит и налито тяжестью. Затем: «Леди-джан» – срывается с его губ, и в голосе такая светлая радость, что мое сердце раскрывается ему навстречу, разламываясь, как плод граната. Но прежде чем я нахожу слова, он снова впадает в сон.
Я подхожу к окну, в котором видна предрассветная Дхрува, [89]89
Звезда Дхрува – Полярная звезда.
[Закрыть]звезда решимости, она смотрит на меня немигающе и очень ярко.
Звезда Дхрува, перед тобой клянусь, я не повторю своей ошибки. Я принесу Харону то, что защитит его, чего бы мне это ни стоило.
Я достаю из сумки пакетик с семенами калонджи, что бережно носила с собой весь день. Высыпаю их на ладонь. Мгновение наблюдаю, как они мерцают во влажном свете звезды, затем бросаю лететь в спящий город.
Калонджи, призванный снова напрасно, какие извинения принести тебе? Я могу сказать только то, что уже ты знаешь. Слишком поздно для твоей силы. Теперь только одна специя может помочь Харону.
Что бы вы увидели, если бы оказались у магазинчика этим утром? В сером свете раннего утра сгорбленная старая женщина в серой шали несет груз своего нового обещания, вдобавок ко всем прочим своим обещаниям, чувству вины и разным печалям. Выглядит она устало. Очень устало. Ее пальцы неловко возятся с ручкой двери, она не поддается. Страх пронзает ее уколом крапивы. Неужели магазин снова настроен против нее и никогда больше не позволит войти? Она выкручивает ручку еще и еще, опирается всем весом своего тела. Толкает. И смотрите-ка, дверь внезапно легко открывается, как будто это чья-то шутка, и она чуть не падает внутрь.