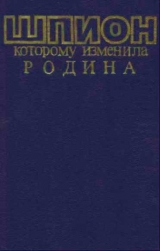
Текст книги "Шпион, которому изменила Родина"
Автор книги: Борис Витман
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Наконец первое сообщение, произнесенное скорбным дикторским басом, с мировым надрывом – о тяжелой болезни любимого вождя Был вечер. Люди повскакивали с нар, выходили из бараков, как сомнамбулы, не зная, в какую сторону податься… У одних на лицах предчувствие невиданной радости, у других – панический страх Третьих не было.
В эту ночь мало кто спал. Ждали очередного сообщения.
А я только одного и ждал – прихода из шахты Василия Крамаренко. Когда он вошел, я по глазам понял, что и он уже знает все. Мы крепко обнялись и долго молчали
Никогда еще в моей жизни не было случая, чтобы я радовался чужой болезни, тем более смерти. Даже трупы гитлеровцев на фронте вызывали у меня скорее жалость, чем злорадство. Хотя оснований ненавидеть их у меня было не меньше, чем у других.
Здесь, за колючей проволокой, с нетерпением ожидая сообщения о смерти Сталина, радовались, казалось, все, по крайней мере – многие. Одни выражали свои чувства открыто, другие их сдерживали. Боялись, а вдруг – ошибка, и тогда… – шкуру ведь снимут с живого… А то и еще хуже.
Василий и я сразу отправились к нашему хорошему приятелю – заведующему лагерной баней. Там наспех оперлись в моечном помещении, втроем, и, как ошалевшие мальчишки, принялись скакать, барабанить по шайкам, распевать песни, притом каждый свою и кое что все вместе… Если кто нибудь мог бы видеть нас со стогны!.. Жу-уть!!. Да простит Господь, мы ликовали и радовались смерти человека… Нет! Не человека – страшного, кровавого чудища… Уже тогда мы знали: в его черный смертный список были занесены представители всех сословий и всех национальностей этой странной и страшной страны. И множество людей за ее пределами.
У него были длинные руки. А туда, куда он не дотягивался, – добирались его подручные. Он не щадил ни стариков, ни детей, ни соратников, ни друзей молодости, ни близких родственников, ни своего собственного сына. Он присваивал чужие революционные, военные и даже научные заслуги и идеи, а потом уничтожал их авторов… Это он погубил сельское хозяйство страны, отбил у людей охоту к груду, любовь к земле. По его указанию были обезглавлены вооруженные силы страны, уничтожен почти весь высший и средний командный сослав Красной Армии Истреблены или репрессированы наиболее талантливые представители науки, культуры, техники.
Он растлил сознание целого поколения, насаждая ложь, раболепие. Он превратил для многих родину-мать в мачеху-предательницу. Он стал фактическим виновником пашей неподготовленности к войне, а может быть, и виновником самого ее возникновения…
Об этом или примерно об этом мы говорили и думали той ночью Да, мы ждали сообщения о его смерти! И я не верю тем, кто заявляет, что не знал, не видел, не думал тогда обо всем этом, если, конечно, человек не затыкал себе уши, не закрывал глаза… Или это так кажется мне сейчас, по прошествии стольких лет? А тогда все было по-другому? Не знаю… Еще не было двадцатого съезда, не было свидетельств Александра Солженицина, Василия Гроссмана, Юрия Домбровского и многих других…
Но ведь были глаза, и были уши. Был здравый смысл. Были, наконец, Норильские лагеря, равно как десятки и сотни других лагерей! Едва ли в ту пору кто-либо мог представить себе масштабы сталинских преступлений, но не видеть их совсем?.. Не верю. Надо было очень хотеть не видеть, не слышать, не знать. Таких и сегодня тьма тьмущая.
Да, огромное количество свидетелей было уничтожено, но уцелевшие сотни, тысячи находились здесь, рядом со мной. Общаясь с ними, я получал бесконечные подтверждения бесчисленных преступлений, творимых Сталиным и его холуями. Видно, большому количеству подлецов все это было нужно и очень выгодно. Не иначе.
Вся огромная масса свидетелей томилась тяжелым ожиданием. И наконец – свершилось! Диктор Левитан надрывно зачитывал сообщение правительственной комиссии. Умер! Умер!.. Он умер.
Ухнуло в тартарары исчадие ада и сам сатана.
Лагерь ликовал. Никто не пошел на работу в шахты Все лагерное начальство, надзиратели и охрана сначала попритихли, а потом вышли из зоны – от греха подальше… Внутри за колючей проволокой оставались только зэки.
На территории нашего лагеря, где были заключенные только по пятьдесят восьмой статье, отдельно стоял барак для уголовников, прислуживавших лагерной администрации. Он был отгорожен от остальной территории, и нам вход туда был запрещен. Обитатели же этого барака – привилегированные урки, могли свободно разгуливать по зоне, заходили на кухню с черного хода, уносили к себе полные котелки (что вызывало, разумеется, ненависть наших зэков). В шахтах никто из них не работал. Этих уголовников перевели к нам из других лагерей, где им грозила неминуемая расправа за издевательства над такими же, как они, зэками, за стукачество и поборы. Среди них был особенно жестокий садист с несколькими судимостями за бандитизм, изнасилования и растление малолетних, по кличке Малютка. В лагере, откуда его перевели, он заведовал штрафным изолятором и был известен своими зверствами. Здесь он носил темные очки, что позволялось, очевидно, только за особые заслуги – носить темные очки в зоне запрещалось.
Урки – народ смышленый и ловкий; они сразу почуяли опасность и забаррикадировались в своем бараке. Почти все остальное лагерное население расположилось вокруг. Стоило кому-нибудь из спрятавшихся высунуться наружу, как на него обрушивался град камней. Но взять барак штурмом не решались – боялись, что охрана, стоящая за зоной, откроет огонь. Хотя любой ветеран-лагерник знал, что стрелять в зону охраннику запрещено уставом. Но тут – кто их знает… Попробуй потом докажи…
Прошло еще немного времени. Несколько человек проникли за ограду и подобрались к самому бараку. Мигом выбили стекла в окнах и стали бросать внутрь камни и зажженные телогрейки. Из барака повалил густой дым. Несколько его обитателей стали выползать наружу. Не поднимаясь с колен, они молили о пощаде, на все лады, как только умели. Но раздались мстительные голоса:
– Изверги!.. Мразь!..
– Продажные твари… Рванина!..
– Доносчики! – в стоящих на коленях летели камни. – Сексоты!!.
Крики о пощаде только усилили поток ругательств. Град камней барабанил по стенам барака, летел в окна. Несколько тел уже неподвижно валялось на земле, другие еще шевелились, стонали. А камни продолжали лететь– отскакивали от бритых черепов, как мячики. Тем временем дым из окон прекратился. Из барака больше никто не выходил. Но люди знали, что там остались самые лютые, самые ненавистные. Снова зажгли телогрейки, подошли к бараку, свалили ограждение, вооружились кольями от ограды и подступили вплотную к дверям.
И вот показались трое. У каждого в руке нож. В центре главарь, как обычно, в темных очках. Он угрожающе крикнул:
– Прочь с дороги, падлы! Зарежу!
Те, что находились ближе, – попятились. Воспользовавшись замешательством, все трое кинулись вперед, размахивая ножами. Но не тут-то было: с размаху в них вонзились десятки заостренных кольев. Раздались дикие, рвущие воздух вопли. Двух подняли над головами, чтобы всем было видно, как они корчились и погибали… «Так ли били их, как били они?., так ли погибали изуверы, как погибали их жертвы?..» Затем бросили на землю и добивали… Третьему, Малютке в темных очках, чудом удалось увернуться. Ударом ножа он свалил того, кто пытался преградить ему дорогу, и прорвался к зонному ограждению, за которым расположились безучастно взирающая на все происходящее охрана. С ножом в зубах он начал ловко взбираться по туго натянутым рядам проволоки, не обращая внимания на острые колючки, раздирающие одежду и тело. Ему оставалось совсем немного до верха, когда острый крюк багра вонзился ему между лопаток. Он взревел от боли, дернулся вверх – крюк впился еще глубже в его тело. Снизу багор уже тянули несколько человек, и было видно, как крюком раскроило ему спину. Наконец он рухнул вниз. Уже не двигался, но расправа продолжалась. Озверевшие люди руками разрывали рану на его спине. Лица у многих были перепачканы кровью. Между тем охрана за зоной все видела, но не вмешивалась, даже когда обреченные в отчаянии обращались к ней за помощью. Своя шкура дороже, – а тут воочию…
Покончив с обитателями барака, разъяренная толпа бросилась на кухню в поисках повара – это был беспредельный вор и стукач. Он обкрадывал зэков и им же продавал ворованные продукты. Нашли его в котле с остатками баланды. Перепачканного овсяной жижей выволокли на улицу. Его грузное тело сотрясала дрожь. Похоже, что от страха он наложил в штаны. Вокруг повара образовалась лужа из дерьма и овсянки. Ему приказали встать на колени и языком слизывать… А стоящие вокруг кричали:
– Вылизывай до блеска, сука! Как мы твои пустые миски вылизывали!..
Он понял, что покорность не спасет, и кинулся бежать. Его тут же повалили, стали бить ногами, кольями, чем попало. Потом несколько человек не поленились– приволокли огромный камень и сбросили ему на голову. Когда после я проходил мимо, камень был сдвинут в сторону и вместо головы я увидел сплющенный диск. Страшное, дикое зрелище! Сбоку выглядывал остекленевший глаз; то, что когда-то было лицом, стало похожим на камбалу. Выдавленный из черепа мозг я принял за овсяную гущу…
Зэкам казалось – вот он, конец многолетнего изуверства. Но так оно не заканчивается – так оно продолжается. Тиран, насильник и мертвый мог бы радоваться, торжествовать победу, в мавзолее, в гробу, или просто на том свете, не имеет значения. Его посев дал бурные всходы, а урожай впереди.
Я не участвовал в расправе, не кидал камни, хотя весь этот сброд был мне так же ненавистен, как и остальным. Девиз «Кровь за кровь – смерть за смерть» долгое время был и для меня девизом. Не говоря уже о воспитанном в нашем поколении чувстве «классовой ненависти», – подумать только: НЕНАВИСТЬ воспитывали… Как будто ее еще надо пестовать! Но во мне неистребимо сидела жалость к жертве, кто бы эта жертва ни была. И тут мне деться было некуда…
Впрочем, я там был не один. В расправе не участвовало довольно много людей. Но наблюдателями были все.
Почти одновременно произошел бунт в находившемся неподалеку спецлагере. Но там восставшие оказались круче наших и захватили в заложники лагерное начальство. В ясный день с крыши нашего барака был виден тот лагерь. Над одним из бараков несколько дней развевался черный флаг. Вскоре дошел слух, что к лагерю стянули воинские подразделения Потом ветер долго доносил звуки выстрелов и автоматные очереди. Черный флаг исчез…
О том, что сделали с восставшими, мы так и не узнали. Поговаривали, что их уничтожили. Это было похоже на правду.
Постепенно лагерная жизнь входила в обычную колею Надзиратели вернулись в зону. Возобновилась работа в шахтах. Все ждали перемен.
Василий Крамаренко написал письмо в Центральный Комитет партии. В нем было перечислено то, что, по его мнению, необходимо было сделать срочно – в первую очередь. Точное содержание всех пунктов я не запомнил, но смысл был таким:
– немедленно созвать внеочередной съезд партии, на котором разоблачить преступления Сталина;
– поставить под жесткий контроль все репрессивные органы и законом ограничить их власть:
– немедленно приступить к пересмотру дел и реабилитации осужденных по пятьдесят восьмой статье;
– восстановить ленинские принципы демократии (он, бедный, все еще называл их «ленинскими-);
– обеспечить подлинную выборность органов власти;
– ограничить права цензуры (на цензуру, как учреждение он не покушался).
Теперь, много лет спустя, вспоминая содержание письма, я думаю, каким светлым человеком надо было быть, чтобы тогда там, за много лет до… Великой Эпохи Реформизма и Восстановления Норм, не только знать, чего хочет нормальный человек и без чего он не может дышать и жить, а еще и добиваться, рисковать, писать письма в ЦК! Таких были единицы на всю страну!
Дошло его письмо до адресата или нет – не имеет значения. Смысл его ясен и сегодня.
Жаль, что Василий Крамаренко не дожил до наших дней. Он умер вскоре после освобождения.
Прокатившаяся волна восстаний и расправ была грозным предупреждением ГУЛАГу. В лагерях стали появляться комиссии из Москвы. То, что они стали освобождать сами, по решению какого-то пленума, дескать «зашевелилась партийная совесть!» – Ложь!.. Они зашевелились пол напором лагерных восстаний и зверях расправ, сведения о которых просачивались в свободный мир
Представители из Москвы обещали пересмотр всех дел. Первыми в нашем лагере вызвали в спецчасть двоих москвичей, один из них был бывший адъютант маршала Жукова. Им предложили написать прошение о помиловании. А спустя две недели вручили авиабилеты до Москвы.
Эти двое были первыми ласточками, улетевшими на свободу. Потом вызвали еще нескольких человек, на которых пришел запрос из Москвы, в том числе и меня Дали бумагу, ручки:
– Пишите прошение о помиловании и готовьтесь лететь домой.
Продиктованный текст был короче краткого – «Прошу меня помиловать» и подпись. Даже без указания, за что осужден, почему прошу помиловать.
Каким оскорбительным мне показался этот текст, опрокидывающий меня снова в ничтожество, – еще раз и снова ни за что Вроде бы ничего не стоило написать эти три слова, но рука не только не поднималась, а бастовала! Подошел начальник спецчасти, спросил:
– В чем затруднение? Или от радости писать разучился?
– Не разучился, – ответил ему так, как ответил бы и сегодня, – только просить о помиловании не буду. Пусть это сделают те. кто отправил меня сюда. Это вам нужно просить о помиловании. Я вины за собой не знаю и в милости не нуждаюсь.
– Чудак человек, – неожиданно ласково проговорил майор, – это чистая формальность.
– Тем более. Могу написать только то, что уже сказал.
– Ладно, пиши что хочешь.
Я письменно изложил все то, что только что произнес вслух, и поставил свою подпись Через несколько дней те. кого вызвали вместе со мной, улетели домой.
Почти все говорили, что я свалял большого дурака Не надо, мол., плевать против ветра – самому же хуже… Но я не жалею об этом и сегодня. С зачетами дней работы в шахте, на стройке и в карьере я сам сократил свой десятилетний срок заключения, и теперь мне оставалось чуть больше года.
Сейчас я представляю, как должен был раздражать власти мой отказ писать прошение о помиловании… Что же касается того, что нас не могли просто отпустить на свободу, то это была И X забота о будущем. Они знали, что эти бумажки смогут им еще пригодиться: во-первых, – никаких компенсаций, никакого имущества; во-вторых – «Прошу помиловать!» – «значит, есть за что, сам просит» и, наконец – когда им вздумается, снова зацепят меня за ребро и уволокут. Все это было не так уж безобидно. Тут мне видится и сейчас один из главных признаков послесталинской сталинщины – длинные шлейфы ее тянутся и по сегодняшним дням. Действительно, отпускаемым на свободу нужно было подчеркнуть, что милость-свобода исходит от властей. А власть захотела – дала, не захотела – не дала. Следовательно, лучше с властями дружить, а еще лучше верно им служить. Но вот именно этого-то как раз мне и не хотелось… Да еще просить их о чем-то?.. Да еще входить с ними в сговор?! Нет. Не быть тому… Наперекор! Только наперекор абсурду.
Теперь это – История. А тогда – во время войны и после – едва ли не главный итог каждого прожитого дня был в том, что этот день – прожит. И если каждый день войны приближал нас к победе или смерти, то каждый день лагерей – больше к смерти, чем к свободе. Каждый день, наконец, заставлял идти на компромиссы, но тут очень важно было не переступить заветную черту. Черту, которую каждый для себя определяет сам. И сейчас, как и тогда, мне есть в чем каяться и перед людьми, и перед собственной совестью. Но просить о помиловании власть и ее карательно-репрессивные органы, которые подвергли меня этому длительному, позорному и изуверскому изничтожению, я не намерен – ни за что. Вот моя заветная черта.
И теперь, пожалуй, главное: они, они, ОНИ!.. Кто же ОНИ?.. Это чтобы не сотрясать воздух зря… ОНИ – кроме всех репрессивных органов (именуемых даже «правоохранительными»), вся структура власти, и над всем этим сооружением – партийная верхушка, купол захвата и насилия – от политбюро до районного масштаба. А дальше – чиновники – мелкие исполнители, потрошители и шакалы. Если МЫ не всегда можем определить, кто же это ОНИ, то ОНИ всегда знают, кто мы, и никогда не перепутают номенклатуру с народом, челядью или образованной частью интеллигенции.
В этой суматохе как-то незаметно растворялись последние дни 1953 года. Я снова взялся за кисть. На этот раз просто так, для себя. Нарисовал акварелью поздравительную открытку и отправил ее домой. (К счастью, она сохранилась.)
Подошел конец и моему сроку. Я получил на руки справку об освобождении и 268 рублей 49 копеек в дореформенном масштабе цен: на питание и проезд.
Предписание: пароходом до Красноярска и далее поездом до города Ярцево. Смоленской области – места моего рождения Только мне там нечего делать – там у меня никого нет!..
Простился с Василием Крамаренко и другими солагерниками, пожелал им поскорее освободиться и вернуться домой.
Спешить на пароход я не стал. Решил подработать немного денег и вернуться в Москву самолетом. Дал только телеграмму. Всего три слова: «Свободен целую Борис»
На это время меня приютил у себя знакомый прораб стройконторы. Заказов на картины и на зеркала у меня хватало. Для начала я сделал большое зеркало прорабу и написал картину маслом. Это был мой первый свободный труд после войны. Сказал ему, что отказываюсь от денег как бы в оплату за жилье Но он и слышать ничего не хотел:
– Ты что, обслуживать меня здесь остался или заработать на дорогу? – заявил он и заплатил.
За месяц я успел сделать несколько миниатюр и с десяток зеркал. У вольнонаемных норильчан в ту пору заработки были немалые, и они готовы были щедро платить за обустройство своего жилья, за иллюзию уюта и нормальности в царство примитива и убогости-тут я им был нужен
Но была и еще одна подоплека моей задержки р Норильске…
Сразу после выхода на свободу я больше всего хотел отправиться к Анне домой Но внутри что-то екнуло и ударило по тормозам – за прошедшие годы могли произойти разные разности. Я узнал, что она работает на том же месте. Дождался, когда она шла с работы. Подошел… Встретились буднично и даже скучно… Мои опасения подтвердились – Анна вышла замуж. Ну что ж… по-житейски нормально.
Из моих друзей, освободившихся раньше меня, в Норильске никого не осталось. Но однажды я встретил Виктора, бригадира нашей строительной конторы. Его оставили на поселение в славном городе. Он снимал комнатушку и работал на заводе. Специальности никакой не имел Осужден был, едва достигнув совершеннолетия. за несколько дерзких ограблений. Сейчас решил не возвращаться к своему прошлому. Ему захотелось учиться, приобрести специальность. На комбинате имелись курсы повышения квалификации электриков, но для поступления требовался опыт практической работы и теоретические знания. Я знал, что Виктор парень способный, и решил помочь ему. Ни вечерам и в выходные дни мы напряженно занимались, а в перерывах он иногда рассказывал о своей жизни до заключения. Рос он в дружной, и, представьте себе, обеспеченной семье. Отец работал секретари райкома партии. Виктор был еще подростком, когда арестовали отца. Мать осталась одна с тремя детьми. Виктор был старшим Тот, кто оклеветал: отца, и занял его место, стал преследовать семью. Сначала их выселили из квартиры. Мать тяжело заболела. Виктор попытался устроиться на работу, но его никуда не принимали. Попрошайничать мешала мальчишеская гордость – как-никак он был сыном первого лица в городе. Чтобы прокормить семью, Виктор не нашел ничего лучше, как забраться в хлебную на латку Своровал он несколько буханок черного хлеба. Впервые за долгое время сестренка и братишка досыта наелись. Матери становилось все хуже, она уже не вставала с постели Соседи посоветовали Виктору обратиться за помощью в областной центр. Добираться надо было попутной машиной. Проехало мимо несколько автомашин, но ни одна не остановилась. Он попытался забраться в кузов на ходу. Ему удалось ухватиться за борт грузовика, но когда стал подтягиваться, увидел в кузове человека, который участвовал в травле их семьи. Человек тоже узнал Виктора и со словами. «Куда лезешь, гаденыш!» пнул его сапогом в лицо. Грузовик тем временем развил большую скорость. Виктор еле держался… Человек со все силой дважды ударил каблуком по пальцам Виктор упал на дорогу. Пальцы распухли и посинели. Он еле добрался до дома.
С этого момента он потерял всякую веру в людей. И решил им мстить… Вскоре умерла мать. Сестренку и братишку забрали в детдом Виктор стал беспризорным и із таких же, как он, несовершеннолетних, организовал шайку. Они грабили продуктовые палатки, магазины. Виктор был ловок и удачлив. Но как веревочке ни виться, а…
В лагере Виктор оказался среди осужденных по пятьдесят восьмой статье. Тут ему повезло – он встретил немало честных, образованных, а главное, порядочных людей; старался забыть прежние обиды и постепенно начал оттаивать. Я обратил на него внимание, когда работал прорабом. Он добросовестно относился ко всем поручениям, был находчив, смел и прямодушен. Тогда я и поставил его бригадиром.
Заниматься с Виктором было легко. Он обладал хорошей памятью, быстро постигал теоретические основы. Собеседование он прошел успешно и был принят на курсы. Завершил учебу и работал сначала старшим электриком цеха, а потом даже получил какое-то повышение. Думаю, и в дальнейшем у него все сложилось относительно хорошо… Хочу так думать.
Заканчивалось короткое норильское лето. Дома меня заждались. В моем кармане уже была нужная сумма денег. Я купил кое-что из одежды, чтобы не выглядеть лагерным вахлаком. Дал телеграмму. Простился с друзьями и отправился в аэропорт «Надежда» – какая издевательская, какая свинская романтика!.. Нет, наши лагерные полубоги, устроители всеобщего счастья, не издевались над нами – они по природе своей были холуи, а по буйному дарованию изуверы (или изуверившиеся) и мастера самопародий. Следите за развитием этих качеств – они и сегодня актуальны.
Долго, мучительно долго ждал я момента этого трогательного расставания… Все еще не верилось, что он наступил. Поверил только тогда, когда под крылом «Дугласа» мелькнули удаляющиеся огни Норильска, и, не знаю почему, ощутил щемящую боль расставания… Прощай проклятая столица Заполярья! Здесь я оставлял почти десятилетний шматок моей молодости, а это целая жизнь, которую нельзя ни забыть, ни возместить.
В Красноярск прилетели ночью. Здесь появилась возможность пересесть на более быстроходный ИЛ-2, и к вечеру мы приземлились в аэропорту Быково.
Встречали меня мама и ее сестра с мужем. Домой ехали на «ЗИМе» (служебной машине дяди) – этакое правительственное роскошество! Я смотрел на изменившиеся улицы, на высотные здания, которых раньше не было. Их тоже строили заключенные. Проехали по Кутузовскому проспекту, выехали на Минское шоссе (которое тоже строили заключенные, еще до войны).
Несколько минут, и вот я дома… Отсюда ушел шестнадцать лет тому назад… Возвращаюсь живым, на своих двоих – вот и вся сказка, вся быль и награда…
23. «ПРОШЛИ ВРЕМЕНА, И ОКОНЧИЛИСЬ ЛЕТА…»
Началось с того, что в Москве меня не прописали. Надо было уезжать за сто первый километр. Я объехал несколько городов в этом радиусе, в надежде устроиться на работу и получить место в общаге, но безуспешно. Всех отпугивала судимость. На очереди был город Серпухов, там требовались строители.
В Серпухов приехал на исходе дня и сразу пошел в Строительное управление. Там действительно требовались мастера, прорабы, инженеры. Иногородним предоставлялось общежитие. К сожалению, рабочий день уже кончился надо было прийти завтра с утра. Возвращаться в Москву не имело смысла. Нужно было куда-то устроиться на ночлег. Начал накрапывать холодный осенний дождь. В гостинице, как обычно, свободных мест не было. Я решил обратиться к первому встречному прохожему. Им оказался хромой мужчина. Он увяз в грязи, и я помог ему выбраться на сухое место. Он тут же вцепился в мой рукав и стал требовать, чтобы я отвел его к Фроське. Но сам не знал толком, где она живет. Как вы поняли, он был не только хромой, но и пьяный – стал материться, чего я не люблю, и даже потребовал трояк в качестве отступного, не понятно от чего…
Ругая себя за потерянное время, я перешел на более освещенную улицу и решил впредь обращаться только к женщинам (что было не менее рискованно). Долго никто не шел… Я подумал: «Неужели это и есть Новая Жизнь на свободе?».
Наконец показались в отдалении сразу две женщины. Они предусмотрительно решили обойти меня, что было хорошим предзнаменованием; тут я обратился к ним так учтиво, будто находился в Вене на Марияхильфештрассе, с почти забытыми словами:
– Уважаемые женщины, сударыни, не пугайтесь, пожалуйста, у меня к вам небольшая просьба!.. – Тирада сработала и даже успокоила их, а просьба была действительно простая: – Как вы думаете, можно здесь, в городе, снять на ночь комнату? Или койку?
Та, что была постарше, сказала:
– Я, так, живу с мужем. Он мне за такое ребро поломает… Вот если Таиска, – она кивнула на спутницу, – полкойки уступит… У нее больше нету.
– Бессовестная, как тебе не стыдно! – как бы испугалась Таиска, но было видно, что все это одно балагурство.
Я коротко сообщил им о своем затруднительном положении.
Они посовещались между собой, и старшая, Зинаида, сестра Таиски, сказала:
– Есть знакомая бабуля, с внучкой вдвоем живут. Свой дом у них. Да только вот не знаем, можно ли рекомендовать вас? Какой вы человек? Хороший или плохой?
Вопрос меня озадачил, и я неожиданно для себя ответил:
– Я… неважный.
Обе опять рассмеялись:
– Ладно уж, возьмем грех на себя. Идемте с нами, это недалеко. И постарайтесь бабуле понравиться. Она такого квартиранта ищет, чтобы внучке в женихи сгодился…
– Э-э, нет, тогда не пойду! Мне сейчас жениться ни к чему.
Сестры снова прыснули со смеху:
– Ну и чудной же вы, еще невесты не видели, а уже отказываетесь. Да никто вас женить не станет. Переночуете и все. Не на улице же вам замерзать…
Бабуля оказалась недоверчивой и очень дотошной. Устроила мне допрос с пристрастием, прежде чем согласилась пустить на постой. Внучки дома не оказалось, уехала в деревню. Угроза внезапной женитьбы миновала – отбой!
На следующий день меня взяли на работу в качестве инженера-строителя. И дали место в общежитии. Зинаида и Таиска стали моими первыми знакомыми в городе, а там постепенно и добрыми друзьями. Я часто заходил к ним после работы. А летом вчетвером – Зина, ее муж, Таиска и я – ездили купаться на Оку.
В общежитии моим соседом по комнате был зав-складом, молчаливый человек-отшельник. Вскоре его куда-то перевели, а вместо него поселили другого, с волевым лицом и тяжелым подбородком. Представился он экспедитором. Вечерами, когда я измотанный возвращался с работы, он старался вовлечь меня в разговоры на политические темы. Все пытался выяснить «мою позицию». Мне это сразу показалось подозрительным. По субботам я обычно уезжал в Москву к родителям и приезжал либо в воскресенье вечером, либо рано утром в понедельник. Однажды он попросил меня сохранять и отдавать ему использованные мною в эти дни билеты на транспорт, якобы для его служебных «экспедиторских» отчетов. Сомнений не было, КГБ продолжало опекать меня. По билетам можно было не выходя из дома проследить мои маршруты. Я притворился простачком и каждый раз по возвращению высыпал перед ним на стол горсть автобусных, трамвайных и троллейбусных билетов, не только своих, но и всех, какие мне попадались под руку.
В Серпухове я пробыл более года и значился уже начальником строительного участка.
Однажды меня вызвали в паспортный стол, забрали паспорт и выдали новый: в нем не было пометки об ограничении местожительства. Тут же сообщили, что судимость с меня снята… Вот так, буднично, и как бы между прочим, завершился этот спектакль…
Я получил расчет, простился с Таиской, ее сестрой и выехал домой в Москву.
Когда в назначенный день и час я явился в Кунцевский райвоенкомат для получения военного билета, меня попросили зайти в соседний кабинет. Двое в штатском встретили меня как хорошего знакомого. Сказали, что являются представителями Комитета государственной безопасности Начали с того, что вручили мне медаль «За победу над фашистской Германией». Поздравили.
– Да ну? – вырвалось у меня. – Выходит, я, все-таки, участвовал в этой кровавой заварухе?..
Крепкие попались ребята, даже не моргнули (видно, наслушались похлеще). Записали какие го данные и обещали отыскать награды, к которым я дважды был представлен на фронте и дважды не успел получить – «по ранению!». Сказали, что в военном билете время нахождения в тылу у немцев будет засчитано как служба в рядах Советской Армии. Время пребывания в заключении– как трудовой стаж А на вопросы в анкетах, был ли в плену, оккупации, имел ли судимость, привлекался ли к ответственности, отвечать: не был, не имел, не привлекался. Снова возник вопрос о моем воинском звании. Я снова изъявил желание остаться рядовым. Коснулись моей деятельности в Эссене и Вене:
– У вас большой опыт. Хотим предложить вам продолжить эту деятельность…
Я вытянул руки и прикрыл веки. Растопыренные пальцы ходили ходуном, как у пианиста при тремуле. Первое время дома и, вообще, ел деревянной ложкой – она не так громко барабанила по зубам и по тарелке.
– С такой нервной системой в разведке нечего делать, – сказал я полномочным представителям, но повернуться и уйти сразу не хватило духу.
Они все-таки оставили номер своего телефона, по которому в случае необходимости… Номер телефона я записывать не стал: звонить к ним у меня не было желания. На том мы и расстались.
Вот таким странным образом была оформлена моя вторая реабилитация. Но, как выяснилось позже, она прошла по внутренним закрытым каналам гебистского ведомства. Третья, официальная – свершилась в апреле 1990 года. Меня вызвали в Военный трибунал и вручили справку о реабилитации. В ней сообщалось, что Постановление Особого совещания при МГБ СССР от 6 марта 1948 года в отношении меня отменено за отсутствием состава преступления. Денежная компенсация в размере двухмесячного заработка мне не полагалась. В деле я значился человеком «без определенных занятий», несмотря на то, что до вынужденного приезда в Москву я работал архитектором города и с должности не увольнялся. В Москве я действительно около месяца был на положений подпольного беспаспортного бродяги. Но вернемся к моей второй реабилитации.








